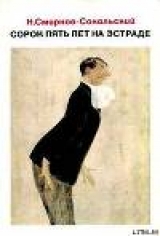
Текст книги "Сорок пять лет на эстраде"
Автор книги: Николай Смирнов-Сокольский
Жанры:
Биографии и мемуары
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 15 (всего у книги 30 страниц)
Генерал нашей Армии Баграмян, армянин по рождению, бился на русских полях одновременно и за свой Ереван и за нашу Москву. Одну песню пели оба города в его сердце!
Грузины, башкиры, таджики, украинцы, белорусы стояли стеной за город великого Ленина, русский город, но такой же для них родной и великий, каким родным и великим он был для сибирских, рязанских, воронежских русских богатырей, несгибаемо шедших в атаку со словами: «За Родину! За свободу народов!»
Победоносно плывет сегодня вперед эскадра народов Советского государства. Каждый народ на своем корабле. Каждый по силам гудит в свой гудок, в гудок своей собственной национальной культуры. Впереди эскадры – флагманский русский корабль, сливаясь с общей симфонией, мощным голосом, на все океаны, вещает миру мир и свободу!»
Среди фельетонов 50-х годов в первую очередь, вероятно, следует назвать «Давай закурим» (1951), посвященный десятой годовщине со дня нападения гитлеровцев на нашу Родину, «Театральный разъезд» (1952), «Проверьте ваши носы!» (1953), где, прибегая к уже не раз выручавшим меня гоголевским персонажам, я вел прицельный огонь по вельможам, «задирающим носы», бюрократам и перерожденцам, отрывающимся от народных масс. И о них же, пренебрегающих простыми людьми и считающих себя чуть ли не богами, – «Путешествие на Олимп» (1954). Наиболее развернутое, полное и точное разрешение тема утверждения подлинно советского демократизма получила в фельетоне «Гвоздь в сапоге» (1955), написанном под впечатлением решений XX съезда партии.
Все большее внимание я стал в эти годы уделять подготовке больших праздничных эстрадных спектаклей, в которых бы объединялись и эстрадные «седые капитаны» и молодежь, причем корифеи вовлекались бы в коллективный труд, с тем чтобы, исполняя свои личные номера, входили бы в общий ансамбль, не рассматривали бы свое участие в спектакле лишь как повод для сольного выступления.
Убежден, что подготовка тематически объединенных, специально подготовленных программ – единственно правильный путь для развития эстрады. В этом направлении и шла работа над такими программами «Эрмитажа», как «Первая весенняя» (1950), «Когда мы отдыхаем» (1952), «Вот идет пароход» (1953). И конечно же, этот принцип был положен и в основу первой программы первого Московского государственного театра эстрады, который наконец-то, в результате наших долгих настояний, был открыт на площади Маяковского летом 1954 года. В этой программе – «Его день рождения», – поставленной режиссером А. Конниковым по моему сценарию, я участвовал в Прологе и читал свое сатирическое обозрение – фельетон «Путешествие на Олимп». Остановлюсь на этом фельетоне несколько подробнее.
«Путешествие» завершало первый акт эстрадного представления. Два молодых выпускника Театрального института (их роли исполняли артисты Толя и Коля Васютинские) решают пойти на эстраду. Им снится чудесный сон – «Большой академический театр эстрады», на фронтоне которого – Аполлон на квадриге лошадей, запряженных в колесницу. Перед занавесом, изображавшим на фоне облаков этот театр, и происходило начало фельетона. Не в силах понять, что это значит, ребята обращаются ко мне:
«…Коля. Вы не можете нам объяснить (указывает на Аполлона) – кто этот мужчина?
Сокольский. Как это? Это же Аполлон! Феб Сребролукий! Бог искусства, предводитель муз, вдохновитель поэтов. Разве вам не объясняли в институте?
Толя. Этого у нас не проходили…
Сокольский. Вернее – проходили, только мимо! Ну, как бы это вам объяснить популярно? Одним словом – в Древней Греции была такая гора – Олимп. Люди верили, что на ней обитают боги. Их была целая куча. Был Марс – бог войны, Венера – богиня красоты, Фемида – богиня правосудия, ну а Аполлон этот самый – бог искусств…
Коля. Вроде как бы, значит, министр.
Сокольский. Вот, вот! Только божественный министр. Вместо персональной машины был у него Пегас, конь вдохновения, были музы: Талия ведала комедией, Мельпомена – трагедией… Ну это уже по-вашему, значит, вроде начальников отделов или главных управлений… Понятно?
Толя. Понятно-то понятно Только неужели всему этому верили?
Сокольский. Ну, верили не верили, это же мифы!
Коля. Это что же такое?
Сокольский. Как, и этого не знаете? Миф – это выдумка, красивая мечта. Вы, скажем, дамские шубки из цигейки знаете?
Толя. Знаем…
Сокольский. Ну вот! На выставке они есть – в продаже нету. Значит, они и есть миф, мечта, выдумка!
Коля. Так, значит, и Олимпа нет?
Сокольский. Да как вам сказать? И есть и нету. Начальников, чувствующих себя богами и олимпийцами, конечно, можно отыскать и сейчас, а так…»
Уступая просьбам ребят, я вместе с ними отправлялся на смешном бутафорском Пегасе на Олимп, познакомиться с богами.
За раскрывшимся занавесом – облака. В облаках – стол. Заседание богов и муз под председательством Аполлона. За столом – Кронос, бог времени, Фемида, Венера, Морфей, Меркурий, Талия, Мельпомена, Бахус. У подножия стола – Прекрасная Елена и Умирающий лебедь. Всех их изображали так называемые «тростевые» куклы, подобные образцовским. За облаками – актеры-кукловоды. Кукла-Марс изображает «дежурного по Олимпу».
На вопрос Аполлона, что привело нас на Олимп, следовал мой ответ:
«Как что? У нас же сегодня премьера, открывается новый театр, надо все увязать, все согласовать, поставить соответствующие печати. А то ведь знаете: Аполлону понравится, Венере – нет, Венере понравится – Меркурий против! Театр – это не ГУМ. В ГУМе, скажем, если покупателю какой-нибудь телевизор не нравится, можно ответить, что вы, мол, товарищ покупатель, в телевизорах плохо разбираетесь, тут техника! А что нам отвечать? В театральном деле все понимают. Сейчас же начнутся письма, вопросы: почему это не отразили, а то не поразили? Тут не только с Аполлоном – с Аполлоновой племянницей считаться приходится.
Ей не понравится – дяде скажет. А знаете пословицу «в огороде бузина, а в Киеве дядька»? Так ведь хорошо, если дядя действительно в Киеве. А если он не в Киеве? Тут все предусмотреть надо…»
Сатирические диалоги с «богами», затрагивавшие различные злободневные темы, заканчивались возмущенной репликой Меркурия:
«…Меркурий. Аполлон! Почему ты не поразишь его громом? Пришелец не знает, что с богами надо говорить другим языком!
Сокольский. Это вы что ж, товарищ Меркурий, на две критики намекаете: одна, мол, для богов и начальства, другая – для простых смертных? Нет, товарищи боги, критика у нас одна. Бог не бог – пожалуйте бриться! А то вот сами-то вы, товарищ Меркурий, как в мифологии значитесь? Бог торговли и плутовства! Ну что это за совместительство, я вас спрашиваю? Вот уж кого действительно разукрупнить необходимо! Торговля чтоб отдельно, а жульничество отдельно! А то ведь путают многие!
Аполлон. И ты пришел на Олимп, чтоб сказать только об этом?
Сокольский. Да не в вас дело! Товарищ Аполлон, вы же поймите! Не первый сатирик я на земле, который берет богов небесных для того, чтобы поговорить о нашем, о земном… Вот вырастит иногда какого-нибудь парнишку народ. Пошлет в университет, в академию, поставит высоко – на, управляй, командуй! И если этот человек сердцем чист – у него от высоты не закружится голова, он не забудет, что всем обязан народу! Но попадаются и другие, мелкие люди, которые, вскарабкавшись на кое-какие вершины, вдруг начинают чувствовать себя личностями необыкновенными, миропомазанными, короче – богами! И сидит такой бог у себя в кабинете, смотрит на посетителей… Впрочем, даже не смотрит! Он их не видит! Он не опаздывает на работу, он «задерживается»! Про него не говорят: «Его нет!» Говорят: «Он вызван в ЦК!»
Товарищи боги! Вас на земле еще, к сожалению, многовато! Иному из вас и занимаемая жалкая кочка – кажется высокой горой! Иной, с позволения сказать шиш или кукиш, строит из себя большое начальство!
Иногда заходишь в гастроном, просишь отпустить тебе двести граммов колбасы и видишь, что режет тебе колбасу не продавец, а сам бог Меркурий!
Обращаешься к секретарше какого-нибудь учреждения и чувствуешь, что с тобой говорит не простая советская девушка, а надменная богиня Венера!
Пословица говорит, что не боги горшки обжигают. Верно! Но ужасно, когда даже те, которые всего-навсего обжигают горшки, вдруг чувствуют себя богами. Хамят! Не уважают друг друга! Откуда такое пренебрежение к советским людям? Кто смеет когда-нибудь забывать, что он живет не в мифологии, а на нашей советской земле, на которой если и есть какие-либо священные слова, то первое-то из них – народ! И каждый, кто хоть на минуту забудет об этом народе, кто б он ни был, – он не только не бог, он уже и не человек! Он вот так же, как эти мои картонные «Аполлоны», – всего-навсего кукла, из которой если выдернуть палку, она превращается в кучу тряпок!
Наш новый театр, дорогие товарищи, стоит на площади, носящей имя поэта,[12]12
Площадь имени Владимира Маяковского. – Ред.
[Закрыть] ненавидевшего все, что недостойно звания человека! Пожелайте же нам в день открытия – быть достойным соседом поэта!»
…Выезжая на периферию и проводя там свои вечера, я выступаю не только в качестве фельетониста, но и – в этом амплуа столица меня почти не знает – конферансье. Веду программу в том же образе и в той же манере, что и читаю фельетоны – разговор по душам со зрителем. Свободная беседа о привезенной программе и о каждом из ее номеров незаметно переходит в чтение фельетона (на своих вечерах обычно читаю не менее двух-трех фельетонов). Такое ведение программы позволяет объединить зал и, вероятно, мало похоже на обычный конферанс. Скорее всего это, пожалуй, напоминает творческие вечера Маяковского, когда он выходил «работать» – по его выражению – со зрителем. Летом он даже иногда, выйдя на эстраду, снимал пиджак и, аккуратно вешая пиджак на спинку, говорил: «Не удивляйтесь! Я же вышел работать, мне жарко».
Без «снятия пиджака», но с той же простотой и непосредственностью, без всякой актерской позы я и стремлюсь работать как конферансье. Веду беседу, а не играю «интермедии», то есть заранее приготовленные пьески, никакого отношения к программе не имеющие…
…Это все – о работе на эстраде. Но уже давно, и не только последние годы, мои рабочие часы, как и досуги, отданы не одной лишь эстраде. Моя библиотека. Пропаганда книги. Рассказы о книгах… И хотя эстрада и книга для меня неотделимы, – это уже тема для особого и большого, самостоятельного разговора…
1948–1955
* * *
На этом обрываются автобиографические записи Николая Павловича о его работе на эстраде, затрагивающие главным образом первоначальные годы его деятельности и довоенный период. Более подробные сведения о его работе во время Великой Отечественной войны и в послевоенные годы даны в материалах документальной хроники «Николай Смирнов-Сокольский. Дела и дни (1898–1962)», публикуемой ниже.
Статьи и выступления

Грозное оружие[13]13
Впервые напечатано в «Комсомольской правде» от 24 октября 1957 года. Частично включено в «Рассказы о книгах» Н. П. Смирнова-Сокольского.
[Закрыть]
Незабываемый тысяча девятьсот двадцатый год. Разбитые вдребезги героической Красной Армией полчища генерала Деникина окопались в Крыму. Главные силы Красной Армии были прикованы к борьбе с панской Польшей, и банды Врангеля добились некоторых успехов.
ЦК партии и Советское правительство решили покончить с Врангелем до зимы. 21 сентября 1920 года был создан Южный фронт под командованием М. В. Фрунзе.
Ни щедрая помощь Антанты, ни возведенные французскими инженерами неприступные укрепления Перекопского вала и Чонгара не помогли барону Врангелю. 16 ноября 1920 года последние остатки белогвардейщины были сброшены Красной Армией в Черное море.
Как всегда, победоносным успехам своей армии помогала вся Советская страна, напрягшаяся, как один человек, в последнем героическом усилии: рабочие ковали оружие, крестьяне везли хлеб, женщины наравне с мужчинами несли все тяготы войны.
Не отставали от других и писатели, художники, артисты.
Большевики придавали огромнейшее значение агитационной работе на фронте. Броские плакаты художников, злободневные песни, хлесткие частушки, веселые рассказы считались немаловажным оружием.
Незадолго до общего наступления я приехал с эстрадной бригадой в политотдел одной из дивизий. В Красной Армии артистов очень берегли и дальше вторых эшелонов не пускали. Однако работы было по горло: пять-шесть выступлений в день были отнюдь не в диковинку.
В первый же день приезда обвешанный револьверами комиссар дивизии поинтересовался:
– Как насчет барона, что-нибудь ядовитенькое имеется?
– Да вот, товарищ комиссар, частушки приготовили, послушайте:
Врангель наш куда-то вылез,
Вот не ждали молодца.
Тятя, тятя, наши сети
Притащили мертвеца! —
и так далее.
Комиссар выслушал частушки и глубокомысленно заметил:
– Ничего, в общем… Конечно, не Пушкин…
– Как не Пушкин? – возразили мы. – На пятьдесят-то процентов во всяком случае Пушкин! Так и писали: две строчки мы, а две строчки Пушкин…
Комиссар рассмеялся и сказал:
– Ну, раз наполовину Пушкин – давайте. Оно, может, целого-то Пушкина белый гад и не заслуживает. Любопытно вот, чем Демьян Бедный порадует. Говорят, тоже приехал…
Популярность у Демьяна в то время была огромная. Почти ежедневно на страницах «Правды» печатались его хлесткие, злободневные, доходчивые фельетоны. Работал он неутомимо и молниеносно. Чуточку грубоватые, сочные, остроумные и верно нацеленные, его стихи в первые годы революции были просто неоценимы.
Демьяна читали в деревне, в окопах. Его ядреные раешники заучивали наизусть, порой по-своему дополняя и переделывая. Он был по-настоящему народным поэтом.
Приехав в штаб Южного фронта, он напомнил о себе, как говорится, «весомо и зримо». Однажды утром мы были разбужены шумом аэропланов. Было их, кстати сказать, тогда очень немного, и летчики называли их «летающими гробами». Черт его знает как они держались в воздухе! Я убежден, что первые паровозы времен Стефенсона, поставленные сейчас рядом с современными тепловозами, возбудили бы меньшее удивление, чем «летающие гробы» времен гражданской войны, продемонстрированные рядом с ТУ-104. Однако они летали!
На этот раз «гробы» разбрасывали и над своими и над вражескими окопами листовки с новыми стихами Демьяна Бедного «Манифест барона фон Врангеля». Листовка была «украшена» двуглавым орлом и, как рассказывали, у белых была первоначально принята «всерьез». Только по ярости белогвардейских офицеров солдаты поняли, что это за «Манифест».
В наших частях листовку встретили дружным хохотом. Среди бойцов было немало участников войны с немцами, которые сумели растолковать кое-какие немецкие слова, вмонтированные Демьяном в текст. Впрочем, слова барона «Мейн копф ждет царскую корону» были понятны всем и без перевода. Зато эти немецкие словечки как нельзя лучше характеризовали иноземную сущность белого барона, опиравшегося на помощь Антанты.
– Молодец Демьян! – говорили красноармейцы. – И посмешил и покурить прислал…
Табак тогда у наших красноармейцев был, а вот с бумагой дела были действительно неважные. Посмеявшись и кое-что запомнив из «Манифеста», красноармейцы пустили его на цигарки. Демьян, впрочем, не обижался.
По укоренившейся собирательской привычке я не скурил демьяновский «Манифест», а бережно сохранил в своей библиотеке.
Сейчас эта памятка гражданской войны чрезвычайно редка. К ней вполне подходят слова Маяковского:
«В курганах книг,
похоронивших стих,
железки строк случайно обнаруживая,
вы
с уважением
ощупывайте их,
как старое,
но грозное оружие».
Грозное оружие – слово – не затупилось и сегодня у наших старых и молодых советских поэтов. Оно всегда наготове.
1957, октябрь
Фельетон на эстраде
Из выступления на творческой дискуссии артистов эстрады и писателей 2 октября 1951 года[14]14
Доклад на совещании артистов эстрады и писателей, организованном отделом эстрады Управления театрами Комитета по делам искусств при СНК СССР и секцией сатиры и юмора Союза писателей СССР 2 октября 1951 года в Центральном Доме работников искусств. Публикуется по стенограмме доклада и авторскому конспекту (с сокращениями).
Отдельные положения доклада, развитые в статье «Сатиру – на эстраду» («Литературная газета», 1953, 7 февраля) даны по тексту статьи.
[Закрыть]
…Мы встречаемся едва ли не впервые для беседы по теоретическим вопросам эстрадного искусства, искусства фельетона в частности. Из предварительных бесед, с товарищами я вынес впечатление, что царит удивительный разнобой, имеется множество мнений по поводу того, как определить, что такое эстрадное искусство и что такое эстрадный фельетон, чем он отличается от фельетона литературного, да и существует или вообще не существует эта разница.
Само собою разумеется, я не собираюсь, да и не могу дать исчерпывающие ответы на все эти вопросы. То, что я хочу вам сообщить, это скорее материалы к содокладу о фельетоне, чем сам содоклад или доклад. Материалы эти, может быть, кое-кому неизвестны или известны не всем и не во всем и потому могут все же представить некоторый интерес.
Мы много и справедливо говорим о Неблагополучии эстрады в организационном отношении. Нет никаких сомнений в том, что все эти организационные вопросы, включая сюда и необходимость коренного изменения всей системы подготовки новых номеров и организации концертов и создание настоящих репетиционных баз – своеобразных фабрик новых номеров, эстрадных школ и студий, открытие сети эстрадных театров, устранение всего, что мешает росту советской эстрады, – требуют самого срочного решения. Значит ли это, однако, что до разрешения организационных неполадок нам не время заниматься методологическими и теоретическими вопросами нашего искусства? Не только не значит, но – убежден – без предварительного разрешения именно вопросов творческих нельзя в полной мере разрешить и вопросы организационные.
Только повышение качества нашей работы, ликвидация отставания от общего роста искусства страны заставит обратить на эстраду настоящее внимание, и тогда всем разговорам об организационных неполадках конец!
Вот почему нас не может не тревожить отсутствие теории и методологии эстрадного искусства, разговорного – в частности.
Эстрада – это прежде всего разговорный жанр! Если в цирке главное – демонстрация физического развития и ловкости человека, дрессура, то там «разговорники» – жанр всего-навсего подсобный. Эстрада же тем и отличается от цирка, что разговорный жанр на ней, во всех его видах, включая и советскую песню, – жанр ведущий, главный. Отставание этого жанра – значит отставание всей эстрады.
С разговорным жанром, правда, неблагополучно не только на эстраде. В сегодняшней «Правде» вы можете прочитать статью о радиовещании, и там прямо говорится: «…репертуар музыкального и литературно-драматического вещания многих комитетов радиоинформации все еще ограничен: по радио нередко передаются слабые в идейном и художественном отношении произведения, к выступлениям привлекаются малоквалифицированные исполнители».
Есть две тенденции. Одна бытует у артистов эстрады – обвинять во всех недостатках одних только руководителей, директоров. Вторая тенденция руководителей – обвинять одних артистов. А виноваты-то обе стороны! И если вину руководства достаточно наглядно подтверждает одно перечисление организационных неполадок, то вина артистов эстрады прежде всего заключается в том, что они не обращали ни малейшего внимания на теоретические и методологические проблемы своей деятельности. Мы работали кустарно, в одиночку, не договорившись ни по одному художественно-творческому вопросу. Приходится повторить, что сегодняшнее совещание едва ли не первое, на котором именно эти, а не организационные вопросы должны быть главными.
К сегодняшнему совещанию я попытался было сделать из имеющихся в моей библиотеке книг и печатных изданий для вас маленькую выставку. Вы, вероятно, знаете, что я «старьевщик» – люблю и собираю старые и новые русские книги. Мне захотелось показать вам кое-что из этой области, имеющее отношение к теме «Фельетон в литературе и на эстраде».
По ряду организационных причин сделать эту выставку пока что не удалось. Однако мною был подготовлен и написан проект этой выставки, и этот проект-аннотация даст нам возможность совершить по ней «воображаемую прогулку», которая, мне кажется, может иметь самое непосредственное отношение к разговору о фельетоне.
Итак, пройдемся, товарищи, по «выставке». Называется она: «Фельетон в литературе и на эстраде». Общая аннотация: «Фельетон на эстраде никогда не был и не может быть явлением обособленным от фельетона литературного. Эстрадный фельетон есть явление литературное и сценическое в органическом взаимосочетании этих двух понятий».
Раздел первый
Фельетон в русской литературе
I. Книга: «Сатиры и другие стихотворения Антиоха Кантемира. Спб. Имп. Академия наук. 1762».
Аннотация: «Князь Антиох Кантемир (1708–1744) – основоположник реально-обличительного, сатирического направления в русской литературе. Первая его сатира – «На хулящих учения» – написана в 1729 году. Последующие носят названия: «На зависть и гордость дворян злонравных», «О опасности сатирических сочинений», «На безстыдную нахальчивость» и т. д. Изобличая феодальную послепетровскую действительность, «Сатиры» Кантемира по форме и содержанию крайне близки к жанру сатирического фельетона и явились образцом для всех последующих писателей, основоположников этого жанра в литературе».
II. Первые русские сатирические журналы, выходившие в 60 – 70-е годы XVIII столетия. Основной жанр их материала – сатирические фельетоны в форме писем, снов, разговоров, посланий и т. д. Журналы этого времени делятся на две части:
Журналы реакционные.
а) книга – «Всякая всячина» 1769 года. Журнал, издававшийся под руководством самой Екатерины. Фельетонисты этого журнала выдвинули лозунг – «не целить на особ», «давать критику в улыбательном духе»;
б) книги: «Поденщина», Спб., 1771. Издавал Василий Тузов;
в) «Ни то ни сио» и «Трудолюбивый муравей», Спб., 1769, – два журнала, издаваемые реакционным писателем Василием Рубаном. Все эти журналы сопутствовали «Всякой всячине».
Журналы прогрессивные.
Первый русский фельетонист-сатирик Николай Иванович Новиков. Портрет работы художника Левицкого. Журналы Новикова:
а) «Трутень» – 1769–1770. Издание первое и второе;
б) «Живописец» – 1772–1773. Шесть его изданий до 1829 года;
в) «Кошелек» – 1774;
г) «Смесь» – 1769. Издание, приписываемое Новикову.
Общая к ним аннотация: «Журналы Н. Новикова полемизировали со «Всякой всячиной», то есть с самой Екатериной. Давали резкую критику «на лицо», вели борьбу за культуру, против низкопоклонства перед Западом, против крепостного права. Публицистическая заостренность, смелое привлечение в качестве материала бытовых сцен судебных постановлений, вопиющих фактов – характерные черты новиковских «писем» и «обозрений», позволяющих считать их несомненными фельетонами».
Далее идут журналы, сопутствующие новиковским:
а) «И то и сио», 1769;
б) «Парнасский щепетильник», 1770. Два журнала, издаваемые Михаилом Чулковым, фельетонистом-сатириком, одним из первых собирателей русских народных сказок и народных песен;
в) «Вечера», 1772. Сатирический журнал, издаваемый сатириком Василием Майковым;
г) «Адская почта, или Переписка храмоногого беса с кривым», 1769. Во втором издании (1788) носит название: «Адская почта, или Куриер из ада с письмами». Журнал, издаваемый сатириком-фельетонистом и романистом Федором Эминым.
III. Сочинение автора «Недоросля» Дениса Фонвизина: «Послание к слугам». Фельетон в стихах антиклерикального характера.
IV. Великий русский публицист-революционер А. Н. Радищев и его многострадальная книга «Путешествие из Петербурга в Москву»:
а) редчайшее первое прижизненное издание, сожженное рукой палача (1790);
б) в таком виде книга эта попала в руки русского читателя (один из рукописных экземпляров того времени).
Аннотация: «Книга Радищева, являясь непревзойденным в русской литературе публицистическим памфлетом, направленным к свержению самодержавия, против рабства и крепостничества, призывающая крестьян к революции, – примечательна с художественной стороны своим жанровым разнообразием, включая обличительно-сатирические зарисовки, перекликающиеся по темам с сатирическими фельетонами «Трутня» и «Живописца».
V. Круг Радищева.
Сатирик Н. Страхов и его сатирические фельетоны:
а) «Сатирический вестник», 1790. Журнал, издаваемый Страховым и единолично им писанный. Страстные выступления его против дворянских безобразий, уродства крепостничества роднят Страхова с Радищевым, уступая ему только в смелости и таланте, а также и в широте революционных выводов;
б) «Карманная книжка для приезжающих на зиму старичков и старушек, невест и женихов, молодых и устарелых девушек, щеголей, вертопрахов, волокит, игроков и проч., – или Иносказательные для них наставления и советы», М., 1791 (второе издание-1795);
в) «Переписка моды, содержащая письма безруких мод, размышления неодушевленных нарядов, разговоры бессловесных чепцов, чувствования мебелей, карет, записных книжек… и т. д.», М., 1791.
Аннотация: «Книги Страхова любопытны не только по содержанию фельетонов, но и по разнообразию их формы». Молодой Иван Крылов. Его сатирические журналы:
а) «Почта духов, ежемесячное издание, или Ученая, нравственная и критическая переписка арабского философа Миликуль-мулька с водяными, воздушными и подземными духами», Спб., 1789;
б) «Зритель», 1792;
в) «Санкт-Петербургский Меркурий», 1793.
Аннотация: «Три журнала, издаваемые молодым Иваном Крыловым до обращения его к жанру басни. «Почта духов» писана им единолично. Все материалы молодого Крылова – по форме и содержанию несомненно сатирические фельетоны».
VI. Девятнадцатый век. Тридцатые годы. Реакционные журналисты, нашедшие в фельетоне удобную форму для нападок на своих литературных врагов и мелкой критики современных нравов.
Фаддей Булгарин и его арена.
а) «Северная пчела», 1830. Комплект газеты, издаваемой Булгариным и его соратником Гречем. Подлую беспринципность этого фельетониста и его «органа» хорошо живописуют слова декабриста – поэта К. Рылеева. Еще до событий 14 декабря поэт-декабрист, выведенный из себя выходками Булгарина, воскликнул: «Когда случится Революция – мы тебе, Булгарин, на «Северной пчеле» голову отрубим!»
б) «Комары. Всякая всячина Фаддея Булгарина», Спб., 1842. Книга фельетонов Булгарина;
в) «Очерки русских нравов, или Лицевая сторона и изнанка рода человеческого», Спб., 1843. Книга фельетонов Булгарина.
Барон Брамбеус (Сенковский). Один из первых фельетонистов, по убеждениям и беспринципности недалеко ушедший от Булгарина, хотя и неизмеримо его талантливей. Его журналы, книги:
а) «Новоселье». Сборник, изданный А. Смирдиным в 1833 году. В нем впервые был напечатан нашумевший фельетон Сенковского «Большой выход Сатаны»;
б) «Библиотека для чтения». Журнал, редактируемый Сенковским. Здесь печатались его фельетоны;
в) «Фантастические путешествия барона Брамбеуса», Спб., 1833. Книга фельетонов Сенковского.
VII. Сороковые годы. Фельетоны Некрасова, Белинского, Григоровича, Тургенева, Достоевского и других.
Литературные сборники, издаваемые революционным поэтом-демократом Н. А. Некрасовым:
а) «Статейки в стихах», Спб., 1843 (две тетрадки). Первый сборник, изданный молодым Некрасовым. Здесь его первый фельетон «Говорун. Записки петербургского жителя Ф. А. Белопяткина»;
б) «Физиология Петербурга», Спб., 1845. Сборник Некрасова, изданный им при ближайшем участии Белинского… В нем – фельетоны: «Петербург и Москва» Белинского, «Петербургские шарманщики» Григоровича, «Петербургские углы» Некрасова, «Петербургский фельетонист» Панаева. Сборник вызвал яростные нападки славянофилов во главе с Аксаковым. Им отвечал Белинский – необычайно остроумно и едко;
в) «Первое апреля». Комический иллюстрированный альманах, составленный в стихах и прозе, достопримечательных писем, куплетов, пародий, анекдотов и пуфов», Спб., 1846. Альманах, изданный Некрасовым. В нем коллективный фельетон Достоевского, Некрасова и Григоровича «Как опасно предаваться честолюбивым снам…».
VIII. «Литературная газета». Комплект за 1840 год. Здесь печатались во множестве фельетоны современных авторов.
IX. «Современник» – журнал, основанный А. С. Пушкиным. В 1847 году он перешел в руки Некрасова и Панаева. Ближайшее участие принял Белинский. В журнале был организован отдел «Свисток», в котором помещали свои фельетоны сатирического порядка Н. А. Добролюбов и Н. Г. Чернышевский. В «Свистке» зародился Козьма Прутков.
X. Пятидесятые годы. Эпоха обличительного жанра.
Журнал «Весельчак» – первый сатирический журнал этой эпохи. Участвовали фельетонисты О. Сенковский (Брамбеус), Петр Вейнберг, А. Злов, А. Суворин (Незнакомец) и некоторые другие.
Добролюбов о направлении сатиры этого журнала отозвался крайне отрицательно.
Уличные сатирические листки, вихрь которых появился в 1858 году. Куплеты и фельетоны, помещенные в них, вызвали отрицательную статью Добролюбова. Листки носили название: «Бардадым», «Безсонница», «Безструнная балалайка», «Говорун», «Ералаш», «Пустозвон», «Смех и горе», «Сплетник», «Фантазер» и др. – образцы этих журналов-однодневок.
Предок знаменитого журнала «Искра» – листок «Знакомые» с приложением «Листа знакомых», издаваемый карикатуристом Н. А. Степановым, позже, вместе с Курочкиным, преобразовавшим свое издание в журнал «Искра». Комплекты этих изданий.
XI. Лучший русский сатирический журнал «Искра». Издавался с 1859 по 1873 год включительно. Участвовали своими фельетонами и куплетами А. Антонович, А. Афанасьев-Чужбинский. П. Боборыкин, В. Буренин, П. Вейнберг, А. Герцен, И. Горбунов, Г. Данилевский, Н. Добролюбов, А. Дружинин, Г. Елисеев, А. Жемчужников, Г. Жулев, Н. Златовратский, П. Засодимский, Вс. Крестовский, братья В. и Н. Курочкины, А. Левитов, Н. Лейкин, Д. Минаев, Л. Михайлов, Н. Некрасов, А. Плещеев, И. Панаев, Ф. Решетников, А. Скабичевский, В. Слепцов, А. Толстой, Глеб и Николай Успенские, Н. Чернышевский, П. Шумахер, П. Якушкин и другие.
Экспонируется комплект «Искры».
XII. Сатирические журналы, сопутствующие «Искре», но не обладавшие, однако, ни ее остротой, ни влиянием.
а) «Арлекин» – редактировали Иванов, затем Павлищев. Издавал Крашенинников. Издавался журнал один 1859 год. Направление журнала главным образом – «увеселительное»;
б) «Гудок» издавался один неполный 1859 год под редакцией Г. Блока (Канибакса). Журнал в то время был абсолютно беззуб. В 1862 году его купил Ф. Стелловский, а редактировать стал фельетонист Д. Минаев («Обличительный поэт»). Минаев выпустил всего 48 номеров, и эти номера по талантливости приближаются к «Искре»;
в) «Развлечение». Существовал с 1859 года до дней Октябрьской революции. Объектом сатирических стрел фельетонистов «Развлечения» был главным образом купеческий быт;
г) «Заноза». Выходил с 1863 по 1865 год. Основатель журнала – М. Розенгейм.
Экспонируются комплекты этих журналов.
XIII. A. Герцен (Искандер) и его соратники.
Аннотация: «Публицистические статьи, очерки, письма Герцена получают подчас характер фельетона, замечательного как социально-политической остротой своего революционного содержания, так и блестящим использованием средств художественного порядка».








