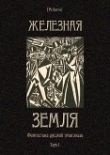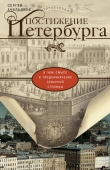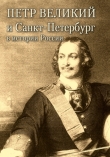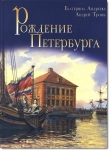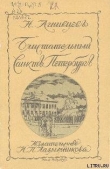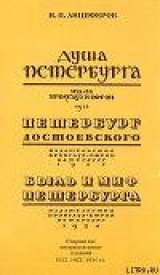
Текст книги "Быль и миф Петербурга"
Автор книги: Николай Анциферов
Жанр:
Культурология
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 6 страниц)
… Грохот Адада наполнил небо,
Все, что было блестящим, превращается в сумрак.
Брат не видит более брата,
Люди в небе друг друга узнать не могут,
Боги боятся потопа,
Они убегают, они поднимаются на небо Ану.
Там садятся, как псы, ложатся на стены
Кличет Иштар, как роженица, громко…
Боги подавлены и в слезах возседают,
Губы их сжаты, и тело трепещет.[151]151
«Грохот Адада наполнил небо…» и т. д. – из аккадской героической поэмы «Гильгамеш» (кон. 3 – нач. 2 тыс. до н. э.), в переводе Н. С. Гумилева (см.: Гильгамеш. Спб., 1919. С. 62). {комм. сост.}
[Закрыть]
Потоп кончен. Постепенно все пришло в прежний порядок. И богиня-мать Иштар вознесла свое ожерелье на небо[152]152
Иштар вознесла свое ожерелье на небо – вольное изложение фрагмента из поэмы «Гильгамеш» в пересказе Б. А. Тураева, ср.:
«Владычица богов Истарь явилась и подняла ожерелье, приготовленное Ану по ее желанию»
(Тураев Б. А. Указ. соч. С. 138).
Иштар (Истарь) – в аккадской мифологии центральное женское божество. {комм. сост.}
[Закрыть] – радугу, как символ торжества космических сил над хаосом.
Однако, опасность хаоса не устранена. До нас дошли глухие отголоски завершения этого мифа древнейших сумерийских преданий. В библии сохранились темные следы этих представлений.
Пророк Исайя говорит о мифическом существе Rahab,[153]153
Rahab – Раав (гр.), Рахав (евр.) – в иудаистической мифологии имя одного из чудовищ. {комм. сост.}
[Закрыть] сраженном «в дни древние, в роды давние мышцей господней» (Ис. 519).[154]154
«в дни древние… господней» – из Книги пророка Исайи (гл. 51, ст. 9). {комм. сост.}
[Закрыть] Псалмопевец воспевает бога, подчинившего морскую стихию.
Rahab – темная сила морской пучины. Жуткий образ моря, в котором играет чудовище Левиофан[157]157
Левиофан – в библейской мифологии морское чудовище (змей или дракон). {комм. сост.}
[Закрыть] (Пс. 10326), напоминающий нам море юрского геологического периода с плавающими в нем плезиозаврами, бронтозаврами и летающими над ним драконами-птеродактилями.
Из всех этих текстов явствует, что морское чудовище олицетворяет силу зла, с которым борется, побеждая в борьбе Иагве.[158]158
Иагве (Ягве) – главное божество в иудаизме. {комм. сост.}
[Закрыть]
На почве этих библейских представлений получил свое завершение халдейский космический миф. В двенадцатой главе апокалипсиса дано откровение об исходе борьбы с древним хаосом.
Изображением преображенного мира, нового неба и новой земли, и преображенного града Иерусалима, завершается великая космическая трагедия.
«И увидел я новое небо и новую землю, ибо прежнее небо и прежняя земля миновали. Моря уж нет. И я, Иоанн, увидел святой город Иерусалим, новый, сходящий с неба, приготовленный, как невеста, украшенная для мужа своего» (211).[160]160
«Я увидел я новое небо… для мужа своего» – Там же, гл. 21, ст. 1–2 (не точно). {комм. сост.}
[Закрыть]
В библейском повествовании древнего Мардука заменил архангел Михаил. Его культ получил широкое распространение особенно на Западе и впитал в себя культы старых местных религий.[161]161
Смотреть: О. А. Добиаш-Рождественская. – «Культ св. Михаила». {прим. авт.}
О. А. Добиаш-Рождественская… – имеется в виду литографированное издание: Добиаш-Рождественская О. А. Культ Св. Михаила в латинском средневековье V–XIII века. Пг., 1917. {комм. сост.}
[Закрыть] Его изображение в образе могучего юноши, попирающего дракона, сделалось излюбленным сюжетом художников. И Георгий победоносец на коне, повергающий змия, является отображением все того же древнего мифа о борьбе космократора с безликим хаосом.
Исконный миф подобен потоку реки, которая исчезает под почвой, во мраке струит свои незримые воды, и внезапно выступает из-под земли, чтобы на некоторое время продлить свое течение под открытым небом.
Наша петербургская легенда все в том же потоке.
В потрясенном народном сознании зародился миф о Петре, как о сверхчеловеческом существе. Оценка его дела придавала ту или иную окраску его сверхчеловечности. Для одних он явился началом разрушительным, злой силой, антихристом. Для других – силой творческой, благою – полубогом.
Последних было немного. Но среди них оказался гениальный поэт и его слово о Петре прозвучало отчетливо и властно.[162]162
Легенду о царе-преобразователе начали разрушать историки третьей четверти XIX века, начиная от С. Соловьева и Ключевского. В XX в. временный ренессанс Петра в живописи и поэзии, и снова его разоблачение, принявшее, наконец, уродливые формы (смотреть: Пильняк «Никола на Посадьях»). {прим. авт.}
уродливые формы… – имеются в виду рассказы Б. А. Пильняка «Его Величество Kneeb Piter Komondor» и «Санкт-Питер-Бурх», вошедшие в его сборник «Никола-на-Посадьях: Рассказы» (М.; Пг., 1923). {комм. сост.}
[Закрыть] Пушкин придал творимой легенде форму законченного мифа.
* * *
Смысл поэмы «Медный Всадник» стремилось разгадать много исследователей. Валерий Брюсов разделяет все толкования на три группы.[163]163
Валерий Брюсов разделяет все толкования на три группы. Речь идет о статье В. Я. Брюсова «Медный всадник», опубликованной в издании: Библиотека Великих писателей: Пушкин / Под ред. С. А. Венгерова. Спб., 1909. Т. 3. С. 456–458. {комм. сост.}
[Закрыть]
К первой он относит тех, кто усматривает в поэме столкновение двух воль: 1) коллективной (Петр) и индивидуальной (Евгений). Белинский так определяет действие поэмы:
«И смиренным сердцем признаем мы торжество общего над частным, не отказываясь от нашего сочувствия к страданию этого частного… Этот бронзовый гигант не мог уберечь участи индивидуальностей, обеспечивая участь государства и народа… за него историческая необходимость».[164]164
«И смиренным сердцем… историческая необходимость» – из статьи В. Г. Белинского «Сочинения Александра Пушкина: Статья одиннадцатая и последняя» (1846). {комм. сост.}
[Закрыть]
Ко 2-й группе отнесены те, «мысль которых всех отчетливее выразил Д. Мережковский, которые видели в двух героях Медного Всадника представителей двух изначальных сил борящихся в европейской цивилизации: язычества и христианства, отречение от своего «я» в боге и обожествление своего я в героизме».[165]165
«мысль которых всех отчетливее выразил Д. Мережковский… мятеж против деспотизма – цитата из статьи В. Я. Брюсова «Медный всадник» (Указ. соч. С. 456–457). Брюсов имеет в виду статью Д. С. Мережковского «Вечные спутники: Пушкин», изданную отдельной брошюрой (Спб., 1906), где на с. 68–72 излагается основная идея «Медного всадника». {комм. сост.}
[Закрыть]
Третьи, наконец, видели в Петре воплощение самодержавия, а в злобном шопоте Евгения – мятеж против деспотизма.
На основании имеющихся указаний самого Пушкина нельзя притти к бесспорному выводу, а потому истолкование воли гениального поэта остается выражением личных умонастроений толкователей.
К задаче объяснения можно подойти иначе, не дерзая проникнуть в заветные думы творца. Обратимся к самому творению и постараемся осмыслить то, что оно представляет само по себе, как достояние нашей культуры и нашей эпохи.
Еще при жизни Пушкина его цензоров, а среди них и самого Николая I, смутил ясно выраженный в поэме апофеоз Петра. Поэту было предложено отказаться от всего, что подчеркивало обожествление царя. Жуковский, исправляя в желанном для Николая I духе поэму,[166]166
Жуковский, исправляя в желанном для Николая I духе поэму… – в трактовке роли Жуковского Н. П. Анциферов следует за П. Е. Щеголевым, из статьи которого «Текст „Медного всадника“» (Медный всадник: Петербургская повесть А. С. Пушкина. Спб., 1923) он черпал сведения о правке Жуковским пушкинского текста. {комм. сост.}
[Закрыть] постарался затушевать все соблазнительные места, заменяя, например, слово кумир – словом гигант или великан.
«Того, чьей волей роковой
Над морем город основался»:
заменено.
И с распростертою рукой
Как будто градом любовался.
Далее опущено всё гениальное описание «Медного Всадника».
Таким образом апофеоз Петра не был допущен его царственным преемником. Для нас существенно отметить здесь ясное осознание этого апофеоза, которое заставляет подойти к поэме Пушкина, как к мифу, и постараться вскрыть в ней присущие ему черты.
Валерий Брюсов примыкает к третьей из намеченных им групп толкований. Он тщательно анализирует процесс создания образа Евгения.
Сопоставляя все пробные наброски Пушкина, критик отмечает постепенное обезличенье поэтом своего героя.
Первоначально Пушкин намечал характеристику Евгения в бытовых тонах, подробно описывая обстановку его жизни. Евгений должен был быть поэтом. Его мечты подробно обрисованы. Постепенно Пушкин уничтожил все эти черты. Видимо, поэт хотел сделать «бунтовщика» как можно менее значительным, чтобы увеличить контраст между ним и «державцем полумира».
«Приемы изображения того и другого – «покорителя стихий» и «коломенского чиновника» – сближаются между собою, потому что оба они – олицетворение двух крайностей: высшей человеческой мощи и предельного человеческого ничтожества».[167]167
«Приемы изображения того и другого … ничтожества» – Брюсов В. Я. Указ. соч. С. 462 (с неточностями). {комм. сост.}
[Закрыть]
В этом толковании смысла постепенной затушовки образа Евгения – В. Брюсов допускает – существенную ошибку. Вспомним некоторые из вычеркнутых строк:
Он одевался нерадиво:
Всегда бывал застегнут криво
Его зеленый узкий фрак.
или
Неужели уничтожение и этих строк содействовало умалению личности Евгения? Тут заметна другая тенденция. Стирая все эти бытовые черты, Пушкин придает своему герою все более и более отвлеченный, призрачный характер, который соответствует требованиям мифа.
Согласно этому, и Петр дан в совершенно нереальном аспекте, что было сейчас же подмечено цензурой. Царь-реформатор превращен в кумир, вокруг которого совершается мистерия.
Образ Петра глубоко захватил Пушкина. Многие годы творческий дух поэта томился жаждой найти ему выражение. В последние годы Пушкин обратился к научному исследованию личности Петра. Но он не был ослеплен величием преобразователя, наоборот, поэт отдает себе отчет в характере его личности:
А как оценивал Пушкин Наполеона, видно из строк «Евгения Онегина»:
Смысл слов ясен. Петр был совершенно чужд идее: «человек самоцель». Когда-то он сказал:
Жизнь своя, жизнь чужая, тысячи, миллионы – все приносится в жертву коллективному началу – государству.
И тем не менее, Петр является для Пушкина олицетворением благих, хотя и грозных сил. Черты божества благодатной грозы, облик бога-громовика придал ему поэт еще в Полтаве;
Петр, как человек, судим Пушкиным строго. Петр, как творящий дух, беспощадный и грозный, вознесен и удостоен апофеоза.
В поэме «Медный Всадник» Петр очерчен прежде всего, как основатель Петербурга. Пушкин творил миф о герое, призванном провидением основать город.
Но мифотворчество нашего поэта заключалось не в том, что ему пришлось создавать легендарную личность или легендарный факт. Все было дано Пушкину самой историей. Миф заключается в освещении исторического события. Согласно вдохновениям древних религий, Петр облечен в священный покров «основателя города». Ритмом своей речи, выразительной силой своих образов Пушкин явил нам основателя Петербурга, озаренным божественным светом.
Однако, на «Медном Всаднике» лежит печать духа иной, новой культуры. Петр Пушкина не Эней[175]175
Эней – троянский герой; в поздних обработках мифа (в том числе в «Энеиде» Вергилия) получил статус основателя Рима. {комм. сост.}
[Закрыть] Виргилия, благочестивый носитель традиций родного, древнего Илиона.[176]176
Илион – Троя. {комм. сост.}
[Закрыть] Не переносит с собой Петр из «старой Москвы» отеческие заветы. Не благочестивой покорностью судьбе охарактеризован «основатель города» новой эпохи. «Мощный властелин судьбы» своей «волей роковой» вызывает на бой саму судьбу.
Дух Петров – сопротивление природы.[177]177
Дух Петров – сопротивление природы – «Дух Петров сопротивление стихиям» – реминисценция из «Арапа Петра Великого». {комм. сост.}
[Закрыть]
Дерзновенная воля его имеет за собой в исторической перспективе эпоху Ренессанса с ее верой в достоинство и силу человека.
«Медный Всадник» тесно, органически связан с той духовной атмосферой, которая окружает каждый город, возлагая на него своеобразную, только ему присущую печать. Эта поэма зародилась в тех отложениях духа, которые создаются вокруг всяких культурных образований, а в особенности таких многозначительных и сложных, как город. «Медный Всадник» назван «Петербургской повестью». Ее поведала Пушкину северная Пальмира. Она была музой нашего поэта. И он передал нам то, что увидел и услышал, когда в творческом вдохновении его слух наполнил шум и звон, когда разверзлись, как у испуганной орлицы, его вещие зеницы.[178]178
его слух наполнил шум и звон, когда разверзлись, как у испуганной орлицы, его вещие зеницы – парафраз двух строк из ст-ния Пушкина «Пророк» (1826). {комм. сост.}
[Закрыть]
II
Панорама Петербурга. Чудесное основание. Ландшафт и его отражение в поэме. Борьба со стихиями. Нева. Вид набережной при Пушкине. Наводнение. Описание его в поэме. Дом со львами. Площадь при Пушкине. Место Евгения в поэме. Медный Всадник. Фальконе. Апофеоз Петра
Современный нам Петербург хранит в своих недрах многое из того, что вдохновляло в свое время Пушкина при создании им своей поэмы, и прежде всего самого Медного Всадника, гениальное создание Фальконе.
Прогулка в эти места, увековеченные в поэме, погрузит нас в ту атмосферу, в которой некогда создавалась петербургская повесть. Посещение этих мест отдает нас во власть сил гения местности (genius loci), приобщение к ним приблизит нас к пониманию поэмы, углубит и прояснит ее могучие образы.
В этой петербургской мистерии четыре действующих лица: Петр заменяющийся позднее Медным Всадником, творческий и охраняющий дух Космократор; Нева – водная стихия, безликий хаос. Петербург – сотворенный мир. Все действующие лица старого мифа. Наряду с ними выведено новое лицо, созданное проблемой о человеке-самоцели – Евгений – жертва, постоянно приносимая историей во имя неведомых ей целей коллективного сверхличного начала.
В соответствии с этим экскурсия распадается на четыре момента, связанных с этими действующими лицами поэмы – мифа.
Панорама Петербурга с вышки Исаакиевского собора или Адмиралтейства; Нева – у набережной; «Новый дом» со львами, где сидел Евгений; и, наконец, Медный Всадник.
* * *
В своем введении Пушкин разворачивает панораму северной Пальмиры, которая знакома нам по описаниям: Державина, Вяземского, Батюшкова; эта панорама не есть отражение отдельного места. В ней запечатлен синтетический образ Петербурга. В отдельных уголках города мы легко сможем узнать знакомые по Пушкину черты. Но синтетический образ мы, скитаясь по улицам, площадям и набережным города, сможем приобрести после долгого опыта общения с его душой. Каким же путем можно в одной экскурсии хотя бы только отчасти уловить этот синтетический образ? Для этого есть только одно средство: охватить его общий облик с высоты птичьего полета, когда панорама города разворачивается во всю ширь.
К счастью, в той местности, которая является местом действия поэмы, имеются две доступные вышки: Адмиралтейской башни и купола Исаакиевского собора. Изберем последнюю возможность, так как на вышку Исаакия легче всего проникнуть и так как она является самым высоким пунктом Петербурга.
Отсюда раскрываются необъятные дали. Мутное серо-синее море в низких берегах, не сжимающих воды, а покорных им. Окрестности города унылы. Даже успокаивающей геометрически правильной линии горизонта нет. Невысокие холмы искажают ее. Нет ничего очерченного, яркого, выразительного. Легко представить себе и дельту Невы столь же безотрадную, как и ее окрестности. Пушкин в своем введении дает характеристику этому ландшафту. В обрисовке местности подчеркнуты черты убожества и мрака. Пустынные воды, бедный челн по ним стремится одиноко, кругом мшистые, топкие берега, чeрнeют избы тут и там – приют убогого чухонца; лес, неведомый лучам, в тумане спрятанное солнце… глухой шум. Все эпитеты создают впечатление хаоса.
Над хаосом царит творческий дух.
Кто Он, начертанный с большой буквой? Не названо. Так говорят о том, чье имя не приемлется всуе. Пред нами дух творящий из небытия, чудесною волей преодолено сопротивление стихий. «Да будет свет; и стал свет».[181]181
«Да будет свет: и стал свет» – из Бытия (гл. 1, ст. 3). {комм. сост.}
[Закрыть] Свершилось чудо творения. Возник новый мир – Петербург.
Прошло сто лет – и юный град,
Полнощных стран краса и диво,
Из тьмы лесов, из топи блат
Вознесся пышно, горделиво.
Еще раз подчеркнуты тьма и топь и после этого непосредственно «вознесся пышно, горделиво». В дальнейшем описании все эпитеты выражают: гармоничность, пышность и яркость, с преобладанием светлых тонов.
По оживленным берегам
Громады стройные теснятся
Дворцов и башен. Корабли
Толпой со всех концов земли,
К богатым пристаням стремятся.
В гранит оделася Нева,
Мосты повисли над водами.
Темно-зелеными садами
Ее покрылись острова.
Здесь все построено на противоположении тому, что было раньше до акта творения. Быстрое возвышение города не вызывает страха столь же быстрого падения.
Люблю тебя, Петра творенье.
Люблю твой строгий, стройный вид.
Невы державное теченье.
Береговой ее гранит,
Твоих оград узор чугунный.
Каждое слово вызывает близкие образы нашего города. Вот стройные сочетания строгих строений сенатской площади. Вот бесчисленные мосты обильной водами столицы, такие живописные, часто фантастические, всегда индивидуальные. Вот чугунные узоры чудесных решоток Летнего сада, Казанского собора… И среди всего этого – всегда чувствуемая, хотя бы и незримая Нева.
Сопоставление панорамы Петербурга, развернутой перед нами в поэме с той, которая раскрыта нашим плотским взорам, наполнит хорошо знакомый отрывок новым ярким и четким содержанием. Перед нами и «светлая адмиралтейская игла» и «потешные Марсовы поля» и «царский дом» и «твердыня Петропавловской крепости» – все эти образы, доступные единовременно нашему созерцанию.
После первых двух тем: 1) чудесное основание города 2) сопоставление панорамы с ее описанием) можно перейти к третьей, непосредственно из них вытекающей: к определению типа города, к которому относится Петербург. Куда следует его отнести? К числу ли тех городов, что возникали в неведомые времена, развивались стихийно, без плана, как растут на воле деревья, как реки прокладывают свое русло (Москва, Париж, Рим)? Или же к тем, которых породили сложные потребности развивающегося государства в эпоху его культурной зрелости, и в которых ясно виден заранее определенный план и на которых лежит печать разумной воли (Новый Орлеан, Карлсруэ).[182]182
печать разумной воли (Новый Орлеан, Карлсруэ) – идею сопоставления этих искусственно созданных городов с Петербургом Анциферов мог почерпнуть из книги К. Гассерта «Города» (М., 1912). {комм. сост.}
[Закрыть] Правильные линии Васильевского острова, проспекты, исходящие лучами от Адмиралтейства, великолепные здания, придающие органическую цельность архитектурному пейзажу, все это определяет место Петербурга во второй группе. Миф о «чудотворном строителе», «чьей волей роковой над морем город основался» найдет себе опору в целостности облика северной Пальмиры.
Четвертая тема: мотив борьбы со стихиями. Пусть наш город создан в согласии с рассудком, но он вызван к бытию наперекор стихиям.[183]183
в согласии с рассудком, но… наперекор стихиям – переделка стиха из «Горе от ума» А. С. Грибоедова: «Рассудку вопреки, наперекор стихиям» (д. III, явл. 21). {комм. сост.}
[Закрыть] Здесь все свидетельствует о великой борьбе с природою. Кругом ничего устойчивого, ясно очерченного гордого, указующего на небо; все снизилось, словно ждет смиренно, что воды зальют печальный край. И город создается, как антитеза окружающей природе, как вызов ей. Пусть под его площадями, улицами, каналами «хаос шевелится»,[184]184
«хаос шевелится» – из ст-ния Ф. И. Тютчева «О чем ты воешь, ветр ночной?..» (1836). {комм. сост.}
[Закрыть] он сам весь из спокойных прямых линий, из твердого устойчивого камня, четкий, строгий и царственный, со своими золотыми шпицами, спокойно возносящимися к небесам. «Дух Петров сопротивление стихиям»[185]185
«Дух Петров сопротивление стихиям» – реминисценция из «Арапа Петра Великого». {комм. сост.}
[Закрыть] и его город в своем облике запечатлел этот дух Петров. Пушкин называет основателя Петербурга «властелином судьбы». Внизу перед ним, среди деревьев сквера, ближе к реке виднеется памятник Фальконе, в котором выражена эта борьба со стихией в образе торжествующего над ними Петра. Весь образ Петербурга внушает спокойную радостную веру в его будущее, охраняемое Медным Всадником на звонко-скачущем коне.
* * *
После спуска с вышки Исаакиевского собора перейдем к следующей теме: Неве. Наш путь к реке лежит мимо Адмиралтейства. Задерживаться нигде не следует. Остановиться лучше всего в том месте, где поворот набережной образует угол, против которого в воде стоит измеритель подъема воды.
Перед нами – «Невы державное теченье, береговой ее гранит».
Набережная реки производит большое впечатление красивыми, плавными изгибами. Ее парапеты из гранита розово-пепельного. Ее разнообразят полукруглые спуски пристаней, подле которых устроены полукруглые скамьи. Сдержанное и строгое окаймление Невы подчеркивает «державный» характер течения ее обильных вод. Набережная создавалась в период от 1764–1784 годов,[186]186
Набережная создавалась в период от 1764–1784 годов – Дворцовая набережная (от Зимней канавки до Дворцового моста) сооружена Ю. М. Фельтеном в 1772–1773 гг. {комм. сост.}
[Закрыть] в ее создании принимал большое участие Фельтон.
За рекой видны стройные линии старых, невысоких строений Васильевского острова. Перед нами та же панорама, что была и в дни наводнения, воспетого Пушкиным.
Гораздо сильнее изменилась набережная, на которой находимся мы. Адмиралтейство не было испорчено тогда безобразными строениями конца XIX века.[187]187
безобразными строениями конца XIX века – В конце XIX и особенно в начале XX в. Петербург переживал бурный подъем строительства, что «отразилось в напряженной борьбе архитектурных методов и направлений – эклектики, модерна и ретроспективизма» (Архитекторы-строители Петербурга-Петрограда начала XX века. Л., 1982. С. 3). Интенсивная, порой хаотическая и разностилевая застройка исказила историческую планировку города и его «классический» вид. Анциферов, как сторонник ретроспективизма (см. примеч. 241), не принимает архитектурных направлений начала XX века. {комм. сост.}
[Закрыть] Набережной улицы также не было. Пять небольших узких бухт правильной формы прорезывали берег. Канал протекал внутри здания, огибая его внутренние части. Бульвар с невысокими деревьями огибал корпус внешней стороны, упираясь обоими концами в пристани. За Адмиралтейством виднеется Зимний дворец в то время не красный, а окрашенный и два цвета,[188]188
Зимний дворец в то время не красный, а окрашенный в два цвета… При постройке Зимний дворец был окрашен в зеленовато-белый цвет; в пушкинское время – перекрашен в бело-желтый цвет; в 1860-е гг. вторично перекрашен в сплошной кирпично-красный цвет; первоначальная окраска восстановлена в конце 1920-х гг. (указал Г. В. Вилинбахов). {комм. сост.}
[Закрыть] быть может, оранжевый и белый.
Широкое водное пространство пролегает между двумя набережными. Всмотримся пристально в эти колышащиеся в своем течении воды, сдавленные в своем гранитном ложе. Перед нами «побежденная стихия». Однако, всякий петербуржец знает бурные осенние ночи, когда с моря дует порывистый ветер, влажный и теплый, и почерневшая Нева поднимается в своих берегах и начинает казаться такой зловеще-грозной. Сквозь посвисты ветра слышны тревожные сигналы пушечной пальбы…
Основатель Петербурга хорошо знал, где он выбирал место для своего города. Ему не раз приходилось иметь дело с попытками восстания «укращенной стихии». Едва был основан Петербург, как произошло наводнение.
«Работы по возведению валов крепости были прерваны 19 Августа (1703 г.) наводнением, разнесшим часть леса и обратившим на несколько дней в болото место лагерного расположения войск».[189]189
Работы по возведению валов… расположения войск – Петров П. Н. История Санкт-Петербурга… Спб., 1885. С. 40. {комм. сост.}
[Закрыть]
После окончания многолетней северной войны (1721 г.), утвердившей Петербург за Россией, после торжественных празднеств провозглашения Петра императором, Петербург подвергся сильному троекратному наводнению, сопровождавшемуся пожарами.[190]190
После окончания многолетней… сопровождавшемуся пожарами – подробнее об этом см.: Там же. С. 208–209; наводнения и пожары 1721 г. происходили с 5 по 14 ноября. {комм. сост.}
[Закрыть] Через два года и снова в ноябре новое наводнение. Оно повторилось в ноябре и еще через два года.[191]191
Через два года… и еще через два года. За указанные четыре года было четыре наводнения: два в 1723 г. (2 октября и 23 ноября), потом 2 ноября 1724 г. и затем 3–5 ноября 1725 г. (см.: Каратыгин П. П. Летопись петербургских наводнений. Спб., 1889. С. 8–14). {комм. сост.}
[Закрыть]
Эти периодические набеги Невы на новую столицу казались населению зловещими предостережениями грядущего потопа. Так, предвестниками извержения вулкана являются глухие толчки из глубины клокочущего кратера. Мысль о гибели Петербурга от воды укреплялась в сознании народа. Так создавалась почва для «творимой легенды».[192]192
«творимая легенда» – намек на заглавие романа-трилогии Ф. Сологуба «Творимая легенда» (1907–1909). {комм. сост.}
[Закрыть] Ряд поэтов в более позднюю эпоху развил эту тему. Одоевский, Лермонтов, Мережковский создали картины петербургского потопа. Даже французский романтик Жерар-де-Нерваль отдал дань этой теме, сделавшейся модной. Лермонтов набросал картину затопленного Петербурга, от которого остался виден выступающий над водой ангел, указующий на небо (Александрийского столпа). Печерин в поэме изобразил гибель северной столицы от наводнения. Поэт И. Димитриев[193]193
И. Димитриев – опечатка: речь идет о М. А. Дмитриеве. {комм. сост.}
[Закрыть] в стихотворении «Подводный город» представил ропщущее, стонущее море, похоронившее Петербург. Над волной поднимается ангел шпиля Петропавловской крепости.[194]194
Ряд поэтов… Петропавловской крепости. Петербургские произведения указанных авторов подробно рассмотрены в «Душе Петербурга». {комм. сост.}
[Закрыть] Красивая легенда объясняет гибель самого Петра от борьбы с водной стихией.[195]195
Красивая легенда объясняет гибель самого Петра от борьбы с водной стихией. Далее Анциферов излагает реальное историческое событие: осенью 1724 г. Петр I простудился, спасая людей с гибнущего судна в районе Лахты; это обстоятельство роковым образом сказалось на его здоровье. {комм. сост.}
[Закрыть] Он простудился, спасая во время бури тонувших людей, стоя по пояс в воде. Несколько человек, работавших с царем, было унесено водою. Этим событием объяснялась последовавшая вскоре смерть Петра. Умер он, но ему на смену стал на страже города Медный Всадник. Все эти образы пусть пройдут перед нами здесь, перед лицом державной Невы.
Возвратимся к нашей поэме. В основу ее положено описание наводнения 1824 года. Пушкин не был его свидетелем. Он воспользовался описанием В. И. Берха,[196]196
описанием В. И. Берха – речь идет о книге: /Берх В. Н./ Подробное историческое известие о всех наводнениях, бывших в Санктпетербурге. Спб., 1826. {комм. сост.}
[Закрыть] к которому поэт и отсылает всех интересующихся наводнением.[197]197
«Дождь и проницательный холодный ветер с самого утра наполняли воздух сыростью… С рассветом… толпы любопытных устремились на берега Невы, которая высоко воздымалась пенистыми волнами и с ужасным шумом и брызгами разбивала их о гранитные берега… Необозримое пространство вод казалось кипящею пучиною… Белая пена клубилась над водными громадами, которые, беспрестанно увеличиваясь, наконец, яростно устремились на берег… Люди спасались, как могли».
{прим. авт.}
«Дождь и проницательный холодный ветер… как могли» – /Берх В. Н./ Подробное историческое известие о всех наводнениях, бывших в Санктпетербурге. Спб., 1826. С. 59–62. {комм. сост.}
[Закрыть]
Редеет мгла ненастной ночи
И бледный день уж настает…
Ужасный день!
Нева всю ночь
Рвалася к морю против бури.
Не одолев их буйной дури…
И спорить стало ей не в мочь…
По утру над ее брегами
Теснился кучами народ,
Любуясь брызгами, горами
И пеной разъяренных вод:
Но силой ветров от залива
Перегражденная Нева
Обратно шла гневна, бурлива
И затопляла острова,
И пуще, пуще свирепела
Приподымалась и ревела,
Котлом клокоча и клубясь,
И, наконец, остервенясь,
На город кинулась. Пред нею
Все побежало и вокруг
Все опустело – волны вдруг
Вломились в улицы, в подвалы,
С Невой слились ее каналы,
И всплыл Петрополь, как тритон,
По пояс в воду погружен.
Здесь образ Невы дан Пушкиным с мифотворческой силой. Грозное божество безликого хаоса устремляется на разрушение сотворенного мира. Ритм речи, подбор звуков, в котором слышны то отзвуки бури, то клокотанье водной пучины, усиливают впечатление потрясающей картины потопа. Мы легко можем представить, стоя перед воспетой Невой, образ затонувшего Петрополя, превращенного, хотя и не надолго, восставшей стихией в тот город на воде, о котором мечтал Петр вместе со своим строителем Леблоном.
Направо от нас, как уже было отмечено выше, виднеется грандиозное здание Зимнего дворца. Его массивный корпус с беспокойными барочными формами, увенчанный целой рощей статуй, в то время так же выражавших беспокойное движение барокко, а теперь замененных другими, был окружен штурмовавшей его рекою.
Дворец
Казался островом печальный.
. . . .
В тот грозный год
Покойный царь еще Россией
Со славой правил. На балкон
Печален, смутен вышел он
И молвил: «С божией стихией
Царям не совладеть». Он сел
И в думе скорбными очами
На злое бедствие глядел.
Образ Александра подчеркивает смысл образа Петра. Один, смиренный, опускающий покорно перед стихией руки, другой – мощный властелин судьбы, с дерзновенною волей, дух которого – сопротивление природе.
* * *
Пора расстаться с созерцанием великой Невы. Повернем обратно, по направлению Исаакиевского собора. Не доходя до него, остановимся перед нарядным дворцом. Это – дом кн. Лобанова-Ростовского,[198]198
дом кн. Лобанова-Ростовского – здание, построенное А. А. Монферраном в 1817–1820 гг. (совр. адрес: Адмиралтейский пр., 12). {комм. сост.}
[Закрыть] в котором поместилось военное министерство (построен Монферраном – создателем Исаакиевского собора). Здесь мы сможем сосредоточиться на существенном эпизоде поэмы, связанном с личностью Евгения.
Дворец имеет форму прямоугольного треугольника и занимает целый квартал между Исаакиевской площадью, Адмиралтейским и Вознесенским проспектом. Дворец трехэтажный. Нижнему придан характер цоколя, он рустирован. Второй этаж с окнами, убранными наличниками-фронтонами. Третий этаж с небольшими, ничем не отмеченными окнами.
«Спокойная разбивка всего фасада с выисканными пропорциями окон трех этажей заставляет вспомнить лучшие произведения Екатерининской эпохи… Очень удачно решение двух острых углов здания, задача трудная, решенная Монферраном не банально, а чрезвычайно благородно» (Фомин).[199]199
«Спокойная разбивка всего фасада… чрезвычайно благородно» (Фомин) неточная цитата из статьи И. А. Фомина «Август Августович Монферран» (Грабарь И. Э. Указ. соч. С. 576–577). {комм. сост.}
[Закрыть]
Портик с коринфскими колоннами, богатый фриз с играющими эротами и гирляндами, барочный аттик – свидетельствуют о принадлежности этого здания к эпохе упадка классицизма, утратившего первоначальное величие простоты и строгости. Все говорит, что этот дом, если и был здесь во время наводнения, то он был построен недавно и в новом вкусе.
Фасад дворца украшен двумя львами. Их позы выражают тревогу, всклокоченные гривы подчеркивают ее. Львы на страже, готовые броситься на всякого, дерзающего нарушить покой дворца. Им придана некоторая геральдичность, сообщающая торжественность эмблемы герба.
На одном из этих львов спасался от наводнения Евгений…
Тогда на площади Петровой,
Где дом в углу вознесся новый,
Где над возвышенным крыльцом
С подъятой лапой, как живые.
Стоят два льва сторожевые.
На звере мраморном верхом,
Без шляпы, руки сжав крестом,
Сидел недвижный, страшно бледный
Евгений…………….
Осмотримся кругом. Напротив нас поэма из камня – Адмиралтейство,[200]200
Построено Захаровым между 1806–1823 г.г. (Заканчивалось после смерти архитектора, ум. в 1811 г.). {прим. авт.}
[Закрыть] закрытое в значительной степени деревьями сада. Левее – сквер сенатской площади, сквозь деревья которого просвечивают величественные строения сената и синода.[201]201
Построены Росси (1829–1834). {прим. авт.}
[Закрыть] Еще левее простой и строгий манеж,[202]202
Построен Гуаренги (1800–1804). {прим. авт.}
Построен Гуаренги (1800–1804) – здание манежа Конногвардейского полка построено Д. Кваренги в 1804–1807 гг. {комм. сост.}
[Закрыть] недавно заново перекрашенный в два цвета. По левую руку от нас виден грандиозный портал Исаакиевского собора.[203]203
Построен Монферраном (1817–1857).
[Закрыть] Постараемся представить себе этот городской пейзаж таким, каким он был в дни наводнения. Исаакиевский собор еще весь закрыт лесами. Его постройка началась семь лет тому назад. Высокие деревья бульвара и сквера не закрывали раскрывающейся отсюда панорамы. Величественное, легкое, полное спокойного и могучего движения творение Захарова со своей «светлой иглой» гордо возвышалось над бушующей окрест стихией. Современных зданий сената и синода не было, они были построены несколько позднее, еще при жизни Пушкина. Во время наводнения на их месте стояли другие строения. На рисунках начала XIX века здесь изображены более скромные здания.[204]204
более скромные здания – на месте зданий Сената и Синода, возведенных в 1829–1834 гг. по проекту архитектора К. И. Росси, находились дома А. П. Бестужева-Рюмина и купчихи Кусовниковой. {комм. сост.}
[Закрыть] При первом взгляде, при малом масштабе рисунка их даже трудно отличить от сменивших их построек Росси. Можно различить два одинаковых здания в классическом стиле с портиками, соединенных аркой, вознесенной над Галерною улицей. Сенатская площадь казалась бурным озером.
Стояли стогны озерами
И в них широкими реками
Вливались улицы.
Представим здесь на льве сторожевом фигуру бедного Евгения.
На звере мраморном верхом
Без шляпы, руки сжав крестом,
Сидел недвижный, страшно бледный
Евгений. Он страшился, бедный,
Не за себя. Он не слыхал,
Как подымался жадный вал,
Ему подошвы подмывая,
Как дождь ему в лицо плескал,
Как ветер, буйно завывая,
С него и шляпу вдруг сорвал.
Его отчаянные взоры,
На край один наведены,
Недвижны были…
Он всматривался в лежащий за Невой Васильевский Остров. Его строения теперь едва видны, закрытые деревьями сквера. Тогда ничто не заграждало взоров Евгения.
Словно горы
Из возмущенной глубины
Вставали волны там и злились
Там буря выла. Там носились.
Обломки!.. Боже, боже! Там
Увы! близехонько к волнам,
Почти у самого залива,
Забор некрашенный да ива
И ветхий домик: там оне,
Вдова и дочь, его Параша,
Его мечта… Или во сне
Он это видит! Иль вся наша
И жизнь ничто, как сон пустой.
Насмешка рока над землей?
И он как будто околдован,
Как будто к мрамору прикован,
Сойти не может! Вкруг него
Вода – и больше ничего.
Задержимся здесь несколько на теме Евгения. Это один из четырех героев поэмы. Уже выше было отмечено, что Пушкин постепенно все более и более затушевывал образ своего незначительного героя. Это был потомок тех, чье имя в минувшие времена быть может и блистало.
И под пером Карамзина
В родных преданьях прозвучало,
Но ныне светом и молвой
Оно забыто.
Быть может, Евгений был потомок тех, кто был одной из жертв петровской реформы, казненного «по слову и делу государя» сторонника преданий старины, или же просто закабаленного в качестве солдата пожизненно в гвардейский полк. Как бы то ни было, сам Евгений несет на себе вековую тяжесть петровской империи и Петербурга, как ее выразителя. Он – одна из миллионов тварей, превращенных в «орудие одно». У Евгения, исторгнутого из веками сложившегося, крепкого старо-русского быта, нет почвенной, реальной жизни. Он живет случайными мечтами. Его бытие призрачно, как сон.
Наводнение решило его судьбу.
Его сметенный ум
Против ужасных потрясений
Не устоял…
Его терзал какой-то сон…
Он оглушен
Был чудной внутренней тревогой.
И так он свой несчастный век
Влачил, ни зверь, ни человек,
Ни то, ни сё, ни житель света
Ни призрак мёртвый…
Между двумя борящимися силами: безликого хаоса водной пучины – начала разрушительного – и сверхличного гения, определяющего судьбы народов, начала творческого – отдельный человек с его мечтой о личном счастьи утрачивает всякую историческую реальность.
И нам, стоящим здесь на ступенях портика, когда-то «нового дома», между «львов сторожевых», Евгений кажется далеким призраком. Но его трагичная судьба и связанная с ней общечеловеческая проблема не только не утратили своего значения, но приобрели, среди великих событий нашего грозного времени, небывалую остроту.
Осмотримся еще раз кругом. Как много изменилось с тех пор. Проносятся, подпрыгивая по рыхлой мостовой, с резким гудком автомобили. Грохочут переполненные трамваи и порой над ними под проводом вспыхивает яркая искра. Громыхают медленные телеги и быстрой походкой проходит нервный, суетливый петроградец…
Здесь лучше побывать в другие часы, независимо от Экскурсии, задумчивой белой ночью, когда прозрачен сумрак, блеск безлунный и
Ясны спящие громады
И светла адмиралтейская игла.
что прямо перед нами. В этой тишине пустынных улиц явственней прозвучит «зловещее преданье» и мы, освобожденные от рассеивающих впечатление дня, сильнее ощутим над собою власть места.


![Книга Эдем [Пять книг] автора Сергей Подгаевский](http://itexts.net/files/books/110/oblozhka-knigi-edem-pyat-knig-267680.jpg)