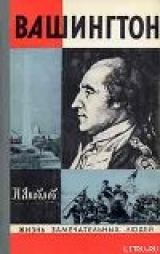
Текст книги "Вашингтон"
Автор книги: Николай Яковлев
Жанры:
Историческая проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 24 (всего у книги 28 страниц)
Он никогда не оставлял долг неоплаченным, Джордж Вашингтон. И в обмен на ключ от Бастилии – материальный дар – послал Лафайету также осязаемое – пряжки для башмаков. «Не ввиду их стоимости, мой дорогой маркиз, но как память и потому, что они произведены в этом городе, я посылаю тебе пару пряжек для башмаков». Что вдохновило президента на этот поступок? Вот еще одна загадка для историков.
С символами французской свободы американский президент распорядился самым эффективным образом. Вероятно, полагая, что его жилище маяк для человечества, Вашингтон вывесил на стене гостиной для обозрения допускавшихся в дом упомянутые предметы – ключ и картину. Дабы подчеркнуть свою беспристрастность, он распорядился поместить рядом писанный маслом портрет Людовика XVI в мантии, со всеми королевскими регалиями. Когда христианнейший монарх лишился трона, Вашингтон, к прискорбию французских эмигрантов-роялистов, приказал снять портрет. Но скорбевшие по королю скоро успокоились – их по-прежнему принимали в доме президента, за столом которого не было видно опасных радикалов.
Из-за океана шли все более тревожные вести – амплитуда колебаний маятника революции во Франции увеличивалась. Лафайет в извиняющемся тоне сообщил, что национальная ассамблея нарушила торговый договор с США, обложив пошлиной американский табак и китовый жир. Вашингтон заверил маркиза-революционера, что США не предпримут репрессалий, а французы по зрелом размышлении пересмотрят свое решение, ибо «мы никогда не испытывали и тени сомнения по поводу дружественного отношения французского народа».
Письмо Вашингтона было проникнуто беспокойством за Лафайета, и в этой связи он развернуто объяснил свое отношение к Французской революции. «Заверяю тебя, что я часто с величайшей озабоченностью думаю об опасностях, которым ты подвергаешься... Нужно всегда опасаться мятежного населения больших городов. Их слепые бесчинства на время уничтожают общественный авторитет, и последствия этого иногда велики и ужасны. В Париже, мы можем предположить, бунты ныне особенно катастрофичны, ибо умы взволнованы и (как всегда бывает в таких случаях) нет недостатка в испорченных и предприимчивых людях, целью которых является смятение и кто не поколеблется, чтобы уничтожить общественное спокойствие ради выгодного положения. Однако пока ваша конституция не будет закреплена, ваше правление не организовано, а представительные органы не обновлены, нельзя ожидать большего спокойствия, ибо, пока все это не проделано, лица, недружественно настроенные к революции, не оставят надежды вернуть прежнее положение дел».
Революция во Франции очень скоро переросла рамки, приемлемые для Лафайета. Он был вынужден бежать и в конечном итоге оказался в австрийской тюрьме, где томился четыре года. Вашингтон как мог пытался облегчить судьбу страдальца, безуспешно добивался освобождения маркиза и даже покривил душой. Зная гордость супруги маркиза и боясь оскорбить ее даже в изгнании, президент послал ей тысячу долларов, присовокупив, что он-де возвращает долг Лафайету. Перипетии революции привели во французскую тюрьму и Т. Пейна. Демократ до мозга костей, он поспешил во Францию помочь торжеству свободы. Вмешаться в его пользу Вашингтон отказался, за что был немедленно заклеймен в США друзьями и почитателями Т. Пейна.
Победное шествие принципов «свободы, равенства и братства» в далекой Франции глубоко затронуло Соединенные Штаты. Патриоты, совсем недавно освободившиеся от тирании короны, многословно убеждали друг друга, что идеи Американской революции приобрели универсальное значение. Кто сомневается, бросьте взор через океан! Только горячие поборники свободы в США из-за дальности расстояния видели лишь общие контуры происходившего и определенно смещали перспективу – события во Франции развивались далеко не так, как шествовала Американская революция под бдительным надзором «отцов-основателей» и прежде всего Вашингтона. Апостолы прав человека в США, конечно, даже отдаленно не были якобинцами. Для них свершения во Франции послужили неотразимым по силе доводом в пользу того, чтобы разобраться в собственных делах.
Споры между Гамильтоном и Джефферсоном, возникшие по конкретным вопросам, стремительно приобрели политическую окраску и выплеснулись за стены кабинета. Сторонники Гамильтона именовали себя федералистами, джефферсоновцы поначалу не озаботились назвать себя как-то по-особенному, удовлетворившись словом «антифедералисты». Французская революция подтолкнула их воображение, и они стали гордо отзываться о себе как о демократах-республиканцах или короче – республиканцах. Итак, с возникновением института президентства в США, правда, в зародыше возникли политические партии. Появление пусть пока нечетких партийных граней привело в замешательство Вашингтона – он-то надеялся быть отцом единой нации.
Джефферсон, проведший пять лет во Франции, никак не находил сходства между США и Французской республикой. Где, допытывался он у президента, желанная свобода в Америке? Вашингтон отмалчивался, Джефферсон наседал, попрекая его пышным церемониалом, установленным для президента. Негодующий Вашингтон попытался объяснить, что это было сделано по совету многих ради создания должного престижа и никого не тяготит больше, чем самого президента. Глядя в смущенные глаза старика, Джефферсон понимал, что он говорит правду. Тогда где виновник? Им неизбежно оказался очень молодой в представлении Джефферсона, приближавшегося к пятидесятилетию, Гамильтон.
Они, припоминал впоследствии Джефферсон, «бросались друг на друга на заседаниях кабинета, как боевые петухи». Спорили, ругались, приводя в глубокое уныние президента. Он попытался мудро развести спорщиков, заметив: «Люди не могут мыслить одинаково, но предпринимают различные меры ради достижения одной цели... Почему вы оба так упорствуете в своих убеждениях, не делаете уступок друг другу? Я глубоко, искренне уважаю вас обоих и горячо надеюсь, что, быть может, удастся нащупать путь, по которому вы пойдете рука об руку». Увещевания президента были совершенно бесполезны. Гамильтон был убежден, что Джефферсон, стоит дать ему волю, потопит США в анархии, а Джефферсон не менее твердо верил, что его противник строит козни, чтобы ввести в США монархический образ правления. Но ни тот, ни другой не ставили под сомнение институт частной собственности.
Раскрыв для себя сатанинский замысел молодого честолюбца, поборник мелкобуржуазной, аграрной демократии Джефферсон решил поднять на ноги американцев, убаюканных, помимо прочего, официальным еженедельником «Газетт оф Юнайтед Стейтс», основанным в 1789 году и находившимся в руках Гамильтона. Джефферсон уговорил друга Ф. Френо создать и возглавить оппозиционный орган «Нэшнл газетт», которая начала выходить в октябре 1791 года. С первого номера «Нэшнл газетт» обрушилась на правительство, разнося в пух и в прах все его меры, за исключением исходивших от Джефферсона. В статьях Френо поносился Гамильтон и все связанное с ним. «Свободные граждане Америки не допустят, чтобы богачи топтали их», – гремела «Нэшнл газетт» и добавляла: «Нужно провести новую революцию в пользу народа».
Гамильтон сначала легкомысленно отнесся к нападкам, отвечать на них не было времени. Он делил время между министерством финансов и обаятельной миссис Рейнольдс (когда г-жа Гамильтон случалась в отлучке). Суровый Джефферсон между тем по уши погрузился к дела – в считанные месяцы он написал свыше четырех тысяч писем, вербуя сторонников и разоблачая министра финансов. «Нэшнл газетт», естественно, докопалась до миссис Рейнольдс и поделилась радостью открытия с читателями. Гамильтон схватился за перо и в сердцах обозвал Френо «лакеем Джефферсона», редактор «Нэшнл газетт» не остался в долгу и т. д.
Президент без труда выяснил, что статьи в газете Френо и высказывания Джефферсона на заседаниях кабинета совпадают до точки. Он негодовал по поводу «негодяя Френо», но оставался корректным с государственным секретарем. В свою очередь, Джефферсон с острым любопытством наблюдал за президентом. Он лицемерно сообщает Мэдисону, ставшему его единомышленником: «Президент выглядит неважно. Неделю или десять дней его трепала лихорадка, что, естественно, сказалось. Его также чрезвычайно обижают нападки в газетах. Я думаю, что они задевают его больше, чем кого бы то ни было. Я искренне сожалею по поводу всего этого».
Повергнутый в скорбь происходившим, Вашингтон попытался смягчить газетную дуэль министров, тем более что на страницах «Нэшнл газетт» стало доставаться и президенту. Нужно умерить страсти, писал он Рандольфу, «прекратить поношение должностных лиц и злобные нападки почти на все действия правительства, которыми переполнены некоторые газеты. Если так будет продолжаться, союз распадется». Трудно сказать, верил ли он в реальность угрозы, несомненно, по крайней мере, одно – президент видел, что затянувшаяся ссора министров отдаляет день его ухода от дел государственных. А он думал, что в 1793 году удастся вернуться в дорогой Маунт-Вернон, и уже сговаривался о тексте прощального обращения к стране с Мэдисоном.
Но как уйти на покой, когда Гамильтон и Джефферсон раздувают политические страсти? Вашингтон испробовал все, чтобы примирить противников, даже взывал к жалости. К сухому Гамильтону обращаться в этом плане было напрасно, и президент попробовал растопить сердце Джефферсона, о возвышенной душе которого старик, как и другие американцы, достаточно понаслышался. Зимним днем в начале 1792 года он пригласил государственного секретаря и затеял необычный разговор. Они уселись в кабинете президента, потягивали любимую Вашингтоном мадеру. И вот что последовало, если верны воспоминания Джефферсона о достопамятном дне.
– Я, как никогда раньше, чувствую холодные, мрачные дни, – пожаловался Вашингтон. – Впрочем, естественно, скоро мне стукнет шестьдесят. Старик!
– Ну нет, сэр, – ответил Джеффереон, – впереди у вас много лет, которые вы проведете в полезных трудах.
– Полезных, конечно, для моей плантации. Если только я выдержу последний год, – вздохнул президент, – с каким облегчением я уйду от государственных дел. Я сыт по горло политической смутой!
– Конечно, сэр. Стоит вам уйти, как уйду и я. Монтичелло привлекает меня не менее, чем Маунт-Вернон вас.
– Вы свет очей моих, друг мой, – разволновался Вашингтон. – У вас нет моих причин, я никогда не хотел государственного поста и принял его под сильным нажимом.
– И я не хотел государственной службы.
– Но, если я останусь у власти, люди скажут, что, вкусив ее прелести, я не могу обойтись без них.
– Никто из знающих вас не скажет этого.
– Да, но многие не знают меня. И, Джефферсон, взгляните, я старею. Здоровье пошатнулось, а память! Всегда была плохой, а теперь еще хуже.22
Прервем запись Джефферсона. Той зимой Вашингтон написал свыше двадцати пространных писем управляющему Маунт-Вернона, обнаружив поразительное знание мельчайших деталей хозяйства.
[Закрыть] Быть может, и в других отношениях я обнаруживаю упадок, который мне самому не виден. Этот кошмар преследует меня. Но моя отставка не означает вашей. Было бы весьма прискорбно, если бы я, получив заслуженный отдых, тем самым нанес удар обществу, лишив его других великих служителей общественному благу.
– Я всегда считал, – отчеканил Джефферсон, – что буду служить лишь до тех пор, пока вы президент. И я устал от трудов, не приносящих вознаграждения и радости. Другие министры так не думают, особенно министр финансов. У него планы на многие годы вперед.
– Но ваш пост много важнее, и вашу отставку сильнее ощутят. В последнее время обнаружилось великое недовольство. Оно увеличится в случае столь крутых изменений в правительстве.
– По моему мнению, – заявил Джефферсон, – существует единственный источник недовольства – министерство финансов!
Вернулись именно к тому, чего Вашингтон стремился избежать. В мае президент получил длинное письмо от Джефферсона. Государственный секретарь требовал, чтобы Вашингтон не отказывался от переизбрания. Почему это необходимо, Джефферсон объяснял в очередной филиппике против министра финансов. Обвинения в адрес Гамильтона были сведены в четкие пункты, их было 21. Тяжко вздыхая, Вашингтон собственной рукой, крупным старческим почерком переписал сочинение государственного секретаря и направил Гамильтону. Не раскрывая источника, он пометил: бумага «исходит от человека, не очень дружественного правительству». Как и следовало ожидать, Гамильтон в энергичном и менее пространном меморандуме отверг поклеп на него, особенно возмущаясь инсинуациями насчет коррупции, свившей-де гнездо в стенах его министерства.
Вашингтон метался в эти летние и осенние месяцы 1792 года. Он уезжал в Маунт-Вернон, возвращался в Филадельфию. Дряхлел на глазах, филадельфийцы недоверчиво покачивали головами, видя ссутулившегося, молчаливого президента за стеклами кареты. На заседаниях кабинета он пытливо вглядывался в лица министров – на них был написан приговор – переизбираться! Только в этом кабинет был единодушен.
Пришли выборы, кандидатура Вашингтона была одобрена единогласно. Гром разразился над головой вице-президента Д. Адамса. Республиканцы неплохо поработали. «Рептилия!», «Аристократ!», «Монархист!» – кричали их газеты и пронзительнее всех «Нэшнл газетт». Когда 13 февраля 1793 года подсчитали голоса выборщиков, выяснилось, что Адамс имел незначительное большинство. В конгресс прошло множество сторонников Джефферсона, что предвещало новые хлопоты Вашингтону.
Республиканцы повели наступление, не дожидаясь созыва нового конгресса. Примерно за пять недель до роспуска старого они потребовали отчета от министра финансов в расходах за предшествующие четыре года. Расчет представлялся безупречным – физически было невозможно в считанные дни составить гигантскую роспись доходов и расходов республики. Вашингтон пришел в отчаяние – газета Френо предвкушала изобличение Гамильтона в воровстве, что покажет в подлинном свете монархистов и, конечно, президента, пригревшего этих змей. Обвинения в коррупции открыто бросались и в конгрессе. Гамильтон разочаровал ожидания – засев в министерстве с ближайшими сотрудниками, позабыв о прекрасной миссис Рейнольде, он считал. Бледный от бессонных ночей, он явился в конгресс и представил отчеты. Цифры были безупречными. Республиканцам ничего не оставалось делать, как заявить, что они все равно не верят, ибо только коррумпированные люди, втайне вздыхающие по тирании, искушены в окаянной бухгалтерии – хитрой науке, враждебной подлинным друзьям свободы.
4 марта 1793 года Вашингтон давал присягу, он вступал во второй срок президентства. 1789 год казался далеким, золотым прошлым. Толпа, собравшаяся поглазеть на церемонию, была шумной, но нет-нет да раздавались голоса неодобрения. Сенат остался в основном федералистским, в палате представителей преобладали республиканцы.
В «Нэшнл газетт» (Френо озаботился ежедневно посылать президенту по два номера) Вашингтон мог усмотреть – огонь критики сосредоточивался на нем, покровителе монархистов. Газета высмеивала «эти глупости, оды по поводу дня рождения», приемы у президента. Времена наступали крутые, и в поисках душевного покоя Вашингтон в начале апреля отправился в Маунт-Вернон.
Он еще не объехал плантацию, как курьер из Филадельфии привез ошеломляющее известие, задержанное доставкой на пути через океан, – голова Людовика XVI скатилась на гильотине. Свежие столичные новости – на улицах Филадельфии собираются несметные толпы, поют «Марсельезу», танцуют «Карманьолу», пестрят трехцветные кокарды. Всеобщий восторг и одобрение решительных французов, недавних соратников по оружию в войне за независимость. Конечно, неизбежные споры – иные говорят, что Людовик XVI помог американцам получить свободу и уже по этой веской причине не нужно было класть его под нож гильотины. Печать республиканцев издевалась – помощь Америке оказал французский народ, а не король.
Республиканские публицисты не могли знать, что, отстаивая эту прекрасную во всех отношениях точку зрения, они готовят крупнейшие неприятности не только собственному правительству, но и поставят на карту честь юной демократии. Очень скоро случились новые известия – 1 февраля 1793 года сестра-республика Франция объявила войну злейшему врагу свободы – Англии. Теперь рев «Марсельезы» на улицах оглушал – патриоты рвались к оружию покарать лондонских злодеев, тем более что подстрекаемые англичанами индейцы вновь нанесли заметный ущерб на северо-западной границе.
В Филадельфии росло недоверие к Гамильтону. Высокомерный министр, по всеобщему убеждению, находился в подозрительных сношениях с английским посланником, наконец прибывшим в США. Мало того, после казни короля французский посланник, роялист Бернан прекратил ведение дел с Джефферсоном и вместо государственного департамента зачастил в министерство финансов.
Простой люд горячо одобрял казнь короля и революцию во Франции. В Филадельфии на импровизированной гильотине чучело Людовика XVI обезглавливалось 20–30 раз ежедневно на протяжении нескольких месяцев. Известный публицист, федералист Коббет возмущался: «На трагический спектакль сходились мужчины, женщины и дети, и ни одна газета не пристыдила их». Народ волновала другая мысль, сформулированная «Нью-Йорк джорнэл»: «Американцы, будьте справедливы! Вспомните, кто стоял между вами и гремящими цепями деспотизма британского министерства!»
Демократы на всех перекрестках обсуждали договор 1778 года с Францией и шумно требовали выполнения его, то есть войны с Англией. Вашингтон поторопился в Филадельфию, где первым его встретил хладнокровный Гамильтон. Запершись в доме президента, министр объяснил: 90 процентов американского импорта поступает из Англии. Финансовая система, установленная в первое президентство Вашингтона, в основном покоилась на таможенных сборах. Разрыв отношений с Англией вызовет немедленное банкротство правительства. Вашингтон понимал это, а за плотно закрытыми окнами, по словам вице-президента Д. Адамса, «десять тысяч человек на улицах Филадельфии день за днем угрожали вытащить Вашингтона из его дома и произвести революцию или заставить нас объявить войну Англии на стороне Французской революции».
Гамильтон для руководства президента составил список вопросов, которые надлежало поставить на заседании кабинета. Главное – сохранить мир, что касается договора 1778 года, то разве нельзя представить дело так: он подписан с правительством, которого больше нет, и, следовательно, не подлежит выполнению? Морально немыслимая позиция, но Вашингтон согласился с ней. Нужно немедленно выступить с декларацией о нейтралитете. Вооруженный инструкцией Гамильтона, президент явился на заседание, где, как и ожидалось, Джефферсон произнес зажигательную, но абстрактную речь о важности поддержки свободы в делах человеческих, а затем поддержал декларацию. Государственный секретарь добился, правда, чтобы посланнику Французской республики «гражданину Жене», уже следовавшему в США, был оказан надлежащий прием.
22 апреля прокламация (в ней не упоминалось слово «нейтралитет») была обнародована. Соединенные Штаты заявляли, что будут «дружески и беспристрастно относиться к воюющим сторонам». Американским гражданам запрещалось принимать участие в войне на море и доставлять в воюющие страны контрабандные товары. Генри Ли, не навоевавшийся в войну за независимость и жаждавший новых битв, спросил совета у президента, не стоит ли вступить во французскую армию. Ответ Вашингтона: «Как государственный деятель по поводу этого я не могу сказать ничего... Как частное лицо не хочу говорить много. Советовать не буду. Я могу только сказать... если бы дело шло обо мне, я бы хорошенько поразмыслил не только по личным, но и по государственным соображениям». Президент дал только один определенный совет – письмо по прочтении сжечь. Ли остался в США.
Прокламация о нейтралитете вызвала бурю. Гамильтон под надлежащим псевдонимом «Миротворец» защищал ее. Джефферсон пишет Мэдисону: «Ради всего святого, дорогой сэр, возьмите перо, выберите самые еретические места и сокрушите их перед лицом общественного мнения». Республиканцы так и поступили, напоминая о долге «Франции и Лафайету», уместно умалчивая о том, что на родине маркизу вынесен смертный приговор. Шквал ярости оппозиционной печати обрушился наконец с полной силой на самого президента. Теперь он был не «отцом», а «отчимом» страны, а иные газеты находили, что Вашингтон «крокодил», «гиена», «лжец», «мошенник», «предатель» и т. д., в зависимости от изобретательности писак и их познаний в зоологии.
Вашингтон мучительно переживал буйный поток нападок, вероятно, вглядывался в зеркало и убеждался как в отсутствии сходства с названными мерзкими животными, так и в том, что за оскорбительными словами не крылось никакой разумной политики. Кто, кроме горлопанов, разумеется, в его понимании, мог идти войной на Англию? Все имевшие собственность наслаждались миром и помышляли не о военных авантюрах, а о приумножении своего благосостояния. Возможно, президент понимал, что суть спора заключалась не в столкновении высоких принципов, а в стремлении республиканцев пробиться к власти на волне демагогии. Для алчной мелкой буржуазии разговоры о демократии в связи с Французской революцией давали желанную возможность утвердиться в глазах страны.
Обвинения в том, что он-де покрывает тайных монархистов, Вашингтону было нетрудно отвести как пустые. Он разъяснял, например, Генри: цель заключается в том, чтобы «Соединенные Штаты были свободны от политических связей с любой другой страной, а также зависимы от всех и не находились ни под чьим влиянием. Одним словом, я имею в виду американские интересы, с тем чтобы европейские державы убедились: мы действуем ради себя, а не ради других». В эти жаркие дни президент сдержанно и достойно указывал в одном из писем: «Я верю в искреннее желание Соединенных Штатов не иметь ничего общего с политическими интригами и склоками европейских держав, а, напротив, обмениваться товарами и жить в мире и дружбе со всеми народами земли».
Звучало так прекрасно и возвышенно, как надлежит изъясняться государственному мужу преклонных лет, согбенному тяжким политическим опытом. Это было дальнейшим развитием ранее высказанных Вашингтоном идей. Еще в 1788 году он настаивал: «Когда бы между европейцами ни возникал конфликт, если мы мудро и должным образом воспользуемся преимуществами, дарованными нам географией, мы сможем, действуя осмотрительно, извлечь выгоду из их безумств». Тур кровопролитных войн, открывшийся в Европе в девяностых годах XVIII столетия, принес осязаемые выгоды США, последовавшим советам Вашингтона. Экспорт США за четыре года с 1792 года вырос с 19 миллионов до 41 миллиона долларов, а тоннаж торгового флота за десять лет с 1789 года увеличился в пять раз, достигнув почти миллиона тонн. Перед такими внушительными фактами блекли споры федералистов и республиканцев, а деятельность «гражданина Жене» была с самого начала обречена на провал.
Посланник жирондистов Эдмон Шарль Жене вступил на американский берег в середине апреля. Корабль сбился с курса, и он высадился вместо Филадельфии в Чарлстоне. Американский посланник в Париже Г. Моррис успел предупредить Вашингтона, что «гражданин Жене» необыкновенно говорлив, и за 28 дней, пока француз добирался до столицы, он блестяще подтвердил эту репутацию. Жене по пути в Филадельфию узнал о том, что США объявили о нейтралитете, но нисколько не смутился сущим пустяком. Он считал себя не дипломатом, аккредитованным одним правительством у другого, а посланцем революционного французского народа к благородному американскому народу, и посему не стеснялся. При горячей поддержке демократов Жене звал американцев в бой против тиранов. Еще не добравшись до Филадельфии, предприимчивый «гражданин» успел начать вербовку для набега на Флориду и Луизиану – Испания вместе с Англией воевали против Франции. Он торжественно учредил «Французский революционный легион на реке Миссисипи» и выдал множество свидетельств желавшим заняться каперством во славу Франции.
Нет ничего удивительного в том, что путь до столицы отнял у Жене почти месяц. Вашингтон сначала был изумлен, потом взбешен и безмерно обеспокоен – обгоняя французского посланника, с мест летели депеши, в которых сообщалось о неслыханном приеме Жене. Уже образовавшиеся республиканские клубы с благословения француза переименовывали себя в якобинские. Добрые американцы под влиянием соблазнительных речей Жене, а он ни на минуту не закрывал рот, начинали именовать себя «гражданин» и «гражданка». Когда 16 мая Жене прибыл в Филадельфию, казалось, вернулись бурные дни Американской революции. Жители рванулись на улицы приветствовать посланца «страны свободы». Прогремели три предусмотренных орудийных залпа, и, что не было подготовлено, раздался звон колоколов.
Вашингтон, ожидавший Жене в своей резиденции, слышал приближавшиеся оглушительные вопли: «Все люди равны!», «Да здравствует Французская республика и да сгинут ее враги!» Перед ним лежала петиция трехсот виднейших купцов Филадельфии, восхвалявшая декларацию о нейтралитете. Президент оказал Жене изысканно вежливый прием. Француз ответил так же любезно, что стоило ему большого труда – в вестибюле дома президента он увидел бюст Людовика XVI. Жене ушел от президента убежденный, что «старик» совсем не такой, как о нем рассказывали в Европе, и наверняка враг свободы. Гигантский банкет, устроенный республиканцами, с лихвой компенсировал «гражданину Жене» холодноватый прием у президента. На столе красовалось «Дерево свободы», прекрасные демократы, крепко выпив, хором пели «Марсельезу» и слезно уверяли француза, что пойдут с ним до конца, до полной победы над тиранами во всем мире.
Такой прием мог вскружить голову и спокойному человеку, а Жене отнюдь не был таким. Он открыл вербовку во французскую армию, начал снаряжать каперы в портах. На вежливые напоминания о нейтралитете Жене отвечал, что, если ему будут чинить препятствия, он обратится через голову правительства к народу. Французский посланник будоражил Соединенные Штаты. Летом 1793 года о войне с Англией на улицах и в тавернах говорили как о деле решенном. «Миролюбец» Гамильтон напечатал статьи, клонившиеся к тому, что Франция, собственно, ничего не сделала ради американской свободы. Джефферсон повелел Мэдисону опровергнуть инсинуации, которые не могут не быть на руку врагам Франции.
Тут стало известно – вопреки запрещению капер «Литл-Сара», снаряженный Жене, вот-вот выйдет в море из Филадельфии. Собрался кабинет. Гамильтон предложил поставить батарею и не выпускать суденышко из гавани. Джефферсон уверял, что «Литл-Сара» не снимется с якоря. Но и он признавал, что Жене зашел далеко. Пока рассуждали, капер выскользнул из гавани. 1 августа правительство принялось обсуждать, что делать с Жене. Сошлись на том, что нужно потребовать от Франции немедленного отзыва посланника. Гамильтон воспользовался случаем и высказал все, что он думал о Джефферсоне, Жене, Франции, демократических или якобинских клубах и прочем.
Добряк Нокс решил утешить Вашингтона и поддержать Гамильтона. Он вытащил из кармана карикатуру, недавно появившуюся в одной из республиканских газет, – коронованного Вашингтона тащили на гильотину. Предельно издерганный президент вышел из себя – намек был очевиден: гильотину можно с пользой применить и к нему. Он вскочил и, непристойно ругаясь, призвал в свидетели чистоты его помыслов бога. Вашингтон истерически кричал, что предпочел бы покоиться в могиле, чем быть президентом этой страны, а его обвиняют еще в намерении стать королем! Да он не променял бы свою «ферму» на все блага императора мира!
Вопрос о Жене был решен. Революционер предпочел не возвращаться во Францию, где его неизбежно ожидала бы гильотина Робеспьера, а уехал в Нью-Йорк, спасаясь от эпидемии желтой лихорадки, разразившейся в Филадельфии в конце августа. Болезнь, подкосившая почти всех жителей города, отвлекла внимание от внешней политики. Из 45 тысяч жителей 4 тысячи умерли. Вице-президент Адамс благословлял своевременную эпидемию, он был убежден, что только она спасла от революции. Вашингтон переждал тяжкие времена в Маунт-Верноне, а когда осенью вернулся в столицу, то с падением температуры упал и революционный накал. Дело ограничивалось газетной войной. Джефферсоновцы утверждали, что федералисты «лижут сапоги англичанам». Федералисты не оставались в долгу, именуя противников «пожирателями лягушек, каннибалами, вампирами», «марионетками обезьян», «галльскими шакалами» и т. д.
Тот, кто был в центре схватки, – «гражданин Жене» – тем временем очаровывал дочь губернатора штата Нью-Йорк. Скоро революционер предстал с мисс Клинтон перед алтарем вместо гильотины. Вашингтон не счел разумным делать мученика из Жене, он не помнил зла и разрешил Жене остаться в США. Спустя четыре года он, раскаявшийся революционер, винил во всем Джефферсона, утверждая, что стал орудием в руках государственного секретаря, убедившего его, что «прекрасный человек» Вашингтон будто бы «находился под контролем англичан». Отсюда и весь шум. Возмутитель спокойствия прожил долгую жизнь добропорядочным американским буржуа.
В кризисной обстановке 1793 года Вашингтон сумел провести различие между внешней стороной и сутью ожесточенных споров. Подводя итоги, он писал в конце года: «Трудно справедливо выяснить причины поведения тех, кто выдвигает обвинения и постоянно по сей день в меру своих сил чинил препятствия политике правительства, стремящегося быть миролюбивым в отношении воюющих держав. Однако их мотивы ясны людям, имеющим доступ к фактам и изучавшим занятую ими позицию, чтобы совершить ошибку. Их заботит не дело Франции и не свободы, ибо, если бы им удалось вовлечь нашу страну в войну и позор, они были бы первыми среди тех, кто громко выступил бы против этой дорогостоящей и несвоевременной меры».
Несмотря на все свое красноречие, Джефферсон отнюдь не стоял за то, чтобы выполнить договор 1778 года с Францией, а Париж официально и не обращался с просьбой об этом к США. Последовательные французские правительства видели, что американцы, практически не имеющие флота и армии, не смогут быть полезными в военном отношении и, во всяком случае, едва ли защитят владения Франции в Вест-Индии, что особо предусматривалось договором 1778 года. США были полезнее как нейтральная страна, снабжающая продовольствием как Францию, так и ее владения в Америке. Таков был хладнокровный государственный расчет без поправок на эмоции.
Но во Франции тем, кто содействовал США в войне за независимость, было, естественно, горько. Ревностный служитель дела американской свободы Бомарше был огорчен вдвойне, ибо, помимо краха иллюзий в отношении США, он еще и разорился частично по их вине. Воспользовавшись революцией во Франции, американские власти отказались погасить долг Соединенных Штатов Бомарше, который он исчислял в 3 миллиона 600 тысяч франков. Больной и одряхлевший Бомарше в 1795 году обратился с письмом к американскому народу. Он выражал желание, если бы позволили силы, приехать в США и у дверей конгресса, лежа на носилках, «протянуть вам шапку свободы (а никто другой не сделал больше, чтобы увенчать ею вашу свободу) и умолять: „Американцы, пролейте бальзам на вашего друга, все заслуги которого получили только это вознаграждение“».








