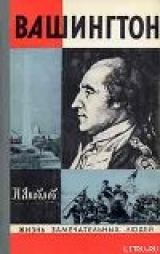
Текст книги "Вашингтон"
Автор книги: Николай Яковлев
Жанры:
Историческая проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 14 (всего у книги 28 страниц)
С начала 1777 года начали сказываться усилия конгресса относительно того, чтобы заручиться помощью за рубежом. В Париже трудился Дин, действовавший под видом торговца, что, впрочем, вполне соответствовало его склонностям. В сентябре 1776 года во Францию отправился Франклин. Американским представителям не нужно было перенапрягать себя, добиваясь поддержки Франции. Людовик XVI и его министры горели желанием рассчитаться с Англией за Семилетнюю войну. Перу Пьера Корона (Бомарше) принадлежала не только комедия «Севильский цирюльник» и многие пьесы, но и хитроумный план снабжения восставших в Америке вооружением, снаряжением и прочим. Объяснив королю великие блага для Франции от достижения колониями независимости, Бомарше получил первую субсидию – 1 миллион ливров – и основал подставное акционерное общество «Родригес Хорталес и Кo».
Французские политики надеялись, вызвав к жизни Новый Свет, выправить баланс сил в Старом Свете, нарушенный английскими победами в Семилетней войне. 18 августа 1776 года Бомарше пишет континентальному конгрессу: «Мы будем снабжать вас всем – одеждой, порохом, мушкетами, пушками и даже золотом для оплаты войск и вообще всем, что вам нужно в благородной войне, которую вы ведете. Не ожидая ответа от вас, я уже приобрел для ваших нужд около двухсот бронзовых четырехфунтовых пушек, двести тысяч фунтов пороха, двадцать тысяч отличных мушкетов, несколько бронзовых мортир, ядра, бомбы, штыки, одежду и т. д. для войск, свинец для мушкетных пуль. Офицер превосходнейших качеств и знаток артиллерии в сопровождении артиллеристов, канониров и пр., который вам, мы думаем, весьма нужен, отправится в Филадельфию раньше, чем вы получите мое первое письмо. Этот джентльмен один из величайших подарков, который могло дать мое уважение к вам».
Бомарше восхвалял де Кудрея, который явился к Вашингтону с группой из 18 офицеров и 10 сержантов. Он сослался на С. Дина, обещавшего ему командование артиллерией континентальной армии. Вступив на американскую землю, де Кудрей был произведен конгрессом в генерал-майоры, причем признан по старшинству выше туземных генералов – Грина, Нокса и Салливана. Те возмутились и потребовали от конгресса восстановить справедливость, грозя отставкой. В конгрессе донельзя разъярились, ибо давно считали любое покушение на права достойного собрания однозначным подрыву американской свободы. Д. Адамс в бешенстве заметил: «И пусть все они убираются в отставку. Со своей стороны, я бы проголосовал за истинный принцип республиканизма – ежегодно избирать генералов».
Трудно сказать – репутация ли континентальной армии, или преклонение перед заморскими знатоками было причиной, но конгресс цепенел при виде воинов, приезжавших в США. Они получали высокие чины и, преисполненные сознания собственного величия, являлись в армию. Конфликт с де Кудреем не успел принять угрожающих размеров: с генералом случилось несчастье – он утонул. С другими у Вашингтона было хлопот хоть отбавляй.
Сначала он с отвращением относился ко всем французам без разбора. Уже французская речь будила в нем воспоминания о пятидесятых годах, беспощадных схватках с ними, злейшими врагами колонистов. «Все они, – ворчал Вашингтон, – голодные авантюристы». Но жизнь брала свое – армии действительно были нужны специалисты, а при ближайшем рассмотрении не все приезжавшие из-за океана покушались на святая святых славной республики – ее деньги. Полковник Л. Дюпортей возглавил инженерное дело в армии, другие помогали организовывать артиллерию. Вашингтон не мог нахвалиться полковником Т. Конвеем, получившим чин бригадного генерала. В этом человеке, как показали ближайшие события, он крепко ошибся.
1 марта 1777 года в приказе по армии объявлялось, что «эсквайр Александр Гамильтон назначен адъютантом главнокомандующего, его следует уважать и слушаться в этом качестве». Двадцатилетний Гамильтон отличился как способный артиллерийский офицер. Несмотря на разницу в возрасте, а скорее из-за этого, Гамильтон стал ближайшим соратником Вашингтона. Он был первым из группы молодых людей, испытавших на себе нерастраченные отцовские чувства Вашингтона.
Итак, армия приходила в порядок, вооружалась и одевалась в основном поставками изобретательного Бомарше и готовилась к новым боям. Все оставалось в руках Вашингтона; что до конгресса, то к этому времени главнокомандующий выработал для себя определенные правила обращения с представителями, как они считали себя, всего народа. Вашингтон признавал главенство гражданских властей над военными. Этот принцип в его глазах был непоколебим. В не меньшей степени он был убежден, что гражданская власть, воплощенная в тогдашнем составе конгресса, оставляла желать много лучшего. Поэтому он повиновался институту, а не собранию конкретных лиц, служил высокой идее, внутренне презирая ее носителей. Он наверняка полагал, что лучше понимает ее, чем шумные и склочные конгрессмены.
Переписка главнокомандующего с конгрессом по форме была безупречной, с соблюдением всех необходимых правил приличия и уважения. По существу, Вашингтон обращался с членами конгресса как с детьми, да он и был старше многих, – из его пространных донесений нельзя было составить истинного представления о положении дел в армии. О собственных потерях почти не говорилось, неприятельские исчислялись астрономическими цифрами. Поражения именовались отходами, армии – отрядами и т. д.
В доверительном письме одному из считанных людей дела, Моррису, Вашингтон в это время открылся: «Не в моей власти заставить к-с отдать себе полный отчет в нашем истинном положении... Сидя на расстоянии, они думают, что стоит сказать – сделай то, и все делается, другими словами, они принимают решение, не вникнув или, по-видимому, не понимая трудностей и сложностей, стоящих перед теми, кому приходится выполнять их решение. Действительно, сэр, ваши замечания о том, что в этом уважаемом сенате не хватает множества умных людей, как нельзя лучше обоснованы».
Вероятно, между боями и трудами Вашингтон часто обращался мыслями к древним, как они вели дела. Отсюда описка, вскрывающая внутренний мир героя, именовавшего конгресс сенатом.
Пока Вашингтон укрывался с армией в холмах у Морристауна, английская пропаганда и языки американских тори работали без устали. В Лондоне вышла подложная переписка Вашингтона с женой и генералами. Поводом для появления фальшивок был, несомненно, рыцарский жест Хоу – когда ему доставили перехваченное письмо Вашингтона к Марте, он велел вернуть письмо, не распечатывая.
В тщательно подделанных письмах, будто бы попавших в руки англичан, Вашингтон представал как коварный муж, но заверявший супругу в великой любви. Генералу Гаррисону приписывались труды на специфическом поприще – он-де соблазнял негритянок в Маунт-Верноне в ожидании возвращения хозяина. Это самое возвращение, заверяли сочинители пасквилей, воспоследствует в самое ближайшее время – читайте сами – Вашингтон-де ненавидит жителей Новой Англии и ждет не дождется, когда развяжется с военной службой. Тори были склонны верить худшему, и самые грязные сплетни из уст в уста распространялись по Америке. Недруги Вашингтона видели во вздорных поклепах резон – разве предводитель бунтовщиков не должен превзойти джентльмена Хоу, коротавшего время в обществе очаровательной бостонки Лоринг?
В действительности Вашингтон в Морристауне вел идиллическую жизнь. К нему приехала погостить Марта, собрались друзья из Вирджинии. Одна из дам писала своей сестре о буднях Вашингтона: «Благородный и приятный командующий командует всеми, ибо подчинил оба пола – один великим искусством в делах военных, другой способностью, изысканностью и вниманием». До обеда он занят службой, «с обеда до вечера он отдается светской жизни. Его достойная супруга вся светится довольством рядом со стариком (так она называет его). Мы часто совершаем прогулки верхом, тогда генерал Вашингтон сбрасывает с себя облик героя, становится разговорчивым и приятным. Иногда он бывает совсем дерзким, а такую дерзость мы с тобой, Фанни, любим».
Таким Вашингтона видели самые близкие люди в официальных случаях, а постепенно вся его жизнь приобретала такой характер, он стал утрачивать «быстрый и понимающий взгляд», поражал чопорностью и высокомерием. Величественные движения, поднятый подбородок не оставляли сомнения – шествует хозяин вооруженной мощи республики. Наверное, иным он сразу внушал почтение и даже трепет. Серьезный человек, занятый серьезными делами, которые действительно были таковыми.
1777 год нес новые испытания Соединенным Штатам. От английского кабинета не укрылась тесная дружба американцев с Францией, дело определенно шло к оформлению союза между ними, а значит, появлению на стороне США армии и флота Людовика XVI. Отсюда следовал простой вывод – нужно раздавить по возможности скорее бунтовщиков, предотвратив очередную англо-французскую войну, а быть может, образование против Англии даже коалиции ее злейших врагов. По крайней мере, одержать звонкие победы в Америке, которые отобьют охоту у других соваться в имперские дела.
После некоторых колебаний Хоу поставил основной целью предстоявшей кампании овладение Филадельфией. Король и кабинет утвердили план, а следом – операции, предложенные английским генералом Бергойном, добившимся самостоятельного командования в Канаде. Он намеревался наступать на юго-восток, вдоль Гудзона, и «соединиться с Хоу». Как именно должно было произойти это соединение, уже сорвавшееся в прошлом году, осталось необъясненным. Ведь Хоу намеревался взять в экспедицию против Филадельфии основные силы своей армии, оставив в Нью-Йорке генерала Клинтона с относительно небольшим гарнизоном. Клинтон не был в состоянии содействовать Бергойну, выступив ему навстречу.
Нелепый план мог поставить в тупик кого угодно, Вашингтон, внимательно следивший за неприятелем, естественно, терялся в догадках. Он никак не мог отказать английскому командованию в здравом смысле и ожидал, что Хоу скорей всего двинется навстречу Бергойну или сосредоточит все усилия на овладении Филадельфией. О том, что Хоу и Бергойн собирались вести самостоятельные кампании, разумному человеку и в голову не приходило. А военный ужаснулся бы – в стратегических наставлениях давным-давно убедительно повествовалось о гибельных последствиях разделения командования.
С конца июня Хоу совершал таинственные маневры – то он вступал в Нью-Джерси, то отходил, затем следовало новое вторжение. Он полагал, что действует чрезвычайно хитроумно. Вашингтон придерживался иного мнения. Англичане явно хотели выманить континентальную армию с позиций у Норристауна и разбить ее в открытом поле. Хоу не удалось перехитрить «старого лиса» – Вашингтон также маневрировал, только с тем расчетом, чтобы в случае похода англичан на Филадельфию перерезать их коммуникации и, если возможно, нанести удар с тыла.
Отчаявшись вызвать американцев на бой на своих условиях, Хоу вернулся в Нью-Йорк. Все было странно и непонятно. Вашингтон заподозрил, что англичане двинутся на север, на соединение с Бергойном. Из Канады пришли неутешительные вести – форт Тикондерога пал без единого выстрела (а он был умело укреплен польским волонтером Костюшко), американские генералы рассорились между собой, и войска Бергойна в сопровождении союзных индейских племен хотя медленно, но продвигаются через лесные чащобы и гиблые места. Вашингтон отправил отряд на помощь северной армии, а сам двинулся к Гудзону. Тут случилось известие – 24 июля англичане погрузились на суда в Нью-Йорке, и скоро паруса армады – 260 судов с 15 тысячами солдат – скрылись за горизонтом. Хоу исчез, но куда?
Наверное, решил Вашингтон, Хоу морем перевезет армию к Филадельфии и попытается взять столицу. Он погнал усталые от бесконечных переходов войска туда, заверив конгресс, что не «перестает оглядываться назад», ибо «маневр генерала Хоу, бросившего генерала Бергойна, совершенно непонятен». Рационализировать иррациональное было бесполезно – Хоу всецело разделял европейские предрассудки о вредности американского климата летом и счел полезным для здоровья солдат продержать их почти месяц на судах в открытом море. Со своей стороны, Вашингтон был уверен, что вода пагубна для американцев, и, когда на подходе к Филадельфии измученные солдаты затеяли купание в реке, он строго приказал «соблюдать умеренность!».
В Филадельфии конгресс раздирала склока – кто виноват в падении Тикондероги и кого назначить новым командующим на севере? Вашингтон наотрез отказался принимать участие в свалке и не проронил ни слова, когда конгресс остановился на кандидатуре генерала Гейтса. Тот отбыл на север, а Вашингтон остался в определенной душевной подавленности – Гейтс уже зарекомендовал себя человеком, склонным к неподчинению и интриганству.
В столице Вашингтону представили новых французов, только что прибывших в США. Среди них был двадцатилетний маркиз де Лафайет, близкий ко двору Людовика XVI. Он снарядил на свои средства корабль и приплыл в США сражаться против англичан. Рвение и богатство маркиза произвели сильнейшее впечатление на конгресс, который сразу произвел его в генерал-майоры, хотя в Париже молодой человек был всего капитаном. В этом качестве он и предстал перед Вашингтоном. Сначала главнокомандующий принял маркиза очень холодно, полагая, что перед ним очередной кондотьер. Искренность Лафайета, его неподдельный интерес к делу борцов за американскую свободу, дравшихся с врагами Людовика XVI, быстро растопили сердце Вашингтона. Они как-то потянулись друг к другу – Лафайет, осиротевший в детстве, и бездетный Вашингтон стал относиться к нему как к сыну, Лафайет платил горячей привязанностью. Французский маркиз стал одним из самых близких к Вашингтону, если не самым любимым генералом. Найдя друг друга, Вашингтон и Лафайет подчеркнуто гордились отцовско-сыновними отношениями.
Перу Лафайета принадлежит описание тогдашней американской армии, он говорит о ней в третьем лице: «Их около 11 тысяч человек, неважно вооруженных и еще хуже одетых, они являли странное зрелище для глаз молодого француза. Пестрая одежда, а многие почти наги. Лучше всех были одеты те, кто носил охотничьи рубашки – просторные серые хлопчатобумажные пальто». Об офицерах, напудривших парики в предвидении встречи с ним, маркиз лишь заметил – они «полны рвения». Он заключил, что в американской армии «добродетель заменяет военную науку». Вашингтон сконфузился: «Нам очень стыдно показываться перед офицером, только что покинувшим ряды французской армии». На что Лафайет учтиво ответил: «Я приехал сюда не учить, а учиться».
22 августа поступили сообщения – английский флот объявился в Чезапикском заливе. Хоу не стал подниматься к Филадельфии по Делавэру, ибо американцы успели соорудить укрепления на берегах реки, прикрывшие подступы к столице водным путем. Англичане высадились в Чезапикском заливе. Маневр был совершенно непонятен – в июне Хоу в Нью-Джерси находился примерно в 100 километрах от Филадельфии, теперь он перебросил армию морем на 650 километров, чтобы оказаться в 100 километрах от города. Но раздумывать над причудами английского генерала было некогда. Вашингтон рванулся защищать столицу. Чтобы поднять боевой дух, он распорядился провести войско церемониальным маршем через город.
В приказе о параде Вашингтон указал: «Оркестры должны играть быстрый марш, но умеренно, чтобы солдаты шли под музыку легко, отнюдь не пританцовывая или полностью игнорируя заданный ритм, как часто случалось в прошлом... Офицерам обратить особое внимание, чтобы солдаты держали свое оружие как следует и выглядели приличными, как надлежит в этих обстоятельствах... В рядах не должно быть ни одной женщины, находящейся с армией». Каждому надлежало быть в шляпе, а если таковой нет, воткнуть в волосы ветку с зелеными листьями. В знак надежды. Филадельфийцы два часа наблюдали за прохождением войск. Обыватели нашли, что видны некоторые признаки военной подготовки, строй держали, хотя солдаты и не отбивали шаг как положено.
Последние приготовления перед сечей. Вашингтон распорядился регулярно выдавать солдатам ром. Он наставляет конгресс: «Рекомендую устроить государственные винокурни в различных штатах. Польза от умеренного потребления крепких спиртных напитков установлена во всех армиях и не подлежит сомнению». Распорядительность главнокомандующего восхитила конгресс. Д. Адамс пишет: «Генерал Вашингтон подает прекрасный пример. Он изгнал вино со своего стола и потчует друзей ромом с водой. Это делает большую честь его мудрости, его политике и его патриотизму». Тем, кто упрекал Вашингтона в местничестве, неисправимом пристрастии к Югу, крыть было нечем. Ром – продукт Новой Англии.
Нерешительность и колебания, сопутствовавшие летней кампании 1777 года, проявились и при попытке Вашингтона защитить Филадельфию. Они удваивались и обстоятельствами – континентальная армия вступила в края, заселенные квакерами. Они не были поголовно предателями, как склонны были утверждать ревностные патриоты, а просто, верные своим доктринам, были против любого кровопролития. Давать армии Вашингтона информацию о враге в глазах прекраснодушного квакера означало способствовать убийству, и поэтому местные жители с легкими сердцами притворялись, что они далеки от дел ратных. Континентальная армия шла навстречу неприятелю буквально с завязанными глазами, было неясно, с кем придется сражаться. Впрочем, выбор рубежа, на котором надлежало встретить Хоу, не зависел от местных жителей. Вашингтон рассчитал, что англичанам в любом случае на пути к Филадельфии придется форсировать реку Брандисвайн, где и стал с 11 тысячами.
Хоу решил повторить маневр, уже давший ему победу на Лонг-Айленде, – демонстративная атака в центре и обход главными силами американского фланга, на этот раз правого. 11 сентября разыгралось сражение. Вашингтон был твердо убежден, что задаст англичанам жару – их было около 15 тысяч. Он даже намеревался атаковать, как внезапно в штаб привели босоногого фермера. Тот клялся и божился, что прибежал к начальству доложить – несметные полчища движутся в тыл американцев. 10 тысяч Корнваллиса уже форсировали Брандисвайн выше по течению и спешат к месту боя. Вашингтон обменялся понимающими улыбками с генералами – проклятый предатель-тори подослан, чтобы сбить с толку защитников свободы. Они не успели решить, что сделать с негодяем, как канонада в тылу прекратила споры.
Вновь и в который раз американцы побежали, и снова так стремительно, что солдаты Хоу не могли настичь врага. Хотя и потрепанная, континентальная армия еще раз спаслась. Конгресс в ознаменование «доблестного поведения» армии в сражении при Брандисвайне вотировал выдать войску тридцать бочек рома. Два дня Вашингтон в относительной безопасности от врага «освежал» солдат, а затем – снова в поход. Он правильно рассудил, что цель Хоу в первую очередь уничтожить континентальную армию, занятие столицы дело второстепенное. Он отступил на восток в предгорье Аллеган, оказавшись примерно в 60 километрах от Филадельфии, где надеялся выждать и ударить в тыл англичанам, когда они пойдут на Филадельфию.
И снова те же заботы – армия, совершавшая почти полтора месяца непрерывные переходы, обносилась, обувь разваливалась. Вашингтон срочно отправил Гамильтона в Филадельфию приобрести одежду и обувь для солдат. Посланец натолкнулся на саботаж – торговцы не желали ничего продавать, ожидая вступления англичан в город, которые будут расплачиваться золотом, а не сомнительными долларами. Вашингтон приказал реквизировать потребное, но торговцы сумели так попрятать товары, что распорядительному Гамильтону почти ничего не удалось собрать, а он с солдатами перевернул лавки и склады вверх дном.
Хотя отступившая армия не пала духом (англичанам все же не удалось разбить ее), нарекания на Вашингтона множились. Поговаривали, что он по-прежнему нерешителен, малоспособен к командованию.
Тут случилась новая беда. Для наблюдения за неприятелем Вашингтон оставил неподалеку от Филадельфии легкую бригаду под командованием опрометчивого генерала Вайна. Он расположился лагерем около таверны Паоли. Разузнав о местонахождении бригады, англичане в ночь на 21 сентября напали на беспечных американцев, спавших у костров. Английские командиры рассудили, что лучше действовать штыками, и даже распорядились снять замки у мушкетов, чтобы случайным выстрелом не потревожить противника. В страшной ночной бойне было заколото около 200 американцев, несколько сот ранено, а 70 взято в плен. Англичане потеряли 7 человек.
Вести о бойне у Паоли вызвали трепет у молодых солдат континентальной армии, многим из них на биваках под открытым небом мерещился английский штык у груди. Они не хотели страшной молчаливой смерти и дезертировали. Гамильтон, натолкнувшийся в своих разъездах на большой отряд англичан поблизости от Филадельфии, счел долгом предупредить конгресс об опасности вражеского нашествия. Члены конгресса давно собрали вещи в дорогу и, получив ужасную весть, глухой ночью бежали из столицы сначала в Ланкастер, а затем в Йорк в Пенсильвании. Оказавшись в безопасности, «революционеры» стали роптать – какой толк в командовании Вашингтона, если он не может выиграть ни одной битвы? Что было совершенно несправедливо – генерал не переставал изыскивать случай расправиться с захватчиками.
26 сентября гренадеры и легкие драгуны Корнваллиса вступили в Филадельфию. Англичане поздравляли друг друга – труды были ненапрасными, наконец они в городе, буквально кишащем лоялистами. Толпы на улицах восторженно приветствовали войска, военный оркестр играл «Боже, храни короля». Все было волнующе и очень приятно, а впереди – сладостная гарнизонная жизнь в дружественном городе. Хоу пока не разделял восторгов своих воинов и потому распорядился большую часть армии – 9 тысяч человек – расквартировать в Джермантауне, что севернее Филадельфии, дабы быть между континентальной армией и столицей. Здесь же он стал со штабом.
Вашингтон, узнав от лазутчиков о последних распоряжениях Хоу, пришел в восторг: враг рассредоточил свои силы. Есть возможность повторить славную битву у Трентона. К этому времени он начитался военной литературы и замахнулся на Канны, на меньшее Вашингтон не был согласен. Ганнибал, как известно, осуществил двусторонний охват противника, Вашингтон спланировал то же самое, но четырьмя колоннами. Был составлен весьма внушительный план, предусматривавший ночной двадцатипятикилометровый марш и молодецкий штыковой удар поутру 4 октября на Джермантаун. Колонна генерала Салливана (с ней был Вашингтон) на рассвете вышла к городу и даже опрокинула застигнутый врасплох английский батальон. Впервые за всю войну в красных рядах горны протрубили сигнал к отступлению, которому королевские солдаты повиновались охотно, и было отчего. Атакующих возглавляли уцелевшие во время резни в Паоли. Вайн, перекрывая треск мушкетных выстрелов, свирепо рычал: «Вперед на кровавых собак! Отомстим за Паоли!» Солдаты Вайна в плен не брали, убивая и тех, кто сложил оружие.
Утро выдалось туманное, клубы порохового дыма еще ухудшили видимость. В дымной мгле сотня с небольшим английских солдат укрылась в прочном каменном доме как раз на пути наступавших. Вероятно, нужно было обойти дом, поставив около него небольшой заслон. Но американцы решили воевать по всем правилам военной науки, а потому Нокс предложил Вашингтону сокрушить «форт» артиллерийским огнем. Канны требовали издержек, и Вашингтон согласился. Подтащили пушки и начали обстрел дома, стены которого оказались на диво толстыми. Время шло, враг не нес видимого ущерба.
Тут подоспела вторая колонна генерала Грина, ударившая по англичанам на левом фланге Вайна. Охват как будто получился, если бы не злополучный дом – грохот орудий Нокса в американском тылу убедил Вайна, что коварные англичане, в свою очередь, как-то обошли американцев. Он повернул свою дивизию назад и лоб в лоб столкнулся с одной из дивизий Грина, потерявшей ориентировку. Американцы вступили в жаркую схватку между собой. Тут опомнившийся Хоу нанес удар, и континентальная армия вновь продемонстрировала свою способность стремительно отрываться от врага.
Беспорядочные толпы солдат бежали, Вашингтон, метавшийся среди них на коне, кричал, что они бегут от победы. Напрасно. Многие воины, расстрелявшие без толку порох, молча поднимали над головой пустые подсумки и со всех ног летели в тыл.
Канны не получились. Обе колонны континентальных войск убежали, две колонны ополчения, которым надлежало провести глубокий охват, ночью сбились с дороги и так и не появились на поле боя. К счастью, Хоу и Корнваллис, крайне удивленные дерзостью нападения, не упорствовали в преследовании, дав уйти континентальной армии.
На следующий день Вашингтон доложил конгрессу: «В целом можно сказать, что сражение было скорее несчастливым, чем тяжким для нас. Мы не потерпели больших потерь и вывезли всю артиллерию, за исключением одного орудия». Но очень скоро он узнал, что потери достигали почти тысячи человек. И новое огорчение – английский перебежчик рассказал, что противник собирался отойти как раз в тот момент, когда американцы ударились в бегство. Вашингтон пишет конгрессу: «С величайшим прискорбием я должен добавить, что все данные подтверждают мое первоначальное мнение – наши солдаты отступили как раз в тот момент, когда победа склонялась на нашу сторону... Я не вижу никаких причин, которые могут объяснить, почему мы не воспользовались этой возможностью, кроме отвратительной погоды».
Пятая встреча Вашингтона с Хоу на поле боя окончилась очередной неудачей. В приказе он воззвал к войскам: «Мы Великая Американская Армия. Мы покроем себя стыдом и позором, если каждый раз нас будут бить». Солдаты мрачно выслушали справедливые слова главнокомандующего и с удвоенным рвением стали ругать командиров, и это было справедливо. По ту линию фронта достижения англичан также не вызывали бурного восторга. Некий лоялист обозленно заметил: «Любой другой генерал, только не Хоу, побил бы генерала Вашингтона, а любой другой генерал, только не Вашингтон, побил бы Хоу».
Полководцы не питали друг к другу личного озлобления и в дыму сражений остались джентльменами. Вскоре после сражения у Джермантауна Вашинтгон, как он писал, выполнил «приятный долг» – со специальным нарочным в английский лагерь он отправил собаку, попавшую к американцам, которая, «как видно по надписи на ошейнике, по-видимому, принадлежит генералу Хоу».
В тот фатальный октябрь, когда армия Вашингтона не преуспела против Хоу, на севере страны судьба широко улыбнулась американцам. Талантливый драматург, но посредственный военачальник Бергойн с шеститысячным войском был окружен у Саратоги превосходящими силами – 5 тысячами солдат континентальной армии и 12 тысячами ополченцев. Англичане съели продовольствие, расстреляли порох, и, не видя иного исхода, 17 октября Бергойн сдался. По Соединенным Штатам разлилась волна торжества – крупная по масштабам войны английская армия сложила оружие. Ликованию по поводу капитуляции не было конца, хотя Бергойн сдался на условиях, отнюдь не дававших основания говорить о ней.
Все солдаты Бергойна по сдаче оружия должны были быть отправлены в Европу с условием, что они никогда не будут больше воевать против США. Лондон даже при выполнении обязательств смог сменить ими другие войска, которые, несомненно, явятся в США. Впрочем, до таких хитроумных расчетов английские генералы не поднялись – они уже постановили: перебросить побитую армию в Нью-Йорк, перевооружить и немедленно употребить ее для дальнейших боевых действий. Не зная всего этого, Вашингтон и конгресс тем не менее распорядились – ни под каким видом не отпускать пленных. Они были задержаны до окончания войны и только в 1785 году вернулись на родину. К тому времени из пяти тысяч пленных полторы тысячи решили поселиться в США.
Но все это произойдет в будущем, а в октябре 1777 года Америка приветствовала победителя при Саратоге генерала Гейтса как спасителя страны. Языкатые патриоты не замедлили указать на резкое различие между северной армией Гейтса и южной армией Вашингтона. Саратога поравняла Гейтса с главнокомандующим, а в глазах многих, и в первую очередь самого триумфатора, сделала его верховным военным вождем республики. Он, сын мелкого домовладельца, уже видел себя таковым и повел соответственно, поторопившись прежде всего дать прочувствовать свое новое положение Вашингтону.
В штабе континентальной армии под Филадельфией тщетно ожидали официальных вестей с севера. Гейтс сообщался прямо с конгрессом, оставив Вашингтона с его генералами питаться слухами. Главнокомандующий, поздравив Гейтса с «выдающейся победой», мягко упрекнул его: «Не могу не выразить сожаления, что столь важное дело и столь затрагивающее весь ход войны стало мне известно только по слухам и письмам, а не из сообщения, пусть краткого, одной строчки, но за вашей подписью, что соответствовало бы значимости этого события». Естественно, Вашингтону нужно было объяснять очевидный контраст положения дел на южном и северном театрах, что он не уставал делать в бесчисленных письмах.
Успех Гейтса у Саратоги был бы невозможен без своевременной помощи южной армии. Вашингтон послал на север вирджинских стрелков Моргана, способнейших военачальников Линкольна из Массачусетса и Арнольда. Теперь главнокомандующий считал себя вправе получить, в свою очередь, поддержку Гейтса. Он направил к нему Гамильтона с требованием немедленно отрядить на юг по крайней мере двадцать полков.
В Йорке, где обосновался конгресс, звезда Вашингтона медленно меркла. Их осталось мало, первоначальных членов конгресса, – только шестеро из числа одобривших в 1775 году кандидатуру вирджинского джентльмена на пост главнокомандующего. А на заседании конгресса нередко собиралось менее двадцати человек. От этого их критика Вашингтона не становилась слабее. Конгресс постановил отметить Саратогу днем молитвы, а Д. Адамс прокомментировал в письме жене: «Одна из причин празднования состоит в том, что слава в этой схватке не принадлежит непосредственно главнокомандующему или южным войскам. Если бы это было так, тогда идолопоклонство оказалось бы безграничным, что поставило бы под угрозу наши свободы». В конгрессе Адамс оплакивал «религиозное почитание, которое иной раз имеет место в отношении генерала Вашингтона», сурово осудив тех коллег, кто «склонен собственными руками творить себе кумира».
Недовольство конгресса подогревалось интригой в высшем командовании армии. В толпах иностранных офицеров, навербованных в Европе Дином и Франклином, был полковник французской службы Т. Конвей, которому конгресс присвоил чин генерала в обход многих претендентов-американцев. Хвастливый и, что еще хуже, говоривший без умолку, Конвей почитал себя стратегом и, хотя был обласкан Вашингтоном, претендовал на большее. Он решил связать свою судьбу с Гейтсом, о чем уведомил генерала льстивым письмом, в котором заодно поносил Вашингтона. Доброхоты немедленно донесли обо всем главнокомандующему, который в изрядных муках творчества сочинил короткое и достойное послание зазнавшемуся генералу: «Сэр, в письме, полученном мною вчера, содержится следующее утверждение: „В письме генерала Конвея генералу Гейтсу сказано – Небеса решили спасти вашу страну, ибо в противном случае слабый генерал с дурными советниками погубили бы ее“. Остаюсь, сэр, Вашим покорным слугой. Джордж Вашингтон». «Дурные советники», ворчал Вашингтон, в штабе, и Конвей «один из них».








