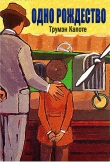Текст книги "Ремесло сатаны"
Автор книги: Николай Брешко-Брешковский
Жанры:
Историческая проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 30 (всего у книги 30 страниц)
21. В САРКОФАГЕ АПИСА
За Шацким давно-давно тянулся длинный и, грязный хвост всяких темных дел и делишек. Но до поры до времени он безнаказанно волочил за собою этот хвост, прикрываясь именем «тетушки» своей Елены Матвеевны.
Многие так рассуждали: племянник Елены Матвеевны Лихолетьевой этот прощелыга или, – черт его знает! Но, во всяком случае, что-то очень уж близко вертится… Лучше не трогать…
Но как только определилось, что гордый пьедестал, на котором в течение восьми лет с таким великолепием красовалась Елена Матвеевна, если и не рухнул, то все же сильно закачался, Шацкий немедленно же взят был в самый суровый энергичный оборот.
– Мы ему покажем кузькину мать, пропишем ижицу!..
И действительно, и кузькину мать показали, и прописали ижицу.
Шацкий, тертый калач, в своем проходимческом бесстыдстве уступавший одному разве Дегеррарди, поспешил забронироваться в кирасу человека много знающего, но мало говорящего…
Он как-то значительно улыбался костистым голым лицом, кому-то подмигивал, кому-то кивал…
И все это было полно такого значения.
«Ладно, мол, хорошо, но все до поры до времени! А если возьметесь за меня и вправду серьезно, честное слово, сами не рады будете!.. Таких особ выводить на свежую воду начну, большущий конфуз для всех выйдет!»
Но попытка шантажировать именами успеха не имела, и Шацкому предложено было заняться в течение трех лет флорою и фауною одного чрезвычайно глухого северного уголка нашей необъятной родины.
Дегеррарди, Шацкий, Юнгшиллер…
В этом угадывалась уже какая-то система, неумолимая, последовательная, это могло заставить призадуматься. И заставало даже такую сильную, владеющую собой даму, как Елена Матвеевна.
А вот Мисаил Григорьевич и в ус не дул, продолжая на всех и на вся «плевать с аэроплана».
Своим безмятежным настроением, он загипнотизировал всех окружающих, и в том числе Обрыдленку. Почтенный адмирал уже не боялся за свои «орлы» и как в былое время дневал и ночевал во дворце банкира.
Тем более и Обрыдленке нашлась работа. Мисаил Григорьевич поручил ему составить список гостей, приглашенных на открытие «ванной комнаты в арабском жанре».
Список длинный, из двухсот семидесяти фамилий, пошел на утверждение к Мисаилу Григорьевичу. С толстым синим карандашом в мягких пальцах Железноградов пробегал колонки фамилий, выведенных мелким бисерным старосветским почерком. Обрыдленко, человск аккуратный, держался алфавитного списка. С самого начала против, фамилии Блювштейна Мисаил Григорьевич поставил большой вопросительный знак.
– Что что такое, ваше превосходительство?..
– Как что? Талантливый архитектор… Я думаю, сам Господь Бог велел быть ему на торжественном открытии своего детища…
– Детища, это верно, детища, а только, знаете, фамилия, неблагозвучная, жидовская… Блювштейн! Если бы еще фон Блювштейн, мог бы за немца сойти… Видите, какой блестящий список, что ни стул, то княжеский, графский или баронский титул. Что ни стул – тайные, действительно тайные, что ни стул – крупный банк! – Мисаил Григорьевич задумался, грызя карандаш. – Ну, Бог с ним, пусть. Я человек доступный…
Отпечатанные по-французски на плотном картоне с золотым обрезом приглашения от имени Мисаила Григорьевича и Сильфиды Аполлоновны разосланы были всем тем, кому надлежало с бокалом шампанского чествовать открытие ванной комнаты.
Уже за два дня до великого торжества начались приготовления. Артельщики гастрономических магазинов привозили горы всякой всячины. По черной лестнице тащились вереницею ящики с винами. Мобилизована вся прислуга, и десять лакеев взято на прокат из большого ресторана с обязательством явиться в форменных фраках, расшитых галунами, с эполетами и аксельбантами.
Вот и канун торжества.
Весь день и весь вечер Мисаил Григорьевич был в хлопотах и разъездах. Сколько народу перевидел, сколько caмых разнообразных дел переделал. Только в двенадцатом часу вернулся домой, утомленный физически, но бодрый и живой духом. Ему сказали, что его ждет чуть лт не с обеда новый метрдотель, старый, опытный, рекомендованный важным лицом. Надо совместно обдумать меню завтрашнего ужина.
– Я устал, дьявольски устал! Весь день носился на автомобиле, как сумасшедший. Наши мостовые, будь они прокляты! Все кишки вытрясло. Приму ванну, отойду немного и тлгда буду с ним разговаривать.
Знаменитая «ванная комната в арабском жанре» являла собою две половины. Первая – вестибюль-уборная с пестрым мозаичным полом и низеньким турецким диваном, покрытым громадной белой мохнатой простыней. Такие, же белые косматые, выписанные из Смирны, халаты разложены были на плетеных креслах. Тут же гигантское зеркало триптих, повторяющее целый ряд отражений, и обширный умывальник с целой системою сверкающих новеньких кранов.
Чтоб пройти, к самой ванне, надо было спуститься по широким мраморным ступенькам. Здесь в уровень с таким же мозаичным полом, как и в уборной, помещался целый бассейн из гигантского саркофага Аписа, – черный, переживший тысячелетия мрамор. Переживший для того, чтобы, когда наполнят его из проведенных кранов горячей водою, мог в нем купаться Мисаил Григорьевич Железноградов.
И вот он купается, воображая себя Наполеоном. А на мраморных ступеньках перед ним – тяжелая, не лишенная величия фигура метрдотеля с крупным и полным бритым лицом. Лицом римского сенатора, хотя звали этого пожилого внушительного человека Трофимом Агапычем. Много видел на своем веку Трофим Агапыч и у каких только господ не служил! На самых пышных званых обедах он, как опытный полководец, одними глазами и движением бровей искусно руководил целой армией лакеев.
Славился еще Трофим Агапыч умением своим приготовлять французский салат. Кажется, не хитрая штука, – зелень, уксус, горчица, прованское масло, а между тем у Трофима Агапыча получалась целая поэма вместо салата, и в этом отношении он не знал никого себе равного в Петербурге…
По горло в теплой воде, – Мисаил Григорьевич спросил:
– А чем бы нам поразнообразить закуску? Свежая икра, семга, балык, разные там горячие, салат «оливье», все это банально.
– Приготовить разве амуретки, ваше превосходительство? И вкусно, и под водку хорошо, и не так, можно сказать, избито.
– Амуретки, что такое амуретки?
– Это, ваше превосходительство, черный солдатский хлеб ромбиками, прожаренный в масле и выдолбленный. И в этих углублениях – мозги из костей запеченные.
Мисаил Григорьевич нахмурился.
– Черный солдатский хлеб, мозги, это грубо!..
– Не знаю, – пожал широкими плечами своими Трофим Агапыч, – у покойного Петра Аркадьевича Столыпина амуретки всегда к столу подавались, и все одобряли, а теперь у Бориса Петровича Башинского, и ничего… Даже заграничные посланники одобряли.
– Ну, хорошо, если у Столыпина – хорошо. Пусть будут! Ну а как насчет жаркого?
– Насчет жаркого? Не худо рябчики по-сибирски с кедровыми орешками, такая нежность получается; хоть ложкой извольте кушать. Борис Петрович Башинский очень такие рябчики одобряют. Даже в печать попали, раз дядя Михей по вкусу их с «Османом» сравнил.
– Дядя Михей, дядя Михей… Что мне такое дядя Михей? – фыркнул Мисаил Григорьевич, погружаясь в теплую воду по самый подбородок, – но если Бащинский… Что это такое? – прислушался Железноградов, – кого это черт так поздно принес? Звонок на парадной.
Резкое, сухое дребезжанье неслось по всей квартире и докатилось до самого черномраморного саркофага Аписа. И что-то назойливое, властное было в этом неумолкаемом длительном дребезжании…
22. СУЕТА СУЕТ
Мисаил Григорьевич насторожился. Ему вдруг показалось, что теплая, достигавшая подбородка вода стала холодной.
– Что это значит? Я же не велел никого принимать!
Трофим Агапыч молчал, переступая с ноги на ногу, молчал с неподвижным «сенаторским» лицом. Звонки и все прочее – это не его дело. Это его не касается.
Торопливые шаги. Появился камердинер Железноградова, слегка побледневший, слегка испуганный, и, споткнувшись на верхней ступеньке, доложил:
– Барин, – впервые назвал он Мисаила Григорьевича «барин», вместо «ваше превосходительство»;– барин, там какие-то военные пришли.
– Что значит военные? Ни военных, ни штатских! Теперь уже сколько? Первый час ночи? Я никого не принимаю? Слышишь? И не желаю никого видеть! Так и передай! Кому нужно – завтра по телефону, так и передай! Видишь, я купаюсь, ты даже не смеешь докладывать мне! – горячился Мисаил Григорьевич, этой горячностью своею пытаясь загасить какое-то внутреннее беспокойство.
Камердинер глотал воздух, делая какие-то неопределенные движения руками.
– Генеральша спят?
– Никак нет, она вышедши в капоте.
– Ну, чего ж ты стоишь? Иди скажи, что я тебе приказал!
Камердинер, то ли нерешительно, то ли нехотя, покинул ванную комнату.
– А как же, ваше превосходителветво, насчет рыбы? – молвил степенно, как ни в чем не бывало, Трофим Агапыч.
Этот вопрос, минуту назад понятный, необходимый, теперь прозвучал дико и странно для слуха Мисайла Григорьевича.
– Отстаньте вы от меня с вашей рыбой! Какая тут рыба! Идите на кухню или куда там… Видите, пришли…
– Это будет воля ваша, – обиженно сказал Трофим Агапыч и, не торопясь, уверенно унес твердыми шагами свое крупное, раскормленное тело.
Железноградов – один, не зная, что ему делать, оставаться ли, выйти ли из бассейна. Мягкая, приятным разнеживающим теплом омывавшая его вода теперь казалась колючей, жесткой.
Опять шаги, опять камердинер.
– Барин, вас требуют, непременно, чтобы сейчас вышли.
– Кто меня требует? Кто меня смеет требовать?
– Они так и сказали, скажи, мол, твоему барину, что его требуют немедленно полковник Тамбовцев.
– Полковник Тамбовцев! Давай простыню, халат. Нет, не надо халата.
Чтобы вылезть из глубокого саркофага, надо было высоко занести ногу под острым углом.
И вот Мисаил Григорьевич стоит на мраморе, и вода струйками сбегает по его мягкому, рыхлому телу, а камердинер трет это розовое, теплое тело, мохнатой простыней, и оно вспыхивает красными пятнами.
– Туфли, рубашку…
Мисаил Григорьевич, долго не попадая, в рукава, облачился в длинную, до колен, в продольных полосках ночную с отложным воротником рубаху.
Камердинер держал наготове один из смирнских купальных халатов.
Мисаил Григорьевич, глядя мимо халата, думая оьчем-то другом, сказал:
– Не надо, возьми…
И в полосатой рубашке и в туфлях на босую ногу направился через все комнаты в кабинет.
И не узнал своего кабинета. Словно все чужое, все подменили сразу. Хотя все было как всегда и на обычном своем месте. Он даже не узнал Сильфиды Аполлоновны, как-то съежившейся, уменьшившейся в своем красном капоте. И хотя он был целомудренно застегнут до самого горла, она так держала у своей полной, белой шеи руку, точно ей было холодно. Ее в самом деле знобило.
Но самое страшное – этот самого мирного и скромного вида полковник в защитном кителе с портфелем, остриженный ежиком, как теперь почти не стригутся. С ним два офицера и еще кто-то.
Сделав судорожно приветливую улыбку, Мисаил Григорьевич поклонился. Тамбовцев ответил вежливым, корректным поклоном, обратив внимание, что у Железноградова при полной фигуре с животиком слишком тонкие ноги.
– Чем обязан удовольствием? – спросил Железноградов, и эта «светскость» была неуместной при его голых ногах и полосатой до колен рубашке.
– Я получил предписание произвести в вашей квартире обыск.
– Обыск? Но это, вероятно, господин полковник, ошибка? Несомненно ошибка! – судорожно улыбался Мисаил Григорьевич. – Я – Железноградов, банкир Железноградов. Это ошибка…
– Уверяю вас, что это вовсе не ошибка, речь идет именно, о вас, банкир Железноградов.
– Но позвольте, господин полковник, в чем же меня обвиняют? Я ни в чем не замешан, вся моя деятельность на виду, так сказать…
– Я не говорю, что вас обвиняют в чем-нибудь, я только обязан выполнить свой долг. Соблаговолите дать мне ключи от письменного стола, шкафов.
– Но как же так? Почему обыск? Я генеральный консул республики Никарагуа и, пользуясь правом экс… экс… – от волнения. Мисаил Григорьевич не мог сразу выговорить трудное слово, – экстерриториальности…
– Это не имеет никакого значения, – улыбнулся Тамбовцев. – Решительно никакого! Вш – русский подданный… Но, быть может, вы слегка приоденетесь?
– Да, да… ничего, ничего… это потом… потом успею… Так что… вам угодно?
– Ключи!
– Но это же недоразумение, это мы сейчас выясним… Вы мне позвольте, господин полковник, сказать два слова по телефону?
– Кому?
– Елене Матвеевне Лихолетьевой.
– Это бесполезно, тем более, что вы с ней скоро увидитесь, – загадочно прибавил Тамбовцев.
– Увижусь? Где увижусь?
– Это не могу вам сказать.
Камердинер принес банкиру панталоны; Мисаил Григорьевич надел их и почувствовал себя как-то бодрее, смелее.
– Господин полковник, вы мне позволите написать телеграмму?
– Попробуйте.
Мисаил Григорьевич подсел к письменному столу, испортил несколько бланков, нервничая, комкая, бросая, и, наконец, написал.
– Сию же минуту на телеграф! – протянул он бледно-синий бланк своему камердинеру.
– Дай сюда! – приказал Тамбовцев. Камердинер повиновался, Тамбовцев пробежал телеграмму.
– Нельзя отправить, ее необходимо приобщить к делу.
Телеграмма была адресована одному влиятельному, хотя и не занимающему официального положения лицу. Мисаил Григорьевич, сообщая о случившемся, просил посодействовать скорейшему выяснению «недоразумения».
– Сильфида, хорошо, что у нас нет детей…
Она молча ответила ему растерянным жалким взглядом. Она вся была растерянная, жалкая….
Обыск продолжался два часа – до утра. Целая кипа частных и деловых писем и документов скопилась.
Портфель Тамбрвцева не мог вместить весь этот обильный материал. Пришлось завернуть его в пакет из газетной бумаги. Пакет готов, плотно обвязан бечевкою.
В тусклой дымке раннего утра осунувшееся лицо Мисаила Григорьевича казалось каким-то серо-землистым. Но мало-помалу утраченная уверенность возвращалась к нему, и в Мисаил Григорьевич подошел к жене, продолжавшей держать руку у горла, и неизвестно зачем и почему сказал: в конце концов он почти спокойно спросил Тамбовцева:
– Это все, господин полковник?
– Нет не все, я должен подвергнуть вас задержанию.
– Вам хочется меня арестовать?
– Лично мне, уверяю вас, ничего не хочется. Я исполняю свой долг.
Мысль, что его арестуют накануне вечера или даже, вернее, в самый день званого вечера, на который по всему городу разослано двести семьдесят приглашений, показалось Железноградову нелепо-чудовищной. И вслух как-то наивно, совсем по-детски он выразил эту мысль:
– Но позвольте, господин полковник, завтра, то есть даже сегодня, у меня большой прием, должны съехаться. Соберется самое блестящее общество…
– Сожалею, но помочь решительно не могу ничем. Быть может, ваша супруга даст себе труд оповестить приглашенных по телефону, – до вечера еще много времени, – а сейчас потрудитесь одеться как следует. Через четверть часа вы должны покинуть свой дом.
Стоя посреди кабинета, Мисаил Григорьевич задумался. Он думал об амуретках, подававшихся у Петра Аркадьевичча Столыпина, о рябчиках по-сибирски с кедровыми орешками, подающимися у Бориса Петровича Башинского. До чего все это теперь глупо, ненужно, лишне…
23. К НОВОЙ ЖИЗНИ
Вот уж действительно, как с неба свалилась.
– Труда, милая Труда, какими судьбами?
Вера была в одинаковой степени изумлена и обрадована появлением сильной и мощной латышки.
Как это странно, после всего пережитого, сгинувшего, как бессонный кошмар, после противного Шписса с его решетчатым казематом, после неудачного побега в зимнюю ночь, после всего этого они опять вместе, Вера и Труда, в этой мансарде на Васильевском острове, где так спокойно льется мягкий свет в косое окно.
Труда, вооружившись скудным запасом русских, так потешно искажаемых ею слов, описала «балисне» всю свою эпопею, до бегства из Лаприкена с узлом на спине включительно.
– Бедная, натерпелись мы!
– Нисего, балисня, зато теперь будет хоросо. Я от вас не уйду, хосу вам слусить.
– Милая Труда, я сама этого хочу. Вы были таким близким другом, так утешали меня в моем горе, но дайте устроиться. Мы сами еще пока на бивуаках.
– Я подосту, нисего, я подосту, – покорно согласилась монументальная латышка.
– А откуда вы узнали, что я здесь?
– А мне сказал этот сорный господин с бородой.
– Криволуцкий! А помните, Труда, как мы вместе с вами думали, что он повезет меня на какие-нибудь новые мытарства? А он оказался хорошим, он вам нравится?
Труда смущенно потупилась.
Подъехал Загорский.
Это уже не был солдат-кавалерист, это не был заросший бородою военнопленный-беглец, это был прежний Загорский, выбритый, с моноклем. Черная визитка, сидела на нем как облитая.
Хотя и произведенный в корнеты, Дмитрий Владимирович, по особому ходатайству Арканцева, имел право носить и штатское платье. И так как за время войны ему порядком-таки надоело тянуться и козырять, он охотно пользовался выхлопотанным для него правом.
– Вот – «подруга дней моих суровых», – представила Вера Труду своему Дмитрию.
– Но «не голубка дряхлая твоя», – в тон по Пушкину ответил Загорский, – а цветущая дева Латвии. Дева, которая, наверное, не давала спуску немцам! Труда, вы не любите немцев?
– Васеши проклятые!
– Так их, каналий! А теперь я вас от души благодарю за все, что вы сделали в такие тяжелые минуты для Веры Клавдиевны, – и он пожал руку этой стройной, невзирая на свои мощные пропорции, богатырше, которая, казалось, заполнила собой всю мансарду, увешанную творениями должников почтенной Марии Тихоновны.
– Я нисего такого не сделала, балисня очень добрая и наросно меня хвалит.
– Словом, Труда, как только мы мало-мальски устроимся с Верой Клавдиевной, вы будете у нас служить, это вопрос уже решенный.
– Я так рада, я так хосу слусить у вас!..
– Ну, вот, значит, все к обоюдному согласию…
Труда ушла. Дима, только что вернувшийся от короля Кипрского, был опечален его безнадежным состоянием.
– Он угасает, старик… Высох, до того высох, напоминает Сатурна… Слаб, еле движется, с трудом произносит слова… Но до сих пор еще величав… Бедняга сознался мне – какая драма, – что продал последние фамильные миниатюры… Его гнали из комнаты, какой ужас! Питался по-прежнему молоком и яичницей. Одинокий, заброшенный, жаловался, что ему не хватало твоей заботы и ласки… Хочет видеть… Завтра мы к нему съездим… Какая жалость, именно теперь, когда нам так нетрудно пригреть старика, помочь ему, он угасает…
– Неужели… умрет?
– Я думаю, его хватит на несколько дней… Протянет пару недель, самое большее… Смотришь на него, говоришь и чувствуешь, как слабеет и уходит жизнь!.. У него отросли и борода, и великолепная седая грива. Вот чудесный грим был бы для короля Лира…
Снизу раздался звонок, а через минуту, нетерпеливо постучавшись в дверь, бомбой влетел «ассириец».
– Вера Клавдиевна, поздравляю вас!
– С чем?..
– Вы богатая невеста… С двухсоттысячным приданым!
– Полно вам шутить.
– Какие там шутки, самая очевидная реальность! Вообще вы станете меня каким-то неисправным шутником. Помните, когда я увозил вас из Лаприкена; говоря, что везу вас к свободе, вам тоже казалось, что я шучу…
– Говорите же толком, не мучьте…
– Извольте, не буду мучить… Но какая у него прекрасная душа! Обо всех думает, заботится, а на вид ходячая броня, ледяная какая-то… Вы догадываетесь, о ком?.. Нет, мне адски нравится этот его последний номер. Вызвал вашу сестрицу и, понимаете, с места в карьер: «Вы ограбили Веру Клавдиевну, а поэтому не угодно ли вам без всяких процессов выдать ей из отцовского наследства двести тысяч!..» Сестрица ваша нахалка изрядная, но тут обалдела. Леонид Евгеньевич Арканцев – фигура! С ним шутки плохи. Захочет, мигом вышлет и ее, и этого мерзавца Калибанова в придачу… В результате Леонид Евгеньевич сам торжественно вручит вам, чек на двести тысяч… Недурно, для начала новой жизни в особенности… Я рад, что мне выпала роль доброго вестника… Что вы на это все скажете?.
– Что я скажу? Это так неожиданно… Право, точно в сказке. Слышишь, Дима?..
– Слышу, – спокойно отозвался Загорский.
– Что ты скажешь?..
– Скажу, что деньги никогда не мешают, в особенности если они наши по праву. Я счастлив за тебя, Вера.
– Но какой он славный, Леонид Евгеньевич, вот золотое сердце!
– В ледяном панцире, – добавил «ассириец», которому понравилось это его собственное сравнение.
* * *
Через несколько дней Вера и Дмитрий, встретившиеся для новой жизни своей, провожали в таинственную вечность Лузиньяна, короля Кипрского и Иерусалимского.
Загорский хоронил его на свой счет. Похороны вышли если и не царственные, подобающие коронованному покойнику, то во всяком случае – достойные.
На всем траурном пути по дороге к католическому кладбищу на Выборгской люди в белых ливреях и цилиндрах разбрасывали лапчатые ветки остропахучей хвои.
За колесницей под балдахином с пышными кистями, увозившей нарядный гроб, шли двое – Загорский и Вера. И больше никого.
Процессию обогнал темно-зеленый глухой тюремный автомобиль, быстро мчавший Мисаила Григорьевича Железноградова навстречу разным пестрым случайностям, неожиданностям и, во всяком случае, тоже навстречу новой, совсем новой для него жизни.
КОНЕЦ
1916