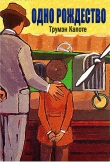Текст книги "Ремесло сатаны"
Автор книги: Николай Брешко-Брешковский
Жанры:
Историческая проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 30 страниц)
21. В КОНТОРЕ МАДАМ АЛЬФОНСИН
Вера Клавдиевна потеряла – и так неожиданно это вышло – свое место. Хозяин технической конторы господин Пфенниг неожиданно исчез, оставив на произвол судьбы и свое дело и своих служащих.
Об этом писали в газетах. И писали еще, что Пфенниг, подобно большинству немцев, отлично совмещал стрижку златорунного славянского барана со шпионажем в интересах своего «фатерлянда».
Словом, Пфенниг скрылся за час-другой до своего ареста. Все имущество вместе с «инвентарем» его конторы было опечатано. Служащие очутились в буквальном смысле слова на улице, потому что, когда они пришли, ничего не подозревая, на обычные занятия утром, у входа стояла полиция, никого не впуская.
Вера Клавдиевна Забугина вернулась домой угнетенная, мрачная. Время глухое, летнее, в воздухе носится война, – неизбежная, потому что Балканы уже охвачены кровавым вихрем, и найти в такую пору что-нибудь – труднее трудного.
Правда, она имела кое-какие крохи – остатки былого, совсем так недавнего величия. Эти крохи составляли каких-нибудь тридцать-сорок рублей в месяц, Существовать на них без скромного жалованья, – уж чего скромней, – было невозможно.
Слезами обиды и гнева плакала Вера Клавдиевна при одной мысли, что сестра, ограбившая ее, живет широко, тратит бешеные деньги на туалеты, словом, сорит направо и налево, она же, Вера, которую отец боготворил, кое-как перебивается и живет в меблированных комнатах, задумываясь над каждым рублем, прежде чем его истратить. Хорошо еще, что на ее пути встретился Загорский и в лице этого сильного, не такого, как все, человека удалось найти ей нравственную поддержку.
Бедный папа! Бедный старик, под конец жизни такой больной, подпавший целиком под влияние дочери Анны и темного проходимца Калибанова, который был в связи с Анной и которого отец в лучшие свои дни на порог не пускал!..
Пользуясь тем, что Вера была в Париже, а брат Александр целиком ушел в свою профессуру в Москве, эти два сообщника «обработали» несчастного старика, и все свое крупное состояние он отписал Анне.
Вера же осталась нищей. Да и брат Александр очутился В таком же приблизительно положении, съехав с двадцати тысяч «синекуры» на две с половиной своего скромного жалованья.
Загорский знал все это из рассказов любимой девушки. Любимой, потому что успел ее полюбить. Знал, советуя ни в каком случае не складывать оружия и затеять процесс, оспаривающий действительность завещания. И были шансы выиграть его, так как Вера и в особенности Александр обладали ценными документами. Это – последние письма покойного, где слишком ярко сквозила ненормальность отца, переплетенная с его злобно-негодующим отношением к Анне. И после этого Анна является единственной наследницей почти трехмиллионного состояния, а Вере и Александру – ничего!
В своей комнате, где все полно какого-то особенного девичьего уюта, сверкает чистотой, Вера с нетерпением поджидала Загорского, чтобы посоветоваться с ним, как ей быть?
Загорский возвращался обыкновенно к пяти, а между, тем нет и полудня. Еще целая уйма томительного времени! Просмотреть газеты разве, нет ли там подходящих публикаций? Вера Клавдиевна послала горничную за газетами.
Боже мой, в каком подавляющем количестве предложения и до чего сравнительно с этим ничтожен спрос!
«Ищут бонну в отъезд»… «Нужна чертежница»… «Ищут гувернантку-француженку»… Мимо все это, неподходящее. Вот. «Нужна барышня-конторщица, немедленно. Справиться: Большая Конюшенная, дом 49, кв. 5».
Вера Клавдиевна маленькими туалетными ножницами вырезала эту публикацию. Разве сейчас сходить попробовать, и незаметней как-то уйдет время до возвращения «Димы»…
Про себя Вера с необыкновенной нежностью называла его «Димой». А так они были на «вы» и она говорила ему «Дмитрий Владимирович».
Надеть легонький темный жакет, приколоть шляпку у овального зеркала в старой серебряной раме (одна из уцелевших собственных вещей средь этой казенной меблировки) – дело минуты. И вот Вера Клавдиевна уже на улице, в сиянии жаркого солнечного дня, и скоро-скоро стучат по каменным плитам панели высокие каблучки ее туфель. Недавнего уныния нет и в помине. Оно осталось в четырех стенах комнаты. Улица с ее толпою, движением, солнцем всегда как-то бодрит, взвинчивая, не давая падать нервам. И бодро смотрели перед собой серо-голубые глаза Веры Клавдиевны. Эти глаза, большие, ясные, озарявшие все красивое, тонкое личико, обращали внимание.
Вот и Конюшенная.
Откормленный швейцар с бородой, что твой Черномор или, по крайней мере, Добрыня Никитич, монументом уперся. Не сдвинешь, – такой медлительный.
Но каким-то холопским инстинктом почуяв в скромно одетой барышне «настоящее господское дите», тот приподнял обшитую галуном фуражку.
– В квартире пять кто живет?
– В пятом? Никто не живет. Они как бы живут. Заведение!
– Что такое?
– Заведение, говорю. Вывеску изволили видеть? «Институт красоты» называется.
Швейцар Тимофей ладил с Альфрнсинкой, но не ладил с другом, черномазым Седухом.
Бакенбардист, этот новоявленный петербургский Калиостро, был груб вообще, а с прислугой в особенности. Кроме того, весьма и весьма скупился на чаевые; Тимофей не прощал ему этого, при каждом удобном случае стараясь уронить «институт красоты», именуя его «заведением».
Вера Клавдиевна решила, что от наглого швейцара толку все равно не добьешься. Каблучки застучали по мраморной лестнице, а «монумент» послал вдогонку свое лаконическое:
– Второй этаж, налево…
Открыла дверь горничная, нарядная, бойкая, даже слишком бойкая для приличного дома.
– Вы записаться, барышня?
– Я по публикации.
– А, так вы обождите минутку. Вот сюда пожалуйте, в контору.
Вся «контора» заключалась в комнате с голым письменным столом. Две продолговатые книги бухгалтерского типа, квитанционная тетрадка. Сквозь стеклянную дверцу шкафа смотрели флаконы духов, эссенций, фарфоровые баночки с какими-то мазями, пилюлями, кремом. Вот и вся контора.
Девушка с недоумением осматривалась. Куда она попала?
Незаметно вошел Седух. Так незаметно, что Вера Клавдиевна сразу увидела близко перед собой господина с внешностью провинциального фокусника с черными, подозрительно черными бакенбардами и такими же черными вьющимися волосами. У него был плебейский нос «картошкой» в сизых жилках и с пучками волос в ноздрях.
– Да… вот была публикация… была… так вы пришли… да… хотите служить?
Забугина смотрела на него во все глаза. Это еще что за гороховый шут? Не братом ли он приходится тому самому Дегеррарди, что покинул так внезапно меблированные комнаты «Северное сияние»?
Антонелли продолжал, не то заикаясь, не то умышленно растягивая слова:
– Да… пришли… нам такая нужна… такая барышня-деликатная… воспитанная… да… и насчет внешности тоже… да!
Вера Клавдиевна вспыхнула.
– Сударь, я пришла вовсе не затем, чтобы выслушивать характеристику моей внешности! Могу я переговорить с кем-нибудь, кроме вас? Если нет – я ухожу.
– Конечно, да… переговорить со мной… да… я хозяин…
Забугина сделала движение к дверям. Но у самого порога выкатилось навстречу ей что-то шарообразное в бархатном платье.
– Я очин извиняис, же ву деманд пардон… мосье Антонелли, трудитесь вийти! Сортэ!
– Мадам Карнац, я, кажется, пайщик дела и могу… да…
– Уходит вон! Сортэ!.
Мадам Карнац, подняв коротенькую полную руку с вытянутым указательным пальцем, была неумолима.
Седух, постояв пару секунд, дабы не уронить своего достоинства, медленно вышел, разглаживая бакены.
– Он немного чумачечи, эн пе такэ! – пояснила мадам Карнац, тронув свой лоб тем самым указательным пальцем, который так величественно изгнал доморощенного Калиостро.
– Садитесь, мадемуазель… Мадемуазель, не правда ли? Мы будим каворить дэла, ле зафер сон ле зафэр! Вы на мене производит впечатление. Видно, что вы дитя хороший дом, анфан де бон мезон! Мой конторщик заболел, ушля, я предлягаю вам конторщик. Я буду плятить шестьдесят рублей на месяц, суасант рубль! Занята от одиннадцать жюска си зер. Ви получайт маленький завтрак, пти дежене. Работа легки, вести книг, записывать клиантель. Ваш фамили?
Девушка назвала себя.
– Алор… это известни фамили. Это хороши дворянски имь. Я ошень рад! Когда вы может приходит заниматься?..
– Я должна еще подумать, – молвила Забугина.
Ни этот человеческий шарик в бархатном платье с выкрашенными в огненно-желтый цвет волосами, ни тем паче бакенбардист не внушали ей никакого доверия.
Мадам Альфонсин поспешила рассеять замеченное – нельзя было не заметить – колебание.
– Но я вам советуй. Ви будет очин довольни, ву сере тре контант, у меня очень хороши мезон и сами аристократични клиантель.
– Я, пожалуй, согласилась бы, но с одним условием: чтобы этот… этот господин, хотя он и говорит, что он ваш пайщик, никогда ни за чем не обращался ко мне.
– Пайщик? – усмехнулась мадам Альфонсин. – Кес кесе, пайщик? Он только делит нови лицо, он знает секре, и потому я его держат… Без мене, без мои знакомств мосье Антонелли кругли нуль, зеро!
В конце концов директриса «института красоты», поболтав немного; отпустила Веру Клавдиевну, взяв с нее слово, что она будет служить и явится завтра к одиннадцати.
Дома девушка описала Загорскому свой визит на Конюшенную.
– Вы понимаете, Дмитрий Владимирович, мое положение, – и все-таки я думаю не брать этого милого места. Вы согласны?
– В данном случае – нет. Видите, дорогая Вера Клав-диевна, в сущности, вы ничем не рискуете. Кто вас может оскорбить? Никто! Вы сумеете замкнуться в такую недотрогу-царевну, что этот самый полупочтенный… как его там – Альберти, Альбертинеллии… – будет за версту обходить вас. Я кое-что слышал об этом заведении, и поэтому желательно, чтобы вы хоть на время сделались там своим человеком. Вы, пожалуй, совсем случайно проникнете в такие запутанные истории, о последствиях которых, если вам рассказать, голова пойдет кругом. А затем – затем нас ждет, вероятно, разлука, и необходимо, чтобы в мое отсутствие вы чувствовали под ногами хоть какую-нибудь почву.
– Разлука?
И в дрогнувшем голосе девушки, в ее лице и в глазах, отразивших тоску и тревогу, во всем этом было столько хорошего глубокого чувства, что у Дмитрия Владимировича замерло сердце, как не замирало никогда еще. До сих пор он только снисходил к чужой любви, сам же до встречи с Верой не знал, что такое любовь.
И, властно одним и тем же захваченные, смотрели они молча глаза в глаза, друг на друга. И двумя чистыми алмазинками блеснули крупные, как у ребенка, слезы в ясных серо-голубых глазах девушки. Судорожно вся вдруг встрепенувшаяся, она, закрыв лицо, разрыдалась…
22. РАЗЛУКА
События каким-то бешеным вихрем друг друга обгоняли, не угнаться за ними кинематографической ленте.
Манифестанты океаном человеческих голов запрудили всю широкую улицу возле сербского посольства. Бурные овации, пламенные симпатии, братание на жизнь и на смерть двух славянских народов…
А на другой день часть этих самых манифестантов штурмовала гранитные казематы германского посольства, угрюмой кладкой своей напоминающего острог или крепость.
Голые гигантские всадники, с таким вызовом поставленные германским зодчим на крыше посольства, были низвергнуты и утоплены в Мойке, подобно языческим идолам.
Весь этот разгром взбунтовавшимися страстями своими показал, что и в петербургской толпе, обезличенной, шаблонной, может проснуться патриотизм, настоящий русский патриотизм, логикрй истории связанный с ненавистью к германцам и всему германскому.
Уже немцы вступили в Бельгию и тяжелые орудия их бомбардировали Льеж.
Уже начались первые зверства этих разбойников в мундирах и сияющих касках.
Уже альпийские стрелки Франции перешли границу Эльзаса, вырвав с корнем полосатый столб с черным орлом Гогенцоллернов.
Уже английский флот начал грозную блокаду свою, а подводные лодки немцев стали топить детей и женщин.
Уже сербы, заманив австрийцев у Шабаца, разгромили их, выгнав жалкие уцелевшие остатки двух корпусов.
Уже необъятная Россия сотнями, тысячами поездов стягивала на фронт свою миллионную армию.
Люди, самые уравновешенные, самые безучастные ко всему, стали жить нервами, горячились, волнуясь, жадно бросаясь на утренние и вечерние газеты.
Чопорный, замкнутый петербуржец стал неузнаваем. Какой-то совсем, совсем другой западный налет получила теперь такая шумная, впечатлительная толпа, где одну газету наперебой читали несколько человек и где – о, небывалый в чухонской столице ужас! – незнакомые пылко обменивались впечатлениями, спорили, обсуждали.
Военным уступали везде и всюду первое место, по их адресу как из рога изобилия слышались радостные приветствия, пылкие пожелания одолеть врага.
Люди меняли «грим», костюм, интонацию, темперамент. Меняли в большинстве случаев до неузнаваемости, так всколыхнула всех эта война, первая такая близкая и понятная русскому человеку со времен Отечественной.
«Декорации» остались прежние. Какие бы ни разыгрались человеческие потрясения, природа никогда не меняет своих декораций. По-прежнему стояли бледные, тихие белые ночи, и яркий солнечный день сменял их серебристую, полную недоговоренной тоски, завороженную мистическую дрему…
Это были уже последние белые ночи. С каждым днем становилась гуще и затушеванней бессонная мгла.
Это – последняя прогулка Веры Клавдиевны и Загорского.
Их потянуло к природе, на острове. Но не туда, где показывает себя тщеславный муравейник, не на «Стрелку», где шагом плетутся, тесно скучившись экипажи, а вглубь, где никого нет.
И в самом деле, могло почудиться, что их на ковре-самолете перенесло куда-нибудь далеко-далеко в равнинную глушь. Тихо… Не долетает ни один звук. И скрадываются прозрачные дали, и можно подумать, что кругом подступил дремучий, густой лес. Цепенеют сонные чащи… Скошенная полянка, и клубится над нею молочный туман. Свежий запах разбросанных там и сям копен сена так и дышит… И какой аромат! Дальше тусклым зеркалом отсвечивает вода, и тоже туман шевелится над нею.
Два силуэта слились в один – так близко прижались друг к другу Вера и Дмитрий. И близость разлуки, – он уедет совсем-совсем на днях, – сообщает какую-то особенную остроту их мыслям, чувствам, прикосновениям.
Понимая и умом и сердцем, что ему необходимо ехать на войну и что не может иначе и быть, но подталкиваемая бессознательным эгоизмом любящей, Вера молвит:
– Зачем?.. Останься… Разве нам нехорошо будет вместе?..
– Вера, не отговаривай. Ты, – да, да, не возражай! – сама презирала бы меня, если бы я остался здесь… – продолжал Загорский. – Я должен быть на этой войне, понимаешь, должен! Я не стану драпироваться перед тобой в тогу какого-то особенного патриотизма. Нет! Фальшью звучало бы! Я не скажу тебе, что я непременно желаю умереть за Россию, потому что умирать вообще никому не хочется, даже храбрейшим из храбрых. У меня другие соображения личного характера. Так как после всего выстраданного имею же я право на личную жизнь? Слушай, если я пойду рядовым (иначе я не могу пойти), при благоприятных условиях, отличившись, я могу вернуть себе права – и тогда, тогда моя Вера не будет женой «человеческого недоразумения».
– Дима, ты обижаешь меня. Неужели ты думаешь, что я, для которой ты – все, решительно все, буду видеть смысл своей жизни в тебе и только в тебе, что для меня играет какую-нибудь роль дворянин ты или «человеческое недоразумение»? Да я пошла бы за тобой куда хочешь, на каторгу пошла бы…
– Убежден в этом, безмерно счастлив твоим признанием, но… Поверь, я не хочу, чтобы кто-нибудь посмел сказать:
«А, великолепный Горский! В мирное время он был блестящим офицером, окружал себя комфортом на дежурствах в полку, а теперь, когда война, этот самый Горский, пользуясь своим бесправием, как щитом, получает в банке свое жалованье…»
Этого не должно быть, этого никто не посмеет сказать! В виде особенной милости мне позволено поступить рядовым в любой из армейских кавалерийских полков. Ты знаешь, я уже снесся телеграммой с черноградскими гусарами и заручился согласием. Там, на фронте, я покажу, что Загорский умеет воевать не хуже других…
– А если… если, сохрани Бог, что-нибудь случится?..
– Было бы глупо с моей стороны обнадеживать, уверять, что я вернусь целым и невредимым. Обыкновенная жизнь полна случайностей, что же говорить про войну?! Могут убить, на лучший конец – ранить. Но много шансов и за то, что я уцелею. А раз уцелею, мне удастся заслужить пару солдатских Георгиев. А повезет – может быть, и «полный бант». Но даже и один крест вернет мне если не все, то, во всяком случае, самое главное.
– Жутко мне, страшно… – вздрагивая вся, прильнула Вера щекой к его лицу.
И оба смолкли. Сказочной тишиной объято все. И густые купы деревьев, и гладь уснувшей воды, и клубившийся над поляной туман. Все гуще и гуще реял он меняющимися очертания косматыми клочьями. Копны сена чудились каким-то заколдованным лагерем. Лагерем каких-то сонных витязей.
Загорский хотел успокоить девушку, рассеять ее сомненья, но боялся нарушить безмолвие ночи с ее очарованием и сонными, затаившимися где-то близко таинственными шорохами…
Дмитрий Владимирович заявил банкиру о своем уходе.
Банкир, пожилой мужчина, гримировавшийся под англичанина (втайне он завидовал манере и умению Загорского одеваться), был несказанно удивлен.
– Что я слышу? Вы надеваете солдатскую шинель и отправляетесь на позиции? Хотите чтобы вас там убили?! Зачем это? Кому это нужно?.. Оставайтесь, право! Я только что хотел накинуть вам сотню в месяц, а вы – сражаться! Охота же? Наполеоновской карьеры все равно не сделаете, – пошутил банкир, обнажая в улыбке вставные зубы.
– Альфред Казимирович, я не буду вам объяснять мотивов, да и это не нужно вовсе, а только мое решение непреклонно и…
– И переубедить вас невозможно! Это я сам отлично знаю, характер у вас железный. Итак, вы покидаете нас?
– На время войны… А вернусь жив и здоров, – первым делом к вам, если найдется место.
– Для вас – всегда! О, после войны богатые перспективы, вам найдется кипучая работа за границей. Я вас никому не отдам, имейте в виду, Дмитрий Владимирович, никому! Вы получаете неопределенный в смысле времени отпуск. Вы будете числиться в отпуске с сохранением половинного содержания.
– На каком основании? Я протестую…
– Нет уж, Дмитрий Владимирович, пожалуйста, не протестуйте! На войне деньги, да еще рядовому, который будет получать… сколько там? полтора рубля в месяц, что ли? – нужны. Вы куда, в кавалерию?
– Да, в конницу.
– Вот видите!. Хоть и рядовым, не сядете же вы на солдатскую строевую лошадь. Для этого вы большой барин, вам подай гунтера, а за гунтера бедно-бедно, – я ведь сам интересуюсь конским спортом и на каруселях у Кона катаюсь, – бедно-бедно рублей шестьсот заплатить надо. Так вот, я прошу взять от меня полторы тысячи авансом на лошадь и экипировку, а вернетесь – будем высчитывать двадцатипроцентное погашение из жалованья.
– А если не вернусь?
– Ну, тогда ничего не поделаешь, – развел руками банкир. – С того света не взыщешь, а я от потери тысячи пятисот рублей не обеднею. Но этого не будет, я верю в вашу звезду!
– Я сам в нее верю, хотя и не фаталист. Свою судьбу мы сами отчасти держим в руках.
– В таком случае одно могу сказать: вашу судьбу, Дмитрий Владимирович, вы отдадите в надежные руки.
– Благодарю вас.
– Не за что… Сами себя благодарите, вы – одна из самых одаренных натур, которые когда-либо встречались мне, а ведь я на своем веку не мало перевидал людей. В заключение скажу следующее: хотя я лично и против вашего порыва и охотнее желал бы видеть вас у себя, чем на позициях, но к вашему желанию… Я преклоняюсь перед ним. Не говорю: «прощайте», говорю: «до свидания!»
В сутки Загорский экипирован был весь с головы до ног, и хотя он оделся в форму, как полагается нижнему чину, однако было что-то изысканное, щегольское и в защитной рубахе, и в синих чакчирах, и в мягких, легоньких сапогах с гусарской кокардой.
Вера Клавдиевна в первый момент не узнала Загорского… После штатского Дмитрия Владимировича, которого она привыкла видеть, стоял перед ней солдат-кавалерист, гибкий, стройный, довольно широкий в плечах и тонкий в талии, охваченной поясом красноватой кожи. Рядовой с лицом английского лорда…
– Тебе идет форма, тебе все идет, – влюбленно вырвалось у девушки. – И то, что бреешь усы, так стильно! А тебя не заставят отпустить усы?
– Не заставят, милая моя детка, я сумею завоевать себе исключительное положение.
– Еще бы, с твоим обаянием! Ты сумеешь всех подчинить себе!
– Всех – не всех, но чувствую, что плохо не будет. Полк принял меня охотно, а это показатель многозначительный. Мне верят, верят, что я порядочный человек, хоть суд и покарал меня.
Загорский уехал догонять полк, еще не бывший в деле, но в полной боевой готовности начеку стоявший у австрийской границы.
И жениху и невесте была разлука в большую тягость. Загорский, умевший владеть своими нервами, был наружно спокоен, и только глаза его отражали такую непривычную для них, всегда решительных и холодных, бесконечно трогательную нежность. И Вера пыталась крепиться до последней минуты, но в конце концов, когда уже в вагоне (Дмитрий ехал по положению в третьем классе) они сказали друг другу последнее «прости», девушка, не выдержав, заплакала:
– Теперь я останусь одна… совсем одна…
– Ты останешься со мной, я буду писать часто…
Уплыл поезд, и в затуманенных глазах Веры Клавдиевны растаяло дорогое лицо…
Он будет писать ей, она будет этим жить, от письма до письма…
Вера начала привыкать к своему новому месту у мадам Карнац, где многое казалось ей странным. И вскоре так повернулись события и девушку подхватил такой необыкновенный и жуткий вихрь, как это бывает лишь в самых увлекательных романах…