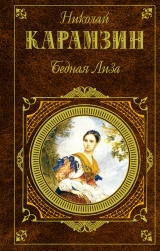
Текст книги "Бедная Лиза (сборник)"
Автор книги: Николай Карамзин
сообщить о нарушении
Текущая страница: 13 (всего у книги 43 страниц)
Приятно, милые друзья мои, видеть наконец того человека, который был нам прежде столько известен и дорог по своим сочинениям; которого мы так часто себе воображали или вообразить старались. Теперь, мне кажется, я еще с большим удовольствием буду читать произведения Гердерова ума, вспоминая вид и голос автора.
В 9 часов вечера. Я пришел к Виланду в назначенное время. Маленькие прекрасные дети его окружили меня на крыльце. «Батюшка вас дожидается», – сказал один. – «Подите к нему», – сказали двое вместе. – «Мы вас проводим», – сказал четвертый. Я их всех перецеловал и пошел к их батюшке.
«Простите, – сказал, вошедши к нему, – простите, если давешнее мое посещение было для вас не совсем приятно. Надеюсь, что вы не сочтете наглостию того, что было действием энтузиазма, произведенного во мне вашими прекрасными сочинениями». – «Вы не имеете нужды извиняться, – отвечал он, – я рад, что этот жар к поэзии так далеко распространяется, тогда как он в Германии пропадает». – Тут сели мы на канапе. Начался разговор, который минута от минуты становился живее и для меня занимательнее. Говоря о любви своей к поэзии, сказал он: «Если бы судьба определила мне жить на пустом острове, то я написал бы все то же и с тем же старанием выработывал бы свои произведения, думая, что музы слушают мои песни». Он желал знать, пишу ли я? И не переведено ли что-нибудь из моих безделок на немецкий? Я сыскал в записной своей книжке перевод «Печальной весны».{90} Прочитав его, сказал он: «Жалею, если вы часто бываете в таком расположении, какое здесь описано. Скажите, – потому что теперь вы вселили в меня желание узнать вас короче, – скажите, что у вас в виду?» – «Тихая жизнь, – отвечал я. – Окончив свое путешествие, которое предпринял единственно для того, чтобы собрать некоторые приятные впечатления и обогатить свое воображение новыми идеями, буду жить в мире с натурою и с добрыми, любить изящное и наслаждаться им». – «Кто любит муз и любим ими, – сказал Виланд, – тот в самом уединении не будет празден и всегда найдет для себя приятное дело. Он носит в себе источник удовольствия, творческую силу свою, которая делает его счастливым».
Разговор наш касался и до философов. – «Никто из систематиков, – сказал Виланд, – не умеет так обольщать своих читателей, как Боннет; а особливо таких читателей, которые имеют живое воображение. Он пишет ясно, приятно и заставляет любить себя и философию свою». – О Канте говорит Виланд с почтением; но, кажется, не ломает головы над его метафизикою. Он показывал мне новое сочинение своего зятя, профессора Реингольда, под титулом «Versuch einer neuen Theorie des menschlichen Vorstellungsvermögens»,[85]85
«Опыт новой теории человеческой способности представлений» (нем.). – Ред.
[Закрыть] которое только что отпечатано и которое должно объяснить Кантову метафизику. «Прочтите его, – сказал он мне, – если вы читаете книги такого рода». – «Ваш „Агатон“ или „Оберрон“ для меня приятнее, – отвечал я, – однако ж иногда из любопытства заглядываю и в область философии». – «А разве „Агатон“ не есть философическая книга? – сказал он. – В нем решены самые важнейшие вопросы философии». – «Правда, – сказал я, – итак, прошу извинить меня». —
С любезною искренностию открывал мне Виланд мысли свои о некоторых важнейших для человечества предметах. Он ничего не отвергает, но только полагает различие между чаянием и уверением. Его можно назвать скептиком, но только в хорошем значении сего слова.
Ему, казалось, приятно было слышать от меня, что некоторые из важнейших его сочинений переведены на русский. «Но каков перевод?» – спросил он. – «Не может нравиться тем, которые знают оригинал», – отвечал я. – «Такова моя участь, – сказал он, – и французские, и английские переводчики меня обезобразили».
В шесть часов я встал. Он взял мою руку и сказал, что от всего сердца желает мне счастия в жизни. «Вы видели меня таковым, каков я подлинно, – примолвил он. – Простите и хотя изредка уведомляйте меня о себе. Я всегда буду отвечать вам, где бы вы ни были. Простите!» – Тут мы обнялись. Мне казалось, что он был несколько тронут; а это самого меня тронуло. На крыльце мы в последний раз пожали друг у друга руки и расстались – может быть, навечно. Никогда, никогда не забуду Виланда! Если бы вы видели, друзья мои, с какою откровенностию, с каким жаром говорит сей почти шестидесятилетний человек и как все черты лица его оживляются в разговоре! Душа его еще не состарилась, и силы ее не истощились. «Клелия и Синибальд», последняя из его поэм, писана с такою же полнотою духа, как «Оберрон», как «Музарион» и проч. Кажется еще, что он в последних своих творениях ближе и ближе к совершенству подходит. Тридцать пять лет известен Виланд в Германии как автор. Самые первые его сочинения, например «Нравоучительные повести», «Симпатии» и проч., обратили на него внимание публики. Хотя строгая критика, которая тогда уже начиналась в Германии, и находила в них много недостатков, однако ж отдавала автору справедливость в том, что он имеет изобретательную силу, богатое воображение и живое чувство. Но эпоха славы его началась с «Комических повестей», признанных в своем роде превосходными и на немецком языке тогда единственными. Удивлялись его остроте, вкусу, красоте языка, искусству в повествовании. Потом издавал он поэму за поэмою, и последняя всегда казалась лучшею. Давно уже Германия признала его одним из первых своих певцов; он покоится на лаврах своих, но не засыпает. Если французы оставили наконец свое старое худое мнение о немецкой литературе (которое некогда она в самом деле заслуживала, то есть тогда, как немцы прилежали только к сухой учености), – если знающие и справедливейшие из них соглашаются, что немцы не только во многом сравнялись с ними, но во многом и превзошли их, то, конечно, произвели это отчасти Виландовы сочинения, хотя и нехорошо на французский язык переведенные.
Вчера ввечеру, идучи мимо того дома, где живет Гете, видел я его смотрящего в окно, – остановился и рассматривал его с минуту: важное греческое лицо! Ныне заходил к нему; но мне сказали, что он рано уехал в Йену. – В Веймаре есть еще и другие известные писатели: Бертух, Боде и проч. Бертух перевел с гишпанского «Дон-Кишота» и выдавал «Магазин гишпанской и португальской литературы»;{91} а Боде славится переводом Стернова «Путешествия» и «Тристрама Шанди». Герцогиня Амалия любила дарования. Она призвала к своему двору Виланда и поручила ему воспитание молодого герцога; она призвала Гете, когда он прославился своим «Вертером»; она же призвала и Гердера в начальники здешнего духовенства.
Простите, друзья мои! Ясная ночь вызывает меня из комнаты. Беру свой страннический посох – иду смотреть на засыпающую природу и странствовать глазами по звездному небу.
Веймар, июля 22
Мне рассказывали здесь разные анекдоты о нашем Л*. Он приехал сюда для Гете, друга своего, который вместе с ним учился в Стразбурге и был тогда уже при веймарском дворе. Его приняли очень хорошо, как человека с дарованиями; но скоро приметили в нем великие странности. Например, однажды явился он на придворный бал в домине, в маске и в шляпе и в ту минуту, как все обратили на него глаза и ахнули от удивления, спокойно подошел к знатнейшей даме и звал ее танцевать с собою. Молодой герцог любил фарсы и рад был сему забавному явлению, которое доставило ему удовольствие смеяться от всего сердца; но чиновные господа и госпожи, составляющие веймарский двор, думали, что дерзостному Л* надлежало за то по крайней мере отрубить голову. – С самого своего приезда Л* объявил себя влюбленным во всех молодых, хороших женщин и для каждой из них сочинял любовные песни. Молодая герцогиня печалилась тогда о кончине сестры своей; он написал ей на сей случай прекрасные стихи, но не преминул в них уподобить себя Иксиону, дерзнувшему влюбиться в Юпитерову супругу. – Однажды он встретился с герцогинею за городом и, вместо того чтобы поклониться ей, упал на колени, поднял вверх руки и таким образом дал ей мимо себя проехать. На другой день Л* всем знакомым разослал по бумажке, на которой нарисована была герцогиня и он сам, стоящий на коленях с поднятыми вверх руками. – Но ни поэзия, ни любовь не могли занять его совершенно. Он мог еще думать о реформе, которую, по его мнению, надлежало сделать в войске его светлости, и для того подавал герцогу разные планы, писанные на больших листах. – За всем тем его терпели в Веймаре, а дамы находили приятным. Но Гете наконец с ним поссорился и принудил его выехать из Веймара. Одна дама взяла его с собою в деревню, где несколько дней читал он ей Шекспира, и потом отправился странствовать по белу свету. —
Эрфурт, 22 июля
В два часа приехал я сюда из Веймара, остановился в трактире (которого имени, право, не знаю); выпил чашку кофе, пошел на так называемую Петрову гору в бенедиктинский монастырь и просил там первого встретившегося мне отца указать то место, где погребен граф Глейхен. Толстый отец (NB: монастырь очень богат) охриплым голосом сказал мне, чтобы я шел к отцу церковнику. Мне надлежало идти через длинные сени или коридор, где в печальном сумраке представились глазам моим распятия и лампады угасающие. Вожатый оставил меня в коридоре и пошел искать отца церковника. Трудно описать, что чувствовал я, прохаживаясь один, в глубокой тишине, по сему темному коридору и смотря на лампады и на старые картины, на которых изображены были разные страшные сцены. Мне казалось, что я пришел в мрачное жилище фанатизма. Воображение мое представило мне сие чудовище во всей его гнусности, с поднявшимися от ярости волосами, с клубящеюся у рта пеною, с пламенными, бешеными глазами и с кинжалом в руке, прямо на сердце мое устремленным. Я затрепетал, и холодный ужас разлился по моим жилам. Из глубины прошедших веков загремели в мой слух адские заклинания; но, к счастию, в самую сию минуту пришел мой вожатый, и фантомы моего воображения исчезли. «Отец церковник, – сказал он, – вместе с другими отцами сидит за вечернею трапезою». – «Да не можешь ли ты сам показать мне гроб Глейхена?» – спросил я. «Могу, – отвечал он, – если вы только его хотите видеть». – Вошедши в церковь, поднял он две широкие скованные доски, и я увидел большой камень. – Выслушайте историю.
Когда святая ревность выгнать неверных из земли обетованной заразила всю Европу и благочестивые рыцари, крестом ознаменованные, устремились к Востоку, тогда Глейхен, имперский граф, оставил свое отечество и с верною дружиною направил путь свой к странам азиатским. Не буду описывать вам великих дел его мужества. Скажу только, что самые храбрейшие рыцари христианства удивлялись его подвигам. Но небесам угодно было искусить несчастием веру героя – граф Глейхен попался в плен к неверным и стал невольником знатного магометанца, который велел ему смотреть за своим садом. Граф, несчастный граф поливал цветы и стенал в тяжком рабстве. Но тщетны были бы все его стенания и все обеты, если бы прекрасная сарацинка, милая дочь господина его, не обратила взоров нежной любви на злосчастного героя. Часто в густых тенях вечера внимала она жалобным песням его; часто видела невольника, молящегося со слезами, и сама слезы проливала. Робкая стыдливость долгое время не допускала ее изъясниться и сказать ему, что она берет участие в его печали. Наконец искра воспылала – стыдливость исчезла – любовь не могла уже таиться в сердце и огненною рекою излилась из уст ее в душу изумленного графа. Ангельская невинность ее, цветущая красота и способ разорвать цепь неволи не дали ему вспомнить, что у него была супруга. Он клялся сарацинке вечно любить ее, если она согласится оставить своего отца, отечество и бежать с ним в страны христианские. Но она уже не помнила ни отца, ни отечества – граф был для нее все. Прекрасная летит, приносит ключ, отпирает дверь в поле – летит с своим возлюбленным, и тихая ночь, одев их мрачным своим покрывалом, благоприятствует их побегу. Счастливо достигают они до отечества графского. Подданные лобызают своего государя и отца, которого считали они погибшим, и с любопытством смотрят на его статную спутницу, покрытую флером. При входе во дворец графиня бросается в его объятия. «Ты опять меня видишь, любезная супруга! – говорит граф. – Благодари ее (указывая на свою избавительницу), – она все для меня оставила. Ах! я клялся любить ее!» – Граф хочет рукою закрыть текущие слезы свои. Сарацинка открывает свое лицо, бросается на колени перед графинею и, рыдая, говорит: «Я теперь раба твоя!» – «Ты сестра моя, – отвечает графиня, подымая и целуя сарацинку, – супруг мой будет твоим супругом; разделим сердце его». Граф удивляется великодушию супруги – прижимает ее к своему сердцу – все обнимаются и клянутся любить друг друга до гроба. Небеса благословили сей тройственный союз, и сам папа утвердил его. Мир и счастье обитали в графском доме, и верные супруги были погребены вместе – в Эрфурте, в церкви бенедиктинского монастыря – и покрыты одним большим камнем, на котором рука усердного художника вырезала их изображения. Я видел сей большой камень и благословил память супругов.
Взглянув с Петровой горы на город и окрестности, пошел я в сиротский дом и видел там келью, в которой Мартин Лютер жил от 1505 до 1512 года. На стенах сей маленькой, темной горницы написана его история. На столике лежит немецкая Библия первого издания, которую употреблял сам Лютер и в которой все белые страницы исписаны его рукою. «Можно ли, – думал я, – чтобы простой монах, живший во мраке этой кельи, сделал не только великую реформу в римской церкви, вопреки императору и папе, но и великую нравственную революцию в свете!»{92} – Вышедши из кельи, увидел я в коридоре множество странных картин. На одной изображен император, к которому смерть в виде скелета подходит и докладывает с низким поклоном, что ему пора сложить с себя земное величие и отправиться на тот свет. На другой представлена актриса, а позади ее смерть в царском одеянии, поднимающая кинжал с маскою. На третьей изображены содержатель типографии в штофном халате и в большом парике, помощник его и смерть, хотящая подкосить ноги первого; а внизу подписано, что и содержатели типографий умереть должны! И проч., и проч.
Гота, 23 июля в полночь
Я приехал сюда в одиннадцать часов утра и остановился в трактире «Колокольчика». Сильная головная боль заставила меня пролежать весь день. Ввечеру я встал, ходил по городу и видел перед дворцом иллюминацию и фейерверк, которым готский герцог веселил маленького веймарского принца, приехавшего к нему в гости.
Франкфурт-на-Майне, июля 28
Вчера, милые друзья мои, приехал я во Франкфурт. Дорога от Готы была для меня очень скучна. Почти на каждой станции надлежало мне ночевать (я ехал на ординарной почте) – или по крайней мере стоять по нескольку часов. Дороги везде прескверные, так что надобно ехать всё шагом, и даже самые улицы в маленьких городках и местечках так дурны, что с трудом проехать можно. Правда, я сидел в коляске очень просторно, то есть почти всё один; но чрезмерно тихая езда и остановки были для меня несносны. К тому же почти ничего любопытного не встречалось глазам моим, иясомневаюсь, чтобы сам Йорик{93} нашел тут много занимательного для своего сердца.
Только дикие окрестности Эйзенаха произвели во мне некоторые приятные чувства, напомнив мне первобытную дикость всей натуры. Еще заметил я замок Вартбург, который лежит на горе, недалеко от Эйзенаха, и в котором после Вормсского сейма содержан был Мартин Лютер. Тут возвышаются два камня, в которых воображение находит нечто похожее на человеческие фигуры и о которых, по старому преданию, рассказывается следующая сказка.
Молодой монах влюбился в молодую монахиню. Тщетно сражался он с своею любовию; напрасно хотел умерщвлять плоть свою постом и трудами! Кровь его кипела и волновалась. Образ нежной монахини всегда присутствовал в душе его. Он хотел молиться; но язык его, послушный сердцу, не мог произнести ничего, кроме: «Люблю! Люблю! Люблю!» Часто ходил он в тот монастырь, где заключена была прекрасная; часто, смотря на нее, лил пламенные слезы и видел огненный румянец на лице своей возлюбленной, видел симпатические слезы в глазах ее. Сердца их разумели друг друга, страшились своих чувств и – питали их. Наконец молодой монах трепещущею рукою вручил своей любезной следующее письмо: «Милая сестра! Недалеко от монастырских ворот, в правую сторону, возвышается крутая гора. Я буду там при наступлении ночи. Или ты, прекрасная, будешь там же, или я свергнусь с высокого утеса и умру временною и вечною смертью». Сердце ее затрепетало. «Мне видеть его, – думает она, – мне видеть его за стеною монастырскою и быть с ним одной в тишине ночи? Но я должна спасти его от страшного греха самоубийства». – Она находит способ выйти ночью из монастыря – идет во мрак и страшится всякого шороха – всходит на гору и вдруг чувствует себя в объятиях своего страстного обожателя. Они забывают все, трепещут в восторге – но вдруг кровь их хладеет, немеют члены, сердца перестают биться, и небесный гнев превращает их в два камня. «Вы видите их», – сказал мне постиллион, указывая на верх горы. – Из сей народной сказки сочинил Виланд прекрасную поэму, под титулом: «Der Mönch und die Nonne».[86]86
«Монах и монахиня» (нем.). – Ред.
[Закрыть]
Проезжая через маленькое местечко близ Гиршфельда, постиллион мой остановился у дверей одного дома. Я счел этот дом трактиром, вошел в него и первому человеку, который встретил меня с низким поклоном, велел принести бутылку воды и рейнвейна, сел на стул и не думал снимать своей шляпы. В комнате было еще человека три, которые с великою учтивостию начинали говорить со мною. Принесли рейнвейн. Я пил, хвалил вино и наконец спросил, что надобно заплатить за него? – «Ничего, – отвечали мне с поклоном, – вы не в трактире, а в гостях у честного мещанина, который очень рад тому, что вам полюбился его рейнвейн». Вообразите мое удивление! Я схватил с себя шляпу и стал извиняться. «Ничего! Ничего! – сказал мне хозяин. – Только прошу вас быть благосклонным к моей дочери, которая поедет с вами в коляске». – «Буду почтителен и все, что вам угодно», – отвечал я. Пришла дочь его, девушка лет в двадцать, изрядная собою, в зеленом суконном сертуке и в черной шляпе. Мы рекомендовались друг другу и сели в коляске рядом. Каролина (так называлась девушка) сказала мне, что она едет в деревню к своей тетке. Я не хотел беспокоить ее никакими дальнейшими вопросами, вынул из кармана своего «Vicar of Wakefield» и начал читать. Сопутница моя стала зевать, жмуриться, дремать, и наконец голова ее упала ко мне на плечо. Я не смел тронуться, чтобы не разбудить ее; но вдруг нас так тряхнуло, что она отлетела от меня в другой угол коляски. Я предложил ей большую свою подушку. Она взяла ее, положила себе под голову и опять заснула. Между тем смерклось, и наступила ночь. Каролина спала крепким сном и не просыпалась до самого того места, где надлежало нам с нею расстаться. Что принадлежит до меня, то я вел себя так честно, как целомудренный рыцарь, боящийся одним нескромным взором оскорбить стыдливость вверенной ему невинности. Редки такие примеры в нынешнем свете, друзья мои, редки! Каролина, по своей невинности, не думала благодарить меня за мою воздержность и простилась со мною очень сухо. Бог с нею!
Нигде во всю дорогу не было мне так грустно, как в Гиршфельде. Я приехал туда в пять часов вечера и должен быть пробыть там до полуночи. Город не представлял мне ничего любопытного, яинезнал, что делать. Читать не мог – писать тоже, хотя почтмейстерша, по моему требованию, и принесла мне целую тетрадь бумаги. Сидя подгорюнившись, думал я о друзьях отдаленных, чувствовал сиротство свое и грустил.
Сюда приехал я ночью в дождь и остановился в трактире «Звезды», где отвели мне хорошую комнату.
Франкфурт, 29 июля
Ненастье продолжается. Сижу в своей горнице под растворенным окном, и хотя косой дождь мочит меня и разливает дрожь по моей внутренности, однако ж каменная русская грудь не боится простуды, и питомец железного севера смеется над слабым усилием маинских бурь.
Но такой ли погоды ожидал я в здешнем кротком климате? Более и более удаляясь от севера, радовался я мыслию, что оставляю за собою холод и сырость, все сердитое, жестокое и угрюмое в натуре. «Там, где течет Маин и Реин, – думал я, – там небо чисто, дни красны, и одни зефиры струят воздух; там цветущая природа ликует в ярком свете лучей солнечных». Но – приезжаю и нахожу пасмурную осень середи лета. Только я намерен переупрямить погоду; и клянусь титанами и страшным Стиксом, что не выеду из Франкфурта, не дождавшись ясных дней.
Вчера был я только у Виллемера, богатого здешнего банкира. Мы говорили с ним о новых парижских происшествиях. Что за дела там делаются! Думал ли наш А* (который уехал отсюда недели за две перед сим) видеть в Париже такие сцены?
Не воображайте, чтобы мне скучно было сидеть в своей горнице. Публичная библиотека в трех шагах от трактира. Вчера я брал из нее «Фиеско»,{94} Шиллерову трагедию, и читал ее с великим удовольствием от первой страницы до последней. Едва ли не всего более тронул меня монолог Фиеска, когда он, уединясь в тихий час утра, размышляет, лучше ли ему остаться простым гражданином и за услуги, оказанные им отечеству, не требовать никакой награды, кроме любви своих сограждан, или воспользоваться обстоятельствами и присвоить себе верховную власть в республике. Я готов был упасть перед ним на колени и воскликнуть: «Избери первое!» Какая сила в чувствах! Какая живопись в языке! Вообще «Фиеско» тронул меня более, нежели «Дон-Карлос», хотя сего последнего видел я на театре и хотя критика отдает ему преимущество. – Ныне читал я также с великим удовольствием Ифландовы драмы,{95} которые можно назвать прекрасными семейственными картинами и которые, верно, полюбились бы нашей публике, если бы искусный человек обработал их для русского театра.
В одном трактире со мною живет молодой доктор медицины, который вчера пришел ко мне пить чай и просидел у меня весь вечер. По его мнению, все зло в мире происходит оттого, что люди не берегут своего желудка. «Испорченный желудок, – сказал он, – бывает источником не только всех болезней, но и всех пороков, всех дурных навыков, всех злых дел. Отчего моралисты так мало исправляют людей? Оттого, что они считают их здоровыми и говорят с ними как со здоровыми, тогда как они больны и когда бы, вместо всех словесных убеждений, надлежало им дать несколько приемов чистительного. Беспорядок душевный бывает всегда следствием телесного беспорядка. Когда в машине нашей находится все в совершенном равновесии, когда все сосуды действуют и отделяют исправно разные жидкости, одним словом, когда всякая часть отправляет ту должность, которую поручила ей натура, тогда и душа бывает здорова; тогда человек рассуждает и действует хорошо; тогда бывает он мудр, и добродетелен, и весел, и счастлив». – «Итак, если бы у Калигулы не был испорчен желудок, то он не вздумал бы построить моста на Средиземном море?» – спросил я. «Без сомнения, – отвечал мой доктор, – и если бы лекарь его догадался дать ему несколько чистительных пилюль, то смешное предприятие было бы через час оставлено. Отчего в златом веке были люди и добры, и счастливы? Конечно, оттого, что они, питаясь только растениями и молоком, никогда не обременяли и не засоряли своего желудка. Наконец, скажу вам, что если бы я был государем, то велел бы всех преступников вместо наказания отсылать в больницы и лечить до того, пока они сделались бы добрыми людьми и полезными гражданами. Со временем предложу публике свои мнения и доказательства, которые, может быть, сделают революцию в философии. Тогда вспомните, государь мой, что вы от меня слышали». – Я удивлялся логике господина доктора.
Июля 30
Наконец франкфуртское небо перестало хмурить брови и прояснилось. Пользуясь хорошим временем, ходил я так много, что теперь чувствую боль в ногах.
Трактирщик мой водил меня по здешним садам. В одном из них встретились мы с хозяином, почтенным стариком и, как сказывают, очень богатым человеком. Узнав от моего вожатого, что я путешествующий иностранец, он взял меня за руку и сказал: «Я сам покажу вам все то, что можно назвать изрядным в моем саду. Какова эта темная аллея?» – «В жаркое время тут хорошо прохлаждаться», – отвечал я. – «А эта маленькая беседка под ветвями каштановых дерев?» – «Тут прекрасно сидеть ввечеру, когда луна покажется на небе и свет свой прольет сквозь развесистые ветви на эту бархатную зелень». – «А этот холмик?» – «Ах! Как бы я желал встретить тут восходящее солнце!» – «А этот маленький лесок?» – «Тут, верно, поют весною соловьи так спокойно и весело, как в самых диких местах природы, нимало не подозревая, чтобы сюда заманивало их искусство». – «Что вы скажете об этом домике?» – «Он построен на то, чтоб быть жилищем философа, любящего простоту, уединение и тишину». – «Теперь вам надобно согласиться выпить у меня чашку кофе». – Мы вошли в домик и сели на деревянных стульях вокруг маленького столика. Нам подали кофе. Я с удовольствием поблагодарил хозяина за его гостеприимство.
В ненастное время казалось мне, что Франкфурт пуст, а теперь кажется, что он очень многолюден, – оттого, что в дурную погоду сидели все дома, кроме тех, которым уже по крайней нужде надлежало корчиться под дождем и топтать ногами грязь на улицах, а теперь, обрадовавшись солнцу, все, как муравьи, ползут из своих нор.
По своей цветущей и обширной коммерции Франкфурт есть один из богатейших городов в Германии. Кроме некоторых дворянских фамилий, здесь поселившихся, всякий житель – купец, то есть производит какой-нибудь торг. На всякой улице множество лавок, наполненных товарами. Везде знаки трудолюбия, промышленности,[87]87
Это слово сделалось ныне обыкновенным: автор употребил его первый.
[Закрыть] изобилия. Ни один нищий не подходил ко мне на улице просить милостыни.
Только нельзя назвать Франкфурта хорошо выстроенным городом. Домы почти все старинные и расписаны разными красками, что для глаз весьма странно.
Еще скажу то, что здесь в трактирах стол очень дешев. Мне приносят всегда пять хорошо приготовленных блюд и еще десерт, на двух или трех тарелках, и за это плачу не более 50 копеек. Вино также очень дешево. Бутылка молодого рейнвейна стоит 10 копеек, а старого – 40. —
После обеда, когда солнце укротило жар лучей своих, вышел я за город. Сады, сельские домики, луга и винограды представились глазам моим. Сколько ландшафтов, достойных кисти Салватора Розы или Пуссеневой!
Уединенный домик с садиком, недалеко от большой дороги, прельстил меня, и я пошел к нему по узенькой тропинке. Два мальчика, игравшие на траве, бросились ко мне навстречу; но, закричав: «Это не он! Это не Каспар!», побежали назад и скрылись в домик. Старое каштановое дерево призывало меня в свою тень – я сел под его ветвями. Минут через пять мальчики опять выбежали, а за ними вышла женщина лет в тридцать, приятная лицом, в белой кофточке и в соломенной шляпке. Она села на крыльце и смотрела с улыбкою на играющих мальчиков, с такою улыбкою, по которой легко было узнать, что она мать их. Они уговорились бегать взапуски; взявшись за руки, отошли от крыльца шагов тридцать, остановились, выставили вперед грудь и правую ногу и дожидались, чтобы мать подала им знак. Она махнула им платком, и они пустились, как из лука стрела. Большой опередил меньшого, прибежал к матери и, закричав: «Я первый!», бросился целовать ее. Меньшой прибежал и также кинулся к ней на шею. Любезная картина семейственного счастия! Может быть, в городе она бы меньше меня тронула, но среди сельских красот сердце наше живее чувствует все то, что принадлежит к составу истинного счастия, влиянного благодетельным существом в сосуд жизни человеческой. – Прости, уединенный домик! Мир, тишина и покой да будут всегда наследственным добром твоих обитателей! А ты, ветвистое дерево! Долго, долго еще принимай странников в тень свою – и под кровом шумящих листьев твоих да веселятся они веселием невинности и добродетели!
Франкфурт, июля 31
Ныне ездил я в деревню Берген, которой имя очень известно: подле нее было в 1759 году, 13 апреля, кровопролитное сражение между французами и соединенною ганноверскою и гессенскою армиею; последнею командовал брауншвейгский принц Фердинанд, а первыми, которые остались победителями, маршал Брольи.
В здешней ратуше, называемой Римлянином (Römer), показывают путешественникам ту залу, в которой обедает новоизбранный император и где стоят портреты всех императоров, от Конрада I до Карла VI. Кто не пожалеет червонца, тот там же в архиве может видеть и славную «Золотую буллу», или договор императора Карла IV с государственными чинами, написанный на сорока трех пергаментных листах и названный сим именем от золотой печати, висящей на черных и желтых шелковых снурках. На сей печати изображен император, сидящий на троне, а с другой стороны Римская крепость, или так называемый замок св. Ангела (il castello di S. Angelo), с словами aurea Roma (золотой Рим), которые расположены в трех линиях таким образом:
aur ear oma
Я был и в кафедральной церкви католиков, где по уставу маинцский архиепископ коронует избранного императора. Тут бросилась мне в глаза статуя Марии в белом кисейном платье. «Часто ли шьют ей обновы?» – спросил я у моего провожатого. – «Из году в год», – отвечал он. Хотя главная церковь в городе принадлежит католикам, однако ж господствующая религия во Франкфурте есть лютеранская, и католицкому духовенству запрещено ходить в процессии по улицам. Здесь очень много и реформатов, большею частию французов, выгнанных из отечества Лудовиком XIV, но они не могут иметь участия в правлении города и даже не смеют всенародно отправлять свои богослужения в таком городе, где жиды имеют синагогу. Такая нетерпимость, конечно, не служит к чести франкфуртского правительства.
Жидов считается здесь более 7000. Все они должны жить в одной улице, которая так нечиста, что нельзя идти по ней, не зажав носа. Жалко смотреть на сих несчастных людей, столь униженных между человеками! Платье их состоит по большей части из засаленных лоскутков, сквозь которые видно нагое тело. По воскресеньям, в тот час, когда начинается служба в христианских церквах, запирают их улицу, и бедные жиды, как невольники, сидят в своей клетке до окончания службы; и на ночь запирают их таким же образом. Сверх сего принуждения, если случится в городе пожар, то они обязаны везти туда воду и тушить огонь.
Между франкфуртскими жидами есть и богатые, но сии богатые живут так же нечисто, как бедные. Я познакомился с одним из них, умным, знающим человеком. Он пригласил меня к себе и принял очень учтиво. Молодая жена его, родом француженка, говорит хорошо и по-французски, и по-немецки. С удовольствием провел я у них около двух часов, но только в сии два часа чего не вытерпело мое обоняние!








