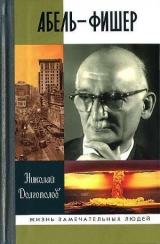
Текст книги "Абель — Фишер"
Автор книги: Николай Долгополов
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 28 страниц) [доступный отрывок для чтения: 11 страниц]
Героев и генералов нам тогда не давали
Дмитрий Петрович Тарасов не склонен был много рассказывать о себе. Позволю сделать это за него. Полковник, родившийся в 1911-м, долгие годы работал в контрразведке, дослужившись до начальника отдела. Затем был переведен на ту же должность уже во внешней разведке. Занял ее, когда будущий подчиненный Вильям Фишер находился в американской тюрьме. С 1971-го полковник Фишер – на пенсии, Тарасов, моложе его на восемь лет, дослужил до 1974-го. На мой вопрос, в каком отделе они вместе трудились, Дмитрий Петрович уклончиво ответил, что «в одном, название которого значения не имеет, во внутреннем». Наверное, так.
Работу же Марка в США в самые успешные годы курировал Виталий Григорьевич Павлов, дослужившийся, что в разведке в те годы случалось нечасто, до звания генерал-лейтенанта. Именно он возглавлял Четвертый отдел Четвертого управления нелегальной разведки – американское направление. Под его руководством и готовились нелегальные разведчики для отправки в резидентуру Марка в Штаты.
Предположительно в первой половине 1950-х Павлов лично инспектировал нелегальные резидентуры. Заехал в пять-шесть стран Западной Европы. В тот раз в напарницах Павлова была уже знакомая нам Лона Коэн. По легенде он был американским антикваром высокого полета, приглядывается к рынку во Франции, Италии и еще нескольких странах.
К Марку – Фишеру Павлов относился с глубоким уважением, часто приводя в пример молодым сотрудникам его стойкость при аресте. А после возвращения начальником Вильяма Фишера стал Дмитрий Петрович Тарасов.
Когда мы познакомились, полковнику Тарасову было за 80. Позади три инфаркта и десятки лет службы. В истории полковника Абеля Дмитрий Петрович – фигура немаловажная: сначала он вызволял разведчика из американской тюрьмы, потом Фишер трудился в его отделе. В 1997-м, за год до кончины, выпустил книгу «Жаркое лето полковника Абеля».
Я бы назвал Тарасова типичным представителем старой школы. Давность лет не служила для Дмитрия Петровича ни малейшим поводом для раскованности. Его степенная и медленная речь была полна выражений, которые сегодня услышишь редко.
И страшная усталость. Она во всем – в жестах, в манере выражать мысли… Позволю себе маленькое замечание. Люди его профессии изношены чрезвычайно. Груз, который накладывает на плечи Служба разведки, пригибает к земле? Что же, тем ценнее свидетельства…
– Дмитрий Петрович, для простоты все же буду называть Вильяма Генриховича полковником Абелем. Почему именно он стал символом нашего разведчика-нелегала? Чего же нужно было добиться и что совершить, чтобы войти в легенду и получить у американцев 30 лет тюрьмы?
– Дать огромную отдачу – государственную, научно-техническую, политическую. Перед ним поставили три задачи. Первая, главная: выявлять степень возможности вооруженного конфликта США с Советским Союзом. Далее – создать надежные нелегальные каналы связи с Центром, чтобы исключить рискованное использование разведкой официальных советских представителей. И третья – добывать любую полезную информацию, представляющую интерес для разведки по вопросам внешней политики, экономического положения и военного потенциала Соединенных Штатов. И Марку это удалось. Въехав в Штаты в 1948 году, он уже в 1949-м получил орден Красной Звезды.
– Вы хотите сказать, что его отдача была моментальной?
– Я вам объясню так: легализация разведчика-нелегала – вопрос очень деликатный. И если она проходит быстро, это уже большое достижение.
– А если еще поконкретнее: что было дальше? И почему появился этот псевдоним – Марк?
– Его он взял сам. Просто для сокращения. Быстро, коротко, очень удобно. Марк поддерживал контакт с руководством группы «Волонтеры» – с гражданами США Луисом и Лесли. Это сотрудники нашей внешней разведки Моррис и Леонтина Коэны. Известные как Питер и Елена (Лона) Крогеры, они сумели обеспечить передачу нам всей секретной информации о разработках американской атомной бомбы, проводимых в лабораториях атомного центра в Лос-Аламосе.
– Как такое могло удаться? Наверняка городок этот был засекречен не хуже нашего Арзамаса-16?
– Тем не менее они поддерживали связь с учеными. Иногда все проходило гладко, но случалось и смываться. Город действительно закрытый, режим в нем строжайший, и проживали там только научные работники да больные, лечившие легкие. И еще те, кто непосредственно создавал атомную бомбу. А на Лесли, туда попавшую, выходит, наконец, с важными данными источник информации. И вдруг перед отъездом, уже при посадке в поезд, – проверка пассажиров и багажа. У Лесли все спрятано в коробочке из-под салфеток. Она, женщина находчивая, тут же сымитировала насморк, вытащила салфетку. И когда ее вещи начали досматривать, сунула эту коробочку прямо в руки проверяющему. А сама роется в своих вещах и дорылась до того, что поезд тронулся. Ее быстро подсаживают, и проверявшие машинально, на ходу, отдают ей коробку.
– И Абель имел непосредственные контакты с этой группой?
– Какие контакты? Они ему подчинялись, были у него на связи.
– Значит, он – одно из главных действующих лиц?
– Руководитель группы.
– То есть именно Марк направлял действия тех, кого в Штатах называли «русскими атомными шпионами»? Ведь супругов Розенбергов, с которыми, как считает тот же Донован, якобы были связаны Коэны, казнили на электрическом стуле. Правильный я делаю вывод?
– Выводы – за вами. Розенберга атомными разведчиками никогда не были. А Коэнов мы тогда вытянули – успели их вывезти. И Марк бы выехал. Если бы его связной Рейно Хейханен не отправился после встречи с нашим сотрудником прямо в американское посольство в Париже. Все им выложил. А ведь для Марка мы подготовили все отходы. Он должен был перебраться поближе к Мексике. Потом в Мехико и оттуда – домой.
– 1957 год – время еще суровое. После ареста не потеряли доверия к Марку?
– Абсолютно нет. Не было никаких сомнений. Какая потеря доверия, когда дело продолжало крутиться и многие его люди оставались на местах?
– Но почему тогда страна отказалась от Абеля? Публиковались в наших газетах статьи со знакомым припевом: никакого разведчика, сплошная провокация американских спецслужб. Не слишком этично.
– Может быть. Особенно сегодня. А возьмите срез времени, тот период – какие были отношения со Штатами? Но наш отдел начал искать возможность его выручить.
– Как ваш отдел назывался?
– Сложно. Он наш, внутренний. После возвращения в нем до последних дней работал и Вилли.
– Дмитрий Петрович, как все-таки родился этот псевдоним – Абель?
– Мы знали о его дружбе с Рудольфом Ивановичем Абелем – нашим бывшим сотрудником, к тому времени, к несчастью, из жизни ушедшим. После ареста Вилли надо было как-то выбираться изданного положения. Он в руках американцев и прекрасно понимает, что они могут начать с нами радиоигру, ввести Центр в такое заблуждение. И Вилли решился: признал себя советским гражданином, чтобы страна знала, чтобы его выручали. И взяв известное нам имя, помог понять Службе, что он находится в тюрьме. Американцам заявил: «Буду давать показания при условии, что разрешите написать в советское посольство». Те согласились, и письмо действительно поступило в консульство. Но консул попался не тот. Завел-таки дело, но американцам ответил, что такого советского гражданина у них не значится. По-своему он был прав: откуда ж Абель мог обозначиться в консульстве? Ошибка состояла в ином: надо было сообщить в Центр, хотя бы как-то проверить. А так мы только потеряли время и узнали, что Марка взяли, когда американцы объявили об аресте Абеля и начале процесса.
– И в нашей печати, и в зарубежной утверждалось, что Абеля обменяли на летчика Пауэрса плюс еще двух их разведчиков только благодаря усилиям ФБР и семьи Пауэрсов, обращавшейся и к Хрущеву, и к Кеннеди…
– Пусть говорят что угодно. Занимался этим наш отдел: три года шла такая возня, были исписаны горы бумаги. В ГДР мы наняли толкового адвоката – Фогеля, переводили ему гонорары от нашей Службы. Я возглавлял группу и потому знаю, о чем говорю.
– А что за всеми этими не видимыми миру усилиями стояло?
– Как всегда, работа… Во время процесса его американский защитник Донован довольно смело заявил в суде: «В такой ситуации, как Абель, может оказаться и наш человек. И тогда русский полковник может пригодиться». Американцы тогда думали, что такого не может быть. Но случилось.
– Ну вот, в Восточном Берлине вы наняли адвоката…
– Еще до того товарищи из нашей Службы нашли в Лейпциге женщину – якобы родственницу Абеля, и на адрес этой фрау Марк начал писать из тюрьмы.
– Эту женщину подобрали лично вы?
– Нет. Товарищи из нашей Службы в ГДР. Американцы ездили проверять, существует ли такая женщина в действительности. Очень осторожно навели справки у жильцов, осмотрели дом, увидели ее фамилию в списке квартирантов, но в сам подъезд войти не решились. Ведь Лейпциг, находившийся в ГДР, это вам не западногерманские Бонн или Гамбург, где они чувствовали себя полными хозяевами. Подозрений не возникло. Но внезапно американцы в переписке отказали.
– Этот самый адвокат Донован в книге «Незнакомцы на мосту» намекает, будто в своих письмах Абель ухитрялся передавать секретные данные даже из камеры.
– Они просматривали его письма и так и эдак, но никакой тайнописи, никаких данных не обнаруживали. Абсолютно чистые послания. Однако обмен затягивался.
– Не потому ли, что раньше таких обменов не было?
– Такие обмены в принципе были. Но американцы тянули. Питали какие-то надежды перевербовать Марка, завязать с нами игру. Даже сам адвокат Донован, когда Вилли сидел в тюрьме Атланты, к этому пытался приложить руку. Между прочим, адвокат до последнего момента не верил, что имеет дело с настоящими родственниками Абеля. Когда в Берлин приехали жена и дочь Вилли, он к переговорам отнесся настороженно.
– Возможно, имел какие-то основания? Ведь фигурировал там и некий кузен Дривс.
– Кузеном Дривсом был наш оперативный сотрудник Юрий Иванович Дроздов. Немецким он владел в совершенстве. Потом Дроздов стал руководителем Управления советской нелегальной разведки.
– Дмитрий Петрович, известно, что обмен, или размен, Абеля на Пауэрса происходил на берлинском мосту Глинике. Вы не помните подробностей?
– Пауэрса привезли из Москвы – с ним выехали два наших оперативных работника – и поместили в прекрасном особняке. А нашего Вилли американцы засунули в какую-то клетуху – холод страшный. И вышел к нам Вильям Генрихович такой худющий…
– Он там чем-то болел?
– Просидеть четыре с половиной года в тюрьме и остаться в силе? Но, к счастью, ничего такого не было. И прежде чем выпустить его на мост, всю одежду у Вилли распотрошили: искали что-то. Резали, кромсали пиджак, брюки. Прямо из тюрьмы выпустили, а все равно боялись. Ну, вышли на мост по три человека с каждой стороны, и произошел обмен. Потом купили Вильяму Генриховичу одежду, устроили хороший прием – и в поезд. Вместе с ним ехали его супруга, дочь, наши товарищи. Встречаем его на Белорусском вокзале: «Ну что, Рудольф Иванович?» На самом-то деле мы все его звали, как вы уже поняли, Вилли. И помчались мы по улице Горького, потом на нашу Лубянку. И еще он попросил проехать мимо Кремля.
– И что же Рудольф Иванович? Выступал перед коллегами, славил профессию. А что было после всего этого? Как сложилась жизнь дальше?
– Жизнь Вильям Генрихович прожил интересную. В органы разведки поступил в 1927 году, а умер в 68 лет в 1971-м. Рак.
– Вы с ним дружили?
– Ну как же, он находился непосредственно у меня в отделе. С этим высокопорядочным, интеллигентным и образованным человеком мы были рядом, вместе. Даже коллег, привыкших к дисциплине, поражали его пунктуальность и полнейшая выдержка. Не припомню, чтобы хоть разок вспылил, разнервничался. И такой характер, что никогда ни на что не жаловался. Терпеть не мог трепачей, болтунов. Физически не переваривал пьяниц.
– И сам не пил?
– Очень мало. Только по большим праздникам. Постоянно копался в каких-то радиоприемниках. Ходил на рынок, покупал всякие железки и так здорово из них мастерил приемники! Любил столярничать, паял. Рисованием тоже занимался. В американской тюрьме рисовал поразительные картины, открытки. В его квартире на проспекте Мира висело несколько работ. Такая была творческая натура. И дочка Эвелина от отца очень многое унаследовала. Как и он, делает разные картины из цветов, рисует. Вилли покупал много книг по искусству и на это денег не жалел. Поверьте, его шелкография – рисунки на шелке – это маленькие шедевры.
– Дмитрий Петрович, а возвращение Абеля – Фишера после четырнадцати лет отсутствия было хоть как-то отмечено?
– Отмечено орденом Красного Знамени. Наш министр Семичастный пообещал дать ему трехкомнатную квартиру. И Вилли поразил всех. Сказал, что трехкомнатная ему не нужна: есть две комнаты, и еще дача от отца осталась… Он был не материалист. Проблемы быта, вещи не волновали. Вот вам штрих. В Штатах у него были личные накопления – около десяти тысяч долларов. И эти деньги американцы у него забрали. Как-то я говорю: «Слушай, Вилли, все-таки пропала крупная сумма денег. Может, поставить вопрос? Какую-то компенсацию здесь дадут». Отказался категорически. Но мы без него через жену и дочь этот вопрос самостоятельно решили. Одевался скромно: плащик, беретик. Товарищи подсказали жене: «Что он у тебя ходит в одном костюме? Надо бы новый». А Вилли удивился: «Зачем? Ведь у меня уже есть». Но уговорили, и вроде бы он остался доволен.
– Дмитрий Петрович, а как было с работой? Человек, уехавший еще при жесточайшем сталинизме, возвращается в совершенно новую жизнь. Как он все это воспринял?
– Спокойно. Вы одного не понимаете: Фишер, или как вы говорите Абель, служил не режиму, а Родине. Вилли приехал – его сразу определили: «К медикам, и пусть отдыхает». А он: «Чего там, я здоров». Правда, месяц пробыл в госпитале, но даже от санатория отказался. Скучно ему там было, дома лучше. Принял его Семичастный, была четкая беседа. Ему выдали причитающиеся деньги. Присвоили звание «Почетный чекист». И он приступил к работе: встречался с молодыми сотрудниками, занимался их подготовкой, инструктажем. Вильям Генрихович имел такой авторитет! Часто делился своими воспоминаниями, и я обычно его представлял. Выступал в наших клубах, во всех почти управлениях госбезопасности. И в ЦК партии, в Кремле перед работниками охраны. Потом в Министерстве иностранных дел и в Министерстве внешней торговли, перед студентами МГИМО.
– За границу ему позволялось выезжать?
– Где-то в конце жизни выезжал в ГДР, Румынию. И в Венгрию. И встречался там с сотрудниками их служб.
– Он не превратился в некоего «свадебного генерала»?
– Он прекрасно рассказывал – без бумажек, конспектов. Обходился без всяких жестов, никогда не эпатировал. Был откровенен – в пределах допустимого. И потому его всегда слушали внимательно, воспринимали серьезно.
– Дмитрий Петрович, я помню свои детские впечатления. Когда он появился на экране в «Мертвом сезоне», говорили, что разведчик загримирован. Правда или ерунда?
– Ему наложили немножко волос. Голова была совсем голая. А лысины в кино как-то не популярны.
– За что Абелю вручили высшую награду – орден Ленина? За подготовку вашей чекистской смены?
– Путаете. Орден – по совокупности после войны. Фишер был в подразделении, которое занималось заброской наших в тыл противника. Это были боевые группы, которые проходили тогда как бы по партизанской линии.
– Он учил их немецкому? То были ваши сотрудники?
– Там разное было, он обучал радиоделу, агентурной работе.
– Он говорил по-немецки так же хорошо, как и по-английски?
– Нет, хуже, потому что непосредственно в Германии бывать ему почти не приходилось, а французский знал очень хорошо.
– Не догадывался, что Вильям Генрихович был к тому же и полиглотом. Французский пригодился ему и в работе?
– Давайте об этом поговорим как-нибудь попозже.
– Скажите, Дмитрий Петрович, а вы никогда не беседовали с Вилли по душам?
– Беседовали.
– И что рассказывал Вильям Генрихович о тех своих годах – с 1939-го по 1941-й, когда от работы в органах он был отстранен?
– Говорить о таком у нас не принято. Да и человек он был в этом отношении очень сдержанный. Но я знаю, что это случилось в последний день 1938 года. Даже приказ об увольнении довели до него не начальники отдела, в котором он работал, – они ничего не знали. В отделе кадров объявили Вилли, что это решение руководства – и все, даже сейчас этих документов в архивах не оказалось.
– Вы не обижайтесь, вопрос-то естественный. Человек мог отчаяться.
– Он отчаялся: долгое время не брали никуда на работу. Везде отказывали, когда видели, что уволен из органов. Написал письмо в ЦК. Рассказал, кто он такой. И только тогда взяли на завод радиоинженером.
– Интересно, с каким же чувством он снова к вам пришел?
– Об этом у нас никто никогда не говорил. Отец Вилли встречался не только с Лениным, со многими деятелями партии. Старый революционер, когда в 1920 году семья вернулась из Англии, написал много книг по истории. Всю жизнь Генрих Фишер посвятил России, поэтому и Вилли считал себя русским. Он и в анкете указывал: отец – обрусевший немец, мать – русская, жена – урожденная Лебедева, по профессии арфистка.
– Дмитрий Петрович, и еще из той же серии неприятных вопросов. Имя Абеля превратилось в легенду, однако ваш подчиненный так и оставался полковником…
– …Было представление на генерала перед его болезнью. Не успели, к несчастью.
Художник не терпел абстракций
Художник Бертон Сильвермен считал соседа по нью-йоркской мастерской Эмиля Роберта Гольдфуса близким другом.
Прошло несколько лет после ареста его таинственного соседа, и Сильвермен решился на откровенность. Набиравший популярность живописец рассказал в журнале «Эскуайер», и, кажется, довольно искренне, о человеке, которой уже отбывал свои 30 лет в американской тюрьме.
Эти откровения имеют особую ценность. Сам Вильям Генрихович о годах в Штатах предпочитал не вспоминать, хотя фамилия Сильвермен, по словам дочери, нет-нет да всплывала. Полковник считал его порядочным человеком. Ведь когда на суде известному американскому живописцу пришлось давать показания в качестве свидетеля, то Берт не испугался. Рассказывал о своем приятеле Эмиле Гольдфусе только хорошее. Хотя и видно было, что вся эта шпионская история, в которую попал и он, восходящая звезда, Сильвермену крайне неприятна.
Вот несколько вопросов судьи Байерса, на которые «моральный свидетель» Сильвермен ответил честно и, прямо скажем, «в пользу русского шпиона». Хотя мог бы и приложить друга, но стенограмма подтверждает: художник не оболгал, а, наоборот, выгородил Эмиля Гольдфуса, вина которого была для правосудия пусть не доказана, но практически очевидна.
– За время вашего знакомства с обвиняемым заходили ли вы к нему?
– Да.
– Часто вы с ним разговаривали?
– Да.
– Какова была репутация обвиняемого среди жильцов вашего дома касательно его честности и прямоты?
– Она была безупречна.
– Не слышали ли вы когда-нибудь нечто плохое об обвиняемом?
– Нет. Никогда.
Воспоминания Сильвермена о «полковнике Абеле» отыскались лишь в 2009-м. Наткнулись мы на них с Лидией Борисовной Боярской, разбирая ее домашние архивы.
Каким же виделся наш разведчик соседу-американцу?
Молодой талант Сильвермен снял мастерскую в Бруклине. Высокий старинный дом без лифта на Фултон-стрит неподалеку от Бруклинского моста уже 90 лет служил прибежищем для многих художников. Здесь и находились «Орвингтонские студии». Огромные окна пропускали потоки бьющего света, заставляя забывать о скрипящих полах, постоянно ломающемся лифте и других мелких неудобствах.
Сильвермен вообще ничего этого не замечал. Служба в армии отняла у выпускника Художественной школы в Коламбии несколько драгоценных лет, хотя даже там он пытался рисовать, когда по выходным его отпускали из солдатских бараков в увольнение. Окончательно освободившись от осточертевшей солдатской лямки, скинув военную форму, Берт мечтал только о живописи – о другом даже думать не хотелось, он наверстывал упущенное и довольно успешно.
Друзья и критики в один голос твердили, что в его картинах появилась глубина и что будущее у художника – многообещающее. Берт про себя решил не тратить времени на разговоры с коллегами, светские рауты и презентации. Тем более что иногда все же приходилось отвлекаться, подрабатывать, выполняя чьи-то заказы, приносящие так необходимые для настоящего творчества деньги, но не радость. Главное, что на белый хлеб с маслом и чистое творчество вполне хватало.
Говорят, первое впечатление – самое верное и запоминающееся. Так вот, однажды Берт поднимался в лифте, быстро просматривая почту, только что вынутую из ящика на первом этаже. Подняв глаза, он увидел немолодого человека, зашедшего в лифт вслед за ним. Вообще-то Берт предпочитал не заводить новых знакомств, к чему отвлекаться? Но взгляды встретились, пожилой незнакомец кивнул, поздоровался, и Сильвермен ответил тем же.
Почему-то Берт его сразу запомнил. Не из-за выделяющейся одежды, как раз нет – тот был одет весьма скромно. Довольно высок, худощав, с явной лысиной, а держался с каким-то непонятным, просто необъяснимым благородством. Сколько ж ему было в конце 1953-го? Для себя Берт решил, что незнакомец лет на 30 постарше. Однако от него исходил такой заряд энергии и уверенности, что они невольно передавались окружающим.
Ну подумаешь, встреча в лифте. Сколько таких в жизни! Исчезают из памяти без следов и сожаления. Эта же – врезалась, засела в голове. Наверное, оттого, что вскоре незнакомец прочно вошел в жизнь Сильвермена.
Официальное знакомство состоялось всего через несколько дней. Берт как раз убирал свою захламленную мастерскую, когда услышал, что в дверь тихо стучат. Открыл. На пороге стоял человек из лифта.
– Меня зовут Гольдфус, Эмиль Гольдфус, – представился он.
Длинным вытянутым в форме клюва носом и умными глазами он напоминал птицу. Не хищную, не домашнюю, а всего лишь очень любопытную. Гольдфус быстро осмотрел студию. Осведомился у хозяина, что тот думает о современной живописи. Сильвермен ответил, что его стиль говорит за себя сам. Он реалистичен по сути. И сразу же пошло обсуждение тенденций и направлений современного мирового искусства, которое продлилось не меньше часа.
Оказалось, что сосед тоже занимается живописью, а его студия – совсем рядом с мастерской Сильвермена. Потом Берт заглядывал в нее, совсем небольшую, в первые месяцы знакомства еще не заставленную появившимися вскоре кистями, подрамниками, холстами… На стенах – несколько картин, сделанных, по мнению Берта, рукой совсем не бесталанной, и уж точно с чувством.
Вот так и началось знакомство, переросшее затем в дружбу. Особенно часто говорили об искусстве. Гольдфус был категоричен: оно скатывается все ниже, заходит в тупик, из которого нет выхода. Впрочем, беседовали, соглашаясь и споря, также и о многом-многом другом.
Познакомился Гольдфус с другими соседями-художниками, а дружил только с Бертом. Да и Сильвермен давал волю чувствам лишь с Эмилем. Вскоре Гольдфус превратился для него прямо в исповедника. Быть может, Берт даже перегружал его заботами и признаниями. Иногда Эмиль подбадривал соседа шуткой. Был заботлив, внимателен, умел утешить. Его манеру говорить, его голос Берт про себя называл шотландскими.
Сильвермен чувствовал, что коллега безнадежно одинок. Но друг друга они понимали с полуслова.
Однажды Берт повел себя невежливо. Эмиль явился без предупреждения. Ему хотелось высказаться, облегчить душу. А Берт – у художников, да и не только, такое бывает – жаждал рисовать, не отвлекаться и закончить ставшей вдруг податливой картину. Гольдфус принимался говорить, а Сильвермен молча работал, словно не замечая его присутствия. Гольдфус это почувствовал, ушел быстро. Это стало уроком для обоих. Теперь они всегда договаривались о встречах заранее.
Как-то Берт понял, что сочувствия, сострадания ждут и от него. Тогда Эмиль появился у него поздним вечером. Шляпа сдвинута на бок, вид – измученный. Берт встревожился: неужели у всегда спокойного, уравновешенного Эмиля случилась беда? Спросил, все ли в порядке, и услышал традиционные: да, все о’кей. Но Берт уже учуял, что сейчас должны политься откровения.
«Знаешь, – сказал Эмиль своим тихим глухим голосом, – бывают в жизни времена, когда хочется крепко выпить». И Берт предложил заняться этим прямо сейчас.
«Нет, такие времена наступают ранней весной, – не согласился Эмиль. – Я бы напился и сейчас, но не хочется. Не то на дворе время года».
Сильвермен ощутил тоску, тревогу, вдруг вырвавшиеся наружу. «И часто на тебя наваливается такое?» – не переставая рисовать, спросил он.
«Бывает. Бывает так, что становится очень плохо, – и сосед попытался улыбнуться. – Надо закурить, и поменьше говорить об этом», – с наигранной грубостью выдавил из себя
Эмиль и протянул пачку сигарет Сильвермену. Посидели еще, помолчали. И Эмиль ушел в ночь.
Сильвермен был удивлен. Не ожидал от Эмиля слабости. Что это было? Быть может, уже немолодой Гольдфус почувствовал, что нечто в этой жизни ушло от него безвозвратно? Но почему не поделился тогда сомнениями с другом? Берт был уверен: с Эмилем что-то не так. Возможно, умер кто-то из близких? Горечь была и на лице, он ощущал ее как художник и в сорвавшихся с губ соседа словах. Но Берт твердо знал: в этих случаях помочь невозможно, боль необходимо преодолевать только самому, в одиночку.
Не правда ли, любопытные свидетельства? Раньше считалось, что в США о своем общении с полковником Абелем воспоминания оставил лишь его адвокат Донован. Но нет.
Художник, несколько далекий от жизни, но часто с Эмилем общавшийся, заметил у соседа если не акцент, то необычный для американца тембр голоса. Для себя он назвал его «шотландским». Хорошо, что в Америке такая мешанина национальностей и привычек.
Абель, как видно, не был человеком из железа, не высказывающим чувств. И в общении с чужими из него лишь раз, но вырвалось отчаяние. Что тогда с ним случилось? Неприятности в Штатах? Тревожные вести из дома? Подвел Вик? Или одолела тоска? Уже никогда нам этого не узнать. В записках американца нет никакой временной ссылки.
И творчество своего друга Берт, вскоре выбившийся в знаменитости, оценивал довольно высоко. Заметил если не мастерство, то набитую профессиональную руку, глубокие чувства. Легенда у товарища полковника была правдоподобной
Но что же заставило Сильвермена запомнить все, связанное с Гольдфусом? Память эта, как признается художник, осталась с ним на всю жизнь. Эмиль, как называл себя сосед по мастерской, был исключительно живым человеком. В нем чувствовалось внутреннее напряжение, но был он тих, и его профессия преданного своему делу художника чувствовалась в каждом слове, в каждом движении.
И что интересно: иногда в общении двух друзей происходило то, что Сильвермен называет необычным, порой труднообъяснимым. Однажды Берт принес в свою маленькую студию гитару. Пару лет назад он научился играть на ней, предпочитая простые мелодии.
Иногда, заскочив в гости, дурачился с гитарой и Эмиль. А постепенно так втянулся, что стал поигрывать струнами чуть не каждый день. Вскоре он пришел к Берту со своим собственным инструментом. Промелькнуло всего месяцев шесть, а Гольдфус уже играл Баха. Он приходил в студию с пластинками знаменитых гитаристов, внимательно слушал их игру, пролетала пара недель – и чувствовалось, что он не только вникал в трепетную музыку, но и осваивал технику игры великих мастеров. И как же критически относился к себе! Сначала играл сам, записывая на магнитофон, потом вслушивался в звуки пластинки, сравнивал, анализировал, иногда на лице его появлялась улыбка, чаще – легкая гримаса недовольства. Частенько жаловался Сильвермену на нехватку слуха, всячески высмеивая этот свой недостаток – то ли явный, то ли просто ему кажущийся. Но во всем этом виделся Сильвермену и талант его друга Эмиля Гольдфуса, и его интеллигентность, и умение зубами вгрызаться в дело, работать над собой. Да и занятие это, было видно, доставляло Эмилю настоящую радость. Сильвермен чувствовал, что здесь, в музыке, ему далеко до товарища.
Но вот к поп-музыке относился Гольдфус с некоторым предубеждением. Считал ее чересчур прямолинейной, несколько сентиментальной.
Как-то Гольдфус признался, что взял в руки гитару случайно: научился играть на ней, когда был лесорубом где-то на северо-западе. Там он играл вещи попроще, ограничиваясь в основном маршами. И тут Берту показалось, что концы с концами не совсем сходятся. Его друг был слишком глубок и серьезен для того, чтобы играть нечто наподобие маршей, да и признание о том, что был лесорубом, как-то не вязалось с его внешним обликом, так и бросающейся в глаза интеллигентностью.
Да и вообще, все, что узнавал Сильвермен о прошлом Эмиля, исходило только от него самого. Говорил о себе он не слишком часто. Удивляло, что никогда не упоминал о своем жилище, ни разу туда не приглашал. Это подметил не только Сильвермен, но и другие молодые ребята-художники.
Как-то вырвалось у Эмиля, что в Бостоне был он воспитан тетушкой-шотландкой и суровым дядюшкой. В жизни перепробовал множество профессий. Был и бухгалтером, и инженером-электриком, работал в фотоателье.
Здесь, в фотоателье, и настигла его скромная удача. За несколько лет он накопил немного деньжат и после коротких раздумий бросил дело, вышел на пенсию. Почему? Да потому что всю жизнь мечтал рисовать. Возможно, он без радости вспоминал свои годы, потраченные на проявку пленок бездарных фотографов-любителей. И в конце концов был счастлив заняться тем, что любит, что знает…
Был ли Гольдфус настоящим художником? И здесь один из признанных американских мастеров Сильвермен выносит свой объективный вердикт. Эмилю не слишком нравилось рисовать пейзажи и обнаженную натуру, что считал он уделом начинающих. Его амбиции, стремления простирались гораздо шире и выше. Любил сложности и залезал в них с головой. И еще важное: Гольдфус был уверен в себе. Больше всего любил рисовать опустившихся пьяниц из известного в ту пору своей нищетой нью-йоркского района Баури. Порой появлялись на его полотнах нищие и отверженные. И это подмечал не только Сильвермен. Один из коллег-художников как-то заметил: «Видно, жизнь Эмиля была такова, что оставила на его теле те же шрамы, что и на его персонажах. Быть может, в последнее время где-то и в чем-то ему повезло. Что из того? Он не стал толстым сытым котом. А шрамы – все равно остались». И Сильвермену казалось, что лучше не скажешь и не оценишь.








