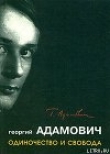Текст книги "Классик без ретуши"
Автор книги: Николай Мельников
Жанр:
Критика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 14 страниц)
Лоуренс Лернер более снисходительно отнесся к поэме – «смеси Поупа с Робертом Фростом», – однако в целом остался недоволен набоковским творением и закончил рецензию на взвинченно-раздражительной ноте: «Литературные произведения не пишутся как шифрограммы <…>. Г-н Набоков – высокоталантливый, возможно даже, гениальный комический писатель, но он может играть свои криптограммические игры с кем угодно, только не со мной» (Lemer L. Nabokov’s Cryptogram // Listener. 1962. Vol. 68. № 1757 (November 29). P. 931).
Последняя фраза ярко характеризует настроения, преобладавшие среди английских рецензентов "Бледного огня". Большинству из них литературный гибрид Набокова оказался явно не по зубам.
Вопреки мрачным прогнозам набоковофобов насчет того, что книге не грозит успех у широкой читательской аудитории, это наиболее трудное и непрозрачное англоязычное сочинение В. Набокова стало бестселлером и довольно быстро было переведено на несколько европейских языков, по прошествии некоторого времени породив горы литературоведческих исследований.
Увенчав один из самых плодотворных этапов творческой эволюции В. Набокова, "Бледный огонь" оказал заметное влияние на последующие поколения писателей, сделавшись, как и предсказывал Джек Хэндли, «структурой для будущих кристаллов» (Ор. cit. P. 40), среди которых можно особо выделить "Хазарский словарь" М. Павича и "Бесконечный тупик" Д. Галковского.
ПЕРЕВОД И КОММЕНТАРИЙ «ЕВГЕНИЯ ОНЕГИНА»
ALEXANDER’S PUSHKIN. EUGENE ONEGIN,
translated and with a commentary in 4 volumes by Vladimir Nabokov
N.Y.: Pantheon, 1964
Комментированный перевод «Евгения Онегина» – самый масштабный литературоведческий труд В. Набокова, потребовавший от него около десяти лет самоотверженного «кабинетного подвига». В интервью, в «Заметках переводчика», в предисловии к переводу Набоков утверждал, что начал переводить пушкинский роман в стихах в 1950 г.: «Написание книги <…> было вызвано настоятельной необходимостью, возникшей около 1950 г., когда я вел занятия по русской литературе в Корнеллском университете в городе Итака штата Нью-Йорк, а также по причине отсутствия адекватного перевода „Евгения Онегина“ на английский; книга эта росла в часы досуга, с многочисленными перерывами, вызванными требованиями других, более сложных задач, – на протяжении восьми лет (один год я получал финансовую поддержку от фонда Гугенхейма)»;[106]106
Цит. по: Набоков В. В. Комментарий к роману А. С. Пушкина «Евгений Онегин». СПб., 1998. С. 29.
[Закрыть] «Этот опус обязан своим рождением замечанию, которое сделала мимоходом моя жена в 1950 г. – в ответ на высказанное мной отвращение к рифмованному переложению „Евгения Онегина“, каждую строчку которого мне приходилось исправлять для моих студентов, – „Почему бы тебе самому не сделать перевод?“»,[107]107
Цит. по: Pro et contra. С. 162.
[Закрыть] «Работу над переводом „Онегина“ я начал в 1950 г.».[108]108
НЖ. 1957. № 49. С. 130.
[Закрыть]
На самом деле Набоков начал переводить пушкинский роман в стихах гораздо раньше. В 1945 г. им был опубликован перевод трех строф "Евгения Онегина". Год спустя, когда Набоков приступил к занятиям в Уэлслейском колледже, он перевел для своих студентов еще несколько строф. «Он говорил нам, – вспоминает одна из бывших студенток Набокова Ханна Грин, – что произносит "Евгений Онегин" скрупулезно по правилам английского языка как "Юджин Уан Джин" (что означает: "Юджин, один стакан джина"). Он медленно и тщательно анализировал перевод "Юджина Уан Джина", помещенный в нашей хрестоматии, и поправлял переводчика, давая нам верный перевод некоторых строчек. Мы записывали эти строчки в книге карандашом. Так он велел нам. Он говорил, что из всех русских писателей Пушкин больше всего теряет в переводе. Он говорил о "звонкой музыке" пушкинских стихов, о чудесном их ритме, о том, что "самые старые, затертые эпитеты снова обретают свежесть в стихах Пушкина", которые "бьют ключом и сверкают в темноте"».[109]109
Цит по: Pro et contra. C.206.
[Закрыть]
К концу сороковых годов Набоков окончательно созрел для того, чтобы взяться за перевод "Евгения Онегина". В августе 1948 г. в одном из набоковских писем Эдмунду Уилсону (в соавторстве с которым Набоков перевел "Моцарта и Сальери") как бы невзначай предлагалось: «А почему бы нам вместе не сделать прозаический перевод "Евгения Онегина", снабдив его обширными примечаниями?»[110]110
NWL. P. 205.
[Закрыть]
За осуществление этого плана Набоков берется в 1949 г., параллельно ведя в Корнелле пушкинский семинар. Едва ли он мог предположить, что работа над переводом и комментированием "Евгения Онегина" растянется более чем на десятилетие и его пушкиноведческие исследования войдут «в ту блаженную стадию, когда поиски перерастают заданную цель и когда начинает формироваться новый организм, как бы паразит на созревающем плоде». На протяжении пятидесятых годов в письмах Эдмунду Уилсону и своей сестре Елене Набоков периодически объявлял о том, что вот-вот закончит своего «чудовищного Пушкина». Составление комментария было в основном закончено к 1957 г., а вот перевод романа в стихах переделывался вплоть до сдачи манускрипта в печать. Последняя, шестая или седьмая, ревизия была проведена Набоковым в январе 1963 г.[111]111
См: Boyd-1991. P. 320; SL. P. 342.
[Закрыть] – почти перед самой отправкой текста в типографию. Подобная дотошность и взыскательность в конце концов сыграли с Набоковым злую шутку. В то время как он отшлифовывал свой «дотошный подстрочник», во имя «идеального представления о буквализме» отказываясь от «изящества, благозвучия, ясности, хорошего вкуса, современного словоупотребления и даже грамматики», в 1963 г. Уолтер Арндт преспокойно опубликовал стихотворный перевод пушкинского шедевра, не жертвуя ни рифмами, ни благозвучием, ни даже грамматикой. Мало этого – арндтовский перевод встретил теплый прием в англоязычной прессе и получил Болингеновскую премию. Потеряв всякую осторожность, Набоков – буквально накануне выхода собственной книги – разразился резкой критикой по адресу удачливого конкурента, вольно или невольно создавая вокруг своего «честного, неуклюжего, тяжеловесного и рабски верного» перевода волнующую и бодрящую атмосферу скандала.
Пожалуй, ни один художественный перевод не вызвал столько споров и кривотолков, как набоковский «Онегин». Сугубо академическое литературное предприятие – очередной перевод произведения русского классика – стало предметом жарких критических баталий, равных которым по размаху в англоязычной печати не было со времен полемики между Ф. Р. Ливисом и Ч. Сноу о технических и гуманитарных науках. Ожесточенность критических нападок была предопределена не только колким антиарндтовским выпадом Набокова, но и теми пренебрежительными оценками, которыми он удостоил всех своих предшественников: переводчиков, исследователей и комментаторов "Евгения Онегина". «Резко полемический тон Набокова по отношению к другим переводчикам Пушкина и небрежно высокомерное отношение к советским пушкиноведам» (Морис Фридберг <см.>) покоробили большинство рецензентов. Правда, некоторые из них, например Кристофер Рикс <см.>, простили автору его «чудачества и мстительные выпады», поскольку те «не потеснили главного» информативной насыщенности комментария и абсолютной смысловой точности перевода.
«Лучший из когда-либо писавшихся комментариев к поэме и, вероятно, лучший ее перевод» – так оценил набоковский труд Джон Бейли, оправдавший прозаическую форму перевода тем, что «"Евгения Онегина" часто опошляли стихами, но никогда ими не переводили» (Bayley J. Nabokov’s Pushkin // Observer. 1964. 29 November. P. 26). Благожелательнейшей рецензией анонимного автора одарил Набокова журнал «Тайм». Примечательно, что именно ее оперативно перевели и напечатали в советском еженедельнике «За рубежом» – неожиданный поступок для руководства издания, выходящего под эгидой Союза журналистов СССР и издательства ЦК КПСС: «Американское издательство „Пантеон“ выпустило „Евгения Онегина“ в переводе и с комментариями Владимира Набокова в 4-х томах. До сих пор американец, не знающий русского языка, мог только вежливо соглашаться, когда ему говорили, что „Евгений Онегин“ – гениальное произведение.
Владимир Набоков, ученый, поэт, литератор, пишущий изысканной английской прозой, познакомил с "Евгением Онегиным" людей, не знающих русского языка, но так, что они могут судить о достоинствах этой поэмы. <…> При переводе «Онегина» Набоков использовал нечто среднее между прозой и стихами (он сохранил пушкинский ямб). Если можно так сказать, перевод и оригинал находятся в двоюродном родстве. Конечно, русскому человеку, воспитанному на пушкинских стихах, перевод Набокова может показаться немузыкальным, но в нем есть ритм и мелодия – в отличие от других переводов. Набоков не пытается имитировать напев пушкинского стиха. Что же касается содержания, то оно передано настолько полно, насколько это возможно в переводе» (За рубежом. 1964. 19 сентября (№ 38). С. 30–31).
Абсолютная точность перевода признавалась даже теми критиками, кто, «имея в виду крайне резкие наскоки Набокова на предыдущих переводчиков "Онегина"» (Роберт Конквест <см.>), дали себе полную волю и обрушили на Набокова шквал саркастических замечаний и придирок. Больше всего пострадал прозаический перевод, вернее – положенный в его основу буквалистский метод, которого упрямо придерживался Набоков.
По справедливому замечанию Александра Гершенкрона <см.>, в своей обстоятельной рецензии давшего наиболее глубокий анализ набоковского творения, «эстетическая истина далеко не ограничивается точной передачей смысла; <…> "истина буквализма" в лучшем случае имеет отношение лишь к одной стороне такого бесконечно сложного явления, каким является произведение поэтического искусства». Согласившись с тем, что «Набоков демонстрирует глубочайшее понимание текста оригинала», а его перевод «в известном смысле – настолько точный, насколько можно вообразить», Гершенкрон, как и многие другие рецензенты, без всякого снисхождения выявил многочисленные случаи, когда одержимость Набокова идеей буквализма приводила его к «гнетущим провалам»: безвкусной архаизации языка, разрушению (по причине полного отказа от рифм) уникальной онегинской строфы, прозаическому обесцвечиванию той самой «звонкой музыки» пушкинских стихов, о которой Набоков так увлекательно вещал американским студентам. Язык набоковского перевода, без меры щедро уснащенный архаизмами и неудобоваримыми диалектными выражениями, вызвал особое раздражение у рецензентов, оставив впечатление, что «его создатель – иностранец, не владеющий английским в должном совершенстве, поднаторевший разве что в экстравагантной малоупотребительной лексике» (Роберт Конквест <см.>).
С наиболее резкой и бескомпромиссной критикой в адрес Набокова выступил его давний друг и покровитель Эдмунд Унисон <см.>. Из всех ударов, обрушившихся на Набокова, его критический опус оказался самым болезненным. Не то что уж он превосходил все другие отрицательные отклики резкостью суждений и беспощадностью оценок. Внезапность, вот что, пожалуй, больше всего поразило Набокова, ведь незадолго до появления "Странной истории с Пушкиным и Набоковым" Уилсон гостил у него в Швейцарии и, коварный, ни словом не обмолвился о готовящемся сюрпризе. (Хотя, если вдуматься хорошенько, то, что «дорогой Братец Кролик» – так ласково-фамильярно Набоков именовал своего друга в некоторых письмах – показал волчьи зубы, было не так УЖ неожиданно, отношения с ним дали трещину уже в эпоху «L’affaire Lolita», жаркие дебаты о русской просодии и творчестве Пушкина были лейтмотивом набоковско-уилсоновской переписки сороковых-пятидесятых годов, да и при встречах, когда Набоков зачитывал «дорогому Банни» отрывки готовящегося перевода и комментария, тот со свойственной ему прямотой (нет бы вежливо похвалить!) то и дело затевал спор. Недаром же, когда представители Болингеновского фонда, спонсировавшего издание перевода, высказали пожелание, чтобы о только что вышедшем «Онегине» рецензию написал именно Уилсон, Набоков резко этому воспротивился, отписав из Швейцарии «Как я уже упоминал раньше, его [Уилсона] русский – примитивен, а представление о русской литературе поверхностно и нелепо».[112]112
SL. P. 358.
[Закрыть])
Сразу же по прочтении уилсоновского опуса раздосадованный Набоков (неоднократно объявлявший о полнейшем равнодушии к любой критике в свой адрес) послал в редакцию "Нью-Йорк ревью оф букс" следующую каблограмму: «Пожалуйста, оставьте в следующем номере место для моих громыханий». Место для «громыханий» Набокова, язвительно уличавшего Уилсона в слабом знании русского языка, было предоставлено (NYRB. 1965. 17 August. P. 25–26) – рядом с ответным письмом «Братца Кролика», каявшегося в некоторых языковых ошибках, но горячо отстаивавшего основные положения своей статьи. Тут же были помешены письма других критиков и литературоведов, пожелавших вмешаться в схватку гигантов. Одни, как, например, Дэвид Мэгаршак, целиком и полностью поддержали Уилсона, заявив, что некомпетентность Набокова-переводчика превратила великое произведение в гротескную пародию (Ibid. P. 26), другие (в частности, литературовед Эрнст Дж. Саймонс) превозносили Набокова до небес и утверждали, что его перевод наиболее адекватен пушкинскому шедевру (Ibid. P. 26–27). Кстати, тот же Саймонс годом раньше сочувственно отозвался о набоковском «Онегине», одним из первых указав на композиционную и тематическую связь между ним и "Бледным огнем": «Набоков работал над переводом "Евгения Онегина" с 1950 года, и его затянувшаяся битва породила ожидания, что это будет magnum opus.[113]113
главное произведение (лат.).
[Закрыть] Теперь, когда книга появилась, ее спорные моменты и полный отказ от рифм могут кого-то разочаровать. Но во всех формальных отношениях это великолепное достижение – непревзойденный перевод и комментарий пушкинской поэмы. Действительно, по точности перевода на английский с ним нечего сравнивать, точно так же и комментарий превосходит все, что есть на русском.
Вполне очевидно, Набоков <…> не считает английскую прозу настолько точной и всемогущей, чтобы передать рифмованные стихи. То, что мы имеем в его версии "Евгения Онегина", – это особого рода компромисс между стихом и прозой. Строфа, состоящая из 14 стихов, остается, но все остальные формальные элементы, спасая ямбический размер, приносятся в жертву полноте смысла <…>.
Если читатель знает оригинал, данный перевод поначалу кажется разочаровывающим. Без своих памятных рифмованных строк поэма, в том виде, в каком ее передает Набоков, теряет свои краски. На ум приходит афоризм Роберта Фроста: поэзия – это то, что пропадает при переводе. Но по мере дальнейшего продвижения, от одной главы к другой, память о рифме приглушается каденциями привычного ямбического размера. В конечном счете бесспорная поэзия освобождается от словесной тяжести и искажений значения, столь частых в стихотворных переводах "Евгения Онегина". Передается сам дух оригинала (фраза, которую Набоков ненавидит). Набоков по-особенному относится к музыке и тайне пушкинского стиха – так же как и к его концепции самоценного искусства» (Simmons E. J. A Nabokov Guide Through the World of Alexander Pushkin // NYTBR. 1967. June 28. P. 4). He менее высоко Саймонс оценил и грандиозный набоковский комментарий, оправдав и переизбыток содержащейся там информации, и многочисленные авторские отступления, порой чересчур далеко уводящие читателей от произведения Пушкина: «Кто-то может посетовать на безмерно-обширное половодье фактов и окажется прав, но за этим стоит определенная цель. Нелепое заявление критика Виссариона Белинского, что „Евгений Онегин“ – это энциклопедия русской жизни, после набоковского комментария не выглядит таким уж абсурдным. Кажется, что очаровательные пушкинские отступления, с помощью которых так искусно удается освещать развитие действия и характеры, вдохновили и автора комментария на подобные же отступления» (Ibid. P. 5).
В то же время даже благожелательный Саймонс предположил, что «порой набоковская дотошность по отношению к деталям выглядит как пародия на филологов» (Ibid.). Точно такая же мысль возникла и у Рональда Хингли, заподозрившего Набокова в том, что некоторые фрагменты его комментария «были сознательно задуманы как изощренная шутка» (Hingley R. // Spectator. 1965. 1 January. P. 19) В доходящем до абсурда педантизме обвинял Набокова-комментатора и Эдмунд Уилсон <см.>, яростная полемика с которым перекинулась на страницы английского журнала «Энкаунтер». В феврале 1966 г. Набоков опубликовал там статью «Ответ Набокова», в которой отбивал наскоки оппонентов и упрямо защищал принципы буквального перевода (Nabokov V. Nabokov’s Reply // Encounter. 1966. Vol. 26. February. P. 80–89). В апреле Уилсон контратаковал Набокова, вновь и вновь уличая его в полнейшей некомпетентности как переводчика. В майском номере в поддержку Уилсона выступил американский поэт и переводчик Роберт Лоуэлл. Признавшись, что не знает русский язык и не читал «Онегина» в оригинале, он нашел набоковский перевод странным и сверхъестественно эксцентричным, выглядящим наполовину намеренной пародией. «И здравый смысл, и интуиция, – восклицал Лоуэлл, – говорят о том, что Эдмунд Уилсон на девяносто процентов неопровержим и совершенно прав в своей критике Набокова» (Encounter. 1966. May. P. 91).
В определенной мере запальчивое выступление Лоуэлла было нейтрализовано опубликованным здесь же саркастическим письмом Набокова: «Арифметика г-на Лоуэлла, основанная на интуиции (но едва ли на здравом смысле), мало меня волнует, поскольку он не знает пушкинского языка и не подготовлен к тому, чтобы иметь дело с весьма специфическими проблемами перевода, которые обсуждаются в моей статье. Но хорошо было бы (как здесь принято выражаться), чтобы он перестал терзать беззащитных мертвых поэтов – Мандельштама, Рембо и других» (Ibid.).
На этом полемика, разумеется, не завершилась И в письмах, и в интервью, и даже в художественных произведениях (например, в «Аде», где фигурируют нерадивый переводчик Лоуден – Лоу[элл] + [О]ден – и с иронией упоминается славист Гершчижевский – Герш[енкрон] + Чижевский) Набоков продолжал громить своих оппонентов – в первую очередь Уилсона, «имевшего наглость» оспорить его понимание "Евгения Онегина" (стоит ли говорить, что после "L’affaire Onegin" дружба с «дорогим Банни» сошла на нет). Однако, сколько бы Набоков ни изливал желчь по поводу «напыщенных остолопов», отыскивающих промахи в его переводе и при этом обнаруживающих «собственное фарсовое невежество по части русского языка и литературы», при подготовке второго издания комментированного «Онегина», которая началась уже осенью 1966 г. (книга вышла в год смерти писателя), он учел-таки многие критические замечания «остолопов».
Таким образом, жаркие газетно-журнальные баталии не только изрядно потрепали нервы нашему герою, но и дали положительные результаты. Главным из них следует считать, конечно же, не частные исправления, внесенные Набоковым в перевод и комментарий, а утверждение (пусть и скандальное) его репутации в университетском и литературоведческом мире, где по поводу выполненного им «абсолютно буквального перевода» до сих пор не умолкают споры. И как бы ни оценивать «честную придорожную прозу», в которую Набоков превратил певучий стих "Евгения Онегина", несомненного, что монументальный тысячестраничньй комментарий стал одним из немногих литературоведческих «вечных спутников» «Онегина», конгениальных пушкинскому шедевру.
ПАМЯТЬ, ГОВОРИ
SPEAK, MEMORY: Аn Autobiography Revisited
N.Y.: Putnams’s Sons, 1966
«Память, говори» – третья версия набоковской автобиографии, впервые опубликованной под названием «Убедительное доказательство» (Conclusive Evidense. A Memoir. N.Y.: Harper & Brothers, 1951) Как и роман «Пнин», автобиография писалась на протяжении нескольких лет, по частям публикуясь в различных американских журналах. Начало всей серии публикаций было положено еще до отъезда Набокова в США. В 1936 г. он написал по-французски небольшой рассказ «Mademoiselle О», который был посвящен детским воспоминаниям, связанным с Сесиль Миотон – глуповатой и обидчивой швейцарской гувернанткой Набокова. Этот рассказ сначала появился на страницах журнала «Мезюр» (Mesures. 1936. № 2), а затем, уже в авторском переводе на английский, – в бостонском ежемесячнике «Атлантик» (1943. № 1). После того как у Набокова, благодаря стараниям Эдмунда Уилсона, завязались тесные отношения с «Нью-Йоркером», почти все автобиографические очерки, писавшиеся Набоковым в сороковые-пятидесятые годы, были опубликованы в этом журнале. Впрочем, все необходимые библиографические сведения имеются в авторском предисловии к третьей версии автобиографии «Моя связь с „Нью-Йоркером“ началась (при посредстве Эдмунда Уилсона) с напечатанного в апреле 1942 года стихотворения, за которым последовали другие перемещенные стихи, однако первое прозаическое сочинение появилось здесь только 3 января 1948 года, им был „Портрет моего дяди“ (глава третья в окончательной редакции книги), написанный в июне 1947 года в Коламбайн Лодж, Эстес-Парк, Колорадо, где мы с женой и сыном вряд ли смогли бы задержаться надолго, если бы призрак моего прошлого не произвел на Гарольда Росса столь сильного впечатления. Тот же самый журнал напечатал главу четвертую („Мое английское образование“, 27 марта 1948), главу шестую („Бабочки“, 12 июня 1948), главу седьмую („Колетт“, 31 июля 1948) и главу девятую („Мое русское образование“, 18 сентября 1948), – все они были написаны в Кембридже, Массачусетс, в пору огромного душевного и физического напряжения, в то время как главы десятая („Прелюдия“, 1 января 1949), вторая („Портрет моей матери“, 9 апреля 1949), двенадцатая („Тамара“, 10 декабря 1949), восьмая („Картинки с волшебного фонаря“, 11 февраля 1950 <….>), первая („Совершенное прошлое“, 15 апреля 1950) и пятнадцатая („Сады и парки“, 17 июня 1950) – все были написаны в Итаке, Нью-Йорк.
Из трех остальных глав, одиннадцатая и четырнадцатая появились в "Патизэн Ревю" ("Первое стихотворение", сентябрь 1949, и «Изгнание», январь-февраль 1951), между тем как тринадцатая отправилась в "Харперс Мэгэзин" ("Квартирка в Тринити Лэйн", январь 1951)».[114]114
Цит по. Набоков В. В. Собр. соч.: В 5 т. СПб., 1999. Т. 5. С. 317–318.
[Закрыть]
В феврале 1951 г. «собранье пестрых глав» вышло отдельной книгой, получив не слишком убедительное название "Убедительное доказательство". Оно закрепилось после того, как издатель отверг все те варианты, которые предлагал автор: "Speak, Mnemosyne" ("Говори, Мнемозина"), "Rainbow Edge" ("На краю радуги"), "The Prismatic Edge" ("Грань призмы"), "Nabokov’s Opening" ("Набоков раскрывается") и др. Название это не нравилось ни Набокову, ни Уилсону, ни представителям лондонского издательства «Голланц», предложившим выпустить книгу в Англии под каким-нибудь другим заглавием. После того как любимое набоковское «Говори, Мнемозина» было отвергнуто (на том основании, что пожилые читательницы – видимо, тогда они были основными потребителями мемуарной литературы – «не станут спрашивать книгу, название которой они не смогут выговорить»), издатели и автор остановились на "Speak, Memory" ("Память, говори"). Под этим названием английское издание набоковской автобиографии было выпущено в ноябре 1951 г.
Книга эта потерпела полный финансовый крах, зато была встречена сочувственными отзывами в американской и британской прессе.
«Владимир Набоков написал блистательную и захватывающую книгу. Это не только автобиография, но и рассказ о "дворянских гнездах" последних лет царской России», – писал американский критик Морис Хиндус, отметивший, что в книге Набокова «читатель не найдет и намека на меланхолическую пассивность и возвышенную никчемность тургеневских героев. Набоковы не были Лаврецкими. Они любили разговоры – а кто из русских их не любит? – но также любили и действие <…>. От общества, в котором автор был рожден и в котором провел свои детские и юношеские годы, осталось всего лишь воспоминание. Ни один из русских писателей не смог передать все его очарование и всю его извращенность так, как это сделал Владимир Набоков <…>. Книга написана изящной прозой и доставляет наслаждение при чтении. Из англоязычных писателей славянского происхождения никто со времен Джозефа Конрада не демонстрировал столь великолепного владения изысканно-красивым английским языком» (Hindus M. Gentle Russian Yesterdays // Saturday Review. 1951. Vol. 34. № 15 (April 14). P. 29).
Рецензент из «Спектейтора» (вот вам загадочная англосаксонская душа!) похвалив книгу за то, что в ней нет «ни старомодной русской душевности, ни новомодного мазохизма», простодушно рекомендовал ее как увлекательное чтение, поскольку «всегда приятно читать о детстве богатых людей – детство представителей среднего класса похоже на наше собственное, а при чтении о детстве бедняков удовольствие слишком часто ослабляется чувством жалости» (Cranston M. Last Enchantments // Spectator. 1951. № 6443 (December 21). P. 859).
Более вдумчивый (хотя и более прохладный) отзыв дала Маргарет Лейн, акцентировавшая внимание на теме утраченного рая детства – одной из важнейших тем книги (да и всего набоковского творчества): «Для тех, кто был изгнан из Эдема, культ памяти в одинаковой степени таит опасность и вознаграждение <…> Он [Набоков] был грубо вышвырнут из своего Эдема <…>. А это был действительно рай, населенный милыми, интеллигентными родителями <…> дядюшками, столь же эксцентричными, как и второстепенные персонажи у Чехова, непостижимой странности учителями и гувернантками, маленькими девочками, к которым он испытывал чувство влюбленности и о которых, подобно Прусту, ничего не забыл» (Lane M. Paradise Lost // New Statesman. 1951. Vol. 42. № 1082. P. 634). В то же время Лейн выразила недовольство по поводу набоковской одержимости деталями, вредившей, с ее точки зрения, цельности художественного впечатления от изображенной картины мира: «Его воспоминания – это воспоминания человека, изощряющего память ради изысканных обломков прошлого, которые он должен спасти от забвения. Единственная опасность в подобной фетишизации мелочей заключается в том, что детали начинают заслонять целое, так что становится трудно воспринимать всю картину. Изгнанником г-н Набоков жил в Берлине и Париже, был несчастлив в Кембридже, женился, стал отцом (чудо, завладевшее его сознанием еще сильнее, чем бабочки) и в конце концов перебрался в Америку, где и благоденствует в настоящее время. Но все это проходит словно сквозь туман: что мы в действительности помним, так это поднос с приманкой для ловли бабочек, грушевое мыло в детской ванной да руки Mademoiselle, которые „были неприятны… каким-то лягушачьим лоском тугой кожи по тыльной стороне, усыпанной уже старческой горчицей“» (Ibid).
К сожалению, подавляющее большинство критических статей, появившихся в Англии и Америке в связи с выходом набоковской автобиографии, не радуют ни глубиной проникновения в авторский замысел, ни, тем более, тщательным анализом ее формальных особенностей. Лучше всех об этой книге написал сам Набоков – в полусерьезной, полупародийной рецензии «Третье лицо», которая должна была составить шестнадцатую главу книги (прием когда-то с блеском использованный в «Даре», а спустя некоторое время – в "Аде").
«Рецензенту, возможно, покажется, что непреходящее значение "Убедительного доказательства" в том, что это точка пересечения внешней художественной формы и исключительно частной жизни. Набоковский метод состоит в исследовании отдаленнейших областей прошлого в поисках того, что может быть названо тематическими ходами или нитями, – проницательно указывал Набоков. – Однажды найденная тема прослеживается на протяжении многих лет. Развиваясь, она ведет автора к новым областям его жизни. Бубновая лента искусства и мощные сухожилия извилистой памяти соединяются в едином могучем и мягком рывке, создавая хоровод образов, который как бы скользит в траве и цветах, стремясь к нагретому плоскому камню, дабы блаженно свернуться на нем. Есть несколько основных и множество побочных линий, и все они организованы так, что на память приходят разнообразные шахматные задачи, загадки, все тяготеющие к шахматному апофеозу – тема эта то и дело появляется чуть не в каждой главе: вырезанные картинки, геральдическая шашечница, некие "ритмические узоры", «контрапунктная» природа судьбы, жизнь, "пугающая все роли в пьесе", партия в шахматы на борту корабля в то время, как Россия исчезает за горизонтом, романы Сирина, его интерес к шахматным задачам, эмблемы на черепках, картина-головоломка, венчающая спираль этой темы. <…> Распутывание загадки – чистейший и самый основной акт человеческого сознания. Все упоминаемые тематические линии постепенно сводятся в одну, переплетаются или сливаются в тонком, едва уловимом, но совершенно естественном союзе, который является как функцией искусства, так и поддающимся обнаружению процессом в эволюции личной судьбы. Так, по мере движения книги к концу, тема мимикрии, "изощренного обмана", которую Набоков исследует в своих энтомологических изысканиях, с пунктуальной точностью приходит на свидание с темой загадки, со скрытым решением шахматной композиции, со складыванием узора из осколков разбитой чаши – с загадочной картинкой, на которой взгляд различает контуры новой земли. В ту же точку слияния спешат другие линии, будто сознательно стремясь к блаженному анастомозу, создаваемому искусством и судьбой. Раскрытие загадки есть также раскрытие проходящей через всю книгу темы изгнания, внутренней утраты, и эти линии, в свою очередь, переплетаются, достигая кульминации в теме радуги <…> и сливаются в великолепном rond-point[115]115
круглой площади, поляне (фр.).
[Закрыть] с его бесчисленными садовыми дорожками, парковыми аллеями и лесными тропинками, петляющими по книге. Невольно восхищаешься ретроспективной проницательностью и творческим вниманием, которые удалось проявить автору, дабы замысел этой книги совпал с тем, по которому его собственная жизнь была замышлена неведомыми сочинителями, и ни на шаг не отступить от этого плана».[116]116
Цит. по: Звезда. 1999. № 4. С. 84–85. При жизни автора эта рецензия так и не была напечатана. Впервые она была опубликована в журнале «Нью-Йоркер» (1998/1999. 1 (28 December – 4 January). P. 124–133).
[Закрыть]
Русская версия набоковской автобиографии, опубликованная в 1954 г. нью-йоркским Издательством имени Чехова, вызвала у доживавших свой век эмигрантов «первой волны» по большей части негативную реакцию. Печатных откликов на книгу было крайне мало – преобладали, так сказать, «непечатные» отзывы, среди которых самым резким является, пожалуй, отзыв, данный в письме Георгия Иванова Роману Гулю <см.>. Показательно, что "Другие берега" попали под обстрел не только со стороны заклятых литературных врагов писателя, но и со стороны его былых союзников. Давний приятель Набокова Г. Струве, автор фундаментальной "Русской литературы в изгнании", ограничился хлестким замечанием: «Как только Набоков пробует выйти в область человеческих чувств, он впадает в совершенно нестерпимую, несвойственную ему слащавую сентиментальность (напоминающую, правда, некоторые ранние его стихи). Кроме того, здесь, в рассказе о невыдуманной, действительной жизни на фоне трагического периода русской истории, с полной силой сказался феноменальный эгоцентризм Набокова, временами граничащий с дурным вкусом, как часто граничит с дурным вкусом его пристрастие к каламбурам, в оправдание которого напрасно ссылаться на Шекспира».[117]117
Струве Г. С. 288.
[Закрыть]