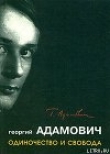Текст книги "Классик без ретуши"
Автор книги: Николай Мельников
Жанр:
Критика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 14 страниц)
Предисловие (Н. Г. Мельников)
В прошлом году, оказавшемся весьма щедрым на громкие юбилеи, мы отметили сто лет со дня рождения Владимира Набокова – писателя, которому с равным успехом удалось укротить стихии русского и английского языка, соединив в своем творчестве две великие литературные традиции. Его путь к признанию и международной славе был нелегким. Писатель, признанный к концу тридцатых годов «самым крупным явлением эмигрантской прозы»,[1]1
Бем А. Русская литература в эмиграции // Меч. 1939. 22 января. № 39. С. 3.
[Закрыть] на протяжении нескольких десятилетий не был известен у себя на родине и лишь спустя пятнадцать лет после переезда в Америку добился скандальной славы как автор «порнографической» «Лолиты».
В настоящее время в это верится с трудом, поскольку сегодня Владимир Набоков воспринимается бесспорным классиком мировой литературы; его произведения вдохновляют художников и музыкантов, по ним снимаются фильмы и ставятся спектакли, их включают в программы по литературе для университетов и школ.
В России (а еще раньше – в Америке и Западной Европе) сложилась целая каста литературоведов, специализирующихся на изучении набоковского творчества. Как и любой крупный писатель, Набоков питает целую литературоведческую индустрию, которая в устрашающем изобилии производит монографии, диссертации, тематические сборники, сотни, если не тысячи, статей, посвященных различным аспектам жизни и творчества писателя (или на худой конец его родственников и далеких предков – даже тех, кто никакого отношения к литературе не имел). Набоковские произведения вновь и вновь подвергаются дотошному литературоведческому препарированию, обрастая – словно корабль водорослями и ракушками – немыслимым количеством экстравагантных интерпретаций (часто лишенных хотя бы подобия художественного такта и вкуса). Творческое наследие Набокова давно стало испытательным полигоном для сторонников различных литературоведческих школ и эстетических доктрин: компаративизм, структурализм, деконструктивизм… При всем своем внешнем различии в применении на деле они сводятся к двум вещам: к редукционистскому вычленению «главных моделирующих доминант», «центральных метафор», под которые затем подгоняется все живое многообразие набоковского творчества, а также к азартной охоте за «аллюзиями», «параллелями», «пародийными отсылками» и «тематическими перекличками», обесцвечивающими эстетическое своеобразие конкретного произведения и растворяющими специфику художественного видения писателя в мутном потоке ассоциаций и аналогий, порожденных бурным воображением эрудированных педантов. Любого, даже случайного упоминания кого-нибудь из писателей, любого мельчайшего совпадения достаточно, чтобы на свет божий появился очередной глубокомысленный опус, в котором отчаянно упирающегося Владимира Владимировича спаривали бы с Шекспиром и Кафкой, Чеховым и Конрадом, Оруэллом и Борхесом, Фулмерфордом и Виссарионом Ерофеевым… С кем только не сопоставлялся Набоков, с кем только не сравнивались его герои! Досадно только, что при всем обилии «интертекстуальных сближений», до которых охочи и западные, и отечественные набоковеды, часто упускаются из виду важнейшие вопросы: о причастности или непричастности писателя идейно-эстетической борьбе своего времени, о его месте в ценностной иерархии определенного периода, о резонансе, который вызвало конкретное произведение, и о той эстетической дистанции, которая отделяла авторский замысел от общепринятых (в рамках данной культурной традиции) норм и жанрово-тематических канонов и т. д. Без внимания остается диалогический характер творчества писателя, поскольку наши охотники за параллелями напрочь забывают об адресате его литературной деятельности – о читательской публике и ее полномочных представителях, критиках и литературных обозревателях, от чьих оценок прямо или косвенно зависит дальнейшая писательская судьба. В результате затруднительным становится и «анализ отдельного произведения в соответствующем литературном ряду, необходимый для определения его исторического места и значения в контексте литературного опыта»,[2]2
Яусс Х. Р. История литературы как провокация литературоведения // Новое литературное обозрение. 1995. № 12. С. 70.
[Закрыть] и полноценное осмысление всего творческого наследия Набокова – объективная оценка его эстетической и культурной значимости. К сожалению, немногие исследователи набоковского творчества затрагивают подобные проблемы. Куда проще и эффектнее сравнить Набокова, скажем, с Ясунари Кавабатой или Амброзом Бирсом, или сопоставить Мартына Эдельвейса с Одиссеем, Цинцинната с Иисусом Христом, а Смурова, главного героя «Соглядатая», – с мальчиком Ваней Смуровым из повести М. Кузмина «Крылья» (благо фамилии совпадают – жаль, что пока никому не пришло в голову сравнить безумного набоковского шахматиста с Петром Петровичем Лужиным, незадачливым женихом из «Преступления и наказания», впрочем, все еще впереди).
В ситуации, когда один из самых ярких и противоречивых писателей уходящего XX в. сделался заложником своих профессиональных почитателей, как никогда актуальным становится рецептивно-эстетический подход к его творческому наследию. Для того чтобы наглядно представить процесс постепенного разворачивания богатейшего смыслового потенциала набоковских произведений, необходимо обратиться к литературно-критическим работам тех авторов, кто имел счастье судить о них, что называется, «по горячим следам» и по сравнению с современными исследователями Набокова обладал целым рядом преимуществ.
Первые дегустаторы набоковских творений были гораздо более свободны в своих суждениях, чем нынешние набоковеды (для которых Набоков – не только объект изучения, но и строительный материал научной карьеры). Над критиками же не довлели ни авторитет классика, ни железобетонные догмы теоретико-литературных доктрин. Книги писателя гармонично вписывались в живой литературный контекст и представлялись своего рода «диким полем», полным загадок и неожиданностей, а не укатанной шоссейной дорогой – со стеклянной закусочной по одну сторону и аляповатым рекламным плакатом – по другую.
В силу своей неизбежной субъективности первые толкователи набоковских произведений были застрахованы от той нелепой ситуации, когда «интерпретатор, стремящийся быть беспристрастным, неосознанно возводит свое эстетическое представление в норму и незаметно для себя модернизирует смысл текста прошлого»,[3]3
Яусс Х. Р. История литературы как провокация литературоведения. С. 67.
[Закрыть] – скажем, топорно подгоняет довоенные сочинения Набокова под те критерии и параметры, которые были заданы его поздними вещами, «Адой» или «Арлекинами».
В первую очередь вышеперечисленными преимуществами обладали критики «первой волны» русской эмиграции. И пусть их поругивал Набоков, утверждавший в телеинтервью 1975 г.: «Эмигрантские критики в Париже <…> были один-единственный раз в жизни правы, когда сетовали на то, что я недостаточно русский». В действительности именно они наметили основные подходы к изучению набоковского творчества, заложив фундамент современного набоковедения и предвосхитив многие суждения и оценки (как положительные, так и отрицательные), которыми позже наградили писателя англо-американские критики. Как это ни печально, в подавляющем большинстве работ западных (да и отечественных) набоковедов эмигрантские критики не вполне обоснованно выставляются лишь в качестве литературных староверов, оказавшихся неспособными понять и по достоинству оценить новаторские творения незаурядного писателя, или же – как злобные, мучимые завистью интриганы, жалившие его ядовитыми рецензиями.
Спору нет, в литературном мире русского зарубежья признание далеко не сразу пришло к В. Сирину; немало было у него и литературных врагов, то и дело подвергавших его писательскую репутацию яростным атакам. Однако в англо-американском литературном мире принципиальных оппонентов и недоброжелателей у Набокова было не меньше, а славы, озарившей писателя на шестом десятке лет, ему пришлось ждать вдвое дольше (пятнадцать лет против восьми в его русскоязычный период).
Вообще, «русский» и «американский» этапы эстетической рецепции набоковского творчества на удивление похожи. Упрощая и огрубляя, но в целом довольно точно выдерживая основной рисунок, эволюцию литературной репутации В. Набокова можно представить в виде двух параллельно разворачивающихся спиралей – воспользуемся любимым набоковским образом. Первый виток спирали (1922–1929 гг. для В. Сирина и 1940–1955 гг. для В. Набокова) характеризуется появлением редких, но по большей части благожелательных отзывов; писатель мучительно ищет себя, неуклонно завоевывая признание авторитетных критиков, но пользуясь известностью в относительно узком кругу литературных гурманов. Второй виток (1929–1937 гг. и, соответственно, 1955–1969 гг.) открывается бурным успехом романа, который становится главным литературным событием года, привлекая к автору внимание литературной элиты и широкой читательской аудитории (правда, говоря об эмигрантской публике, слово «широкий» стоит взять в жирные кавычки); "Защита Лужина" – в «русский» период, «Лолита» – в «американский» делают Набокову громкое имя и выдвигают его в эшелон авторов «первого ряда». Отныне любому произведению писателя обеспечено самое пристальное внимание со стороны критиков и читателей. Он «входит в обойму» широко читаемых и печатаемых авторов; несмотря на выпады враждебно настроенных зоилов, его положение достаточно прочно – с ним вынуждены считаться даже его литературные недруги, его творчество получает общее признание. Третий виток спирали (1937–1940; 1969–1977) – своего рода «осень патриарха». Репутация писателя по-прежнему высока, он – желанный гость престижных журналов и издательств, однако в силу ряда причин намечается охлаждение к нему со стороны критиков и читателей. «Главные» вещи писателя не находят прежнего восторженного отклика, голоса недоброжелателей звучат все громче, среди литературных союзников и почитателей царит растерянность и смятение, а иные из них порой присоединяются к представителям враждебного лагеря и награждают писателя разгромными рецензиями.
При сравнении «русского» и «американского» этапов следует учитывать несколько весьма существенных нюансов. Во-первых, несоизмеримость масштабов книжно-журнального рынка и издательского дела с каждым годом нищавшей и денационализировавшейся русской эмиграции и богатейшей страны мира (учтем также Британию и другие англоязычные страны). Мировой экономический кризис катастрофически сказался на эмигрантской литературе, прикончив многие периодические издания. Говоря о литературе русского зарубежья, «нельзя забывать, что это была беднейшая – в материальном отношении – словесность современности, литература без социальной базы и часто почти без читателей».[4]4
Андреев Н. Литература в изгнании // Грани. 1957. № 33. С. 175.
[Закрыть] Таким образом, мизерное (по благополучным американским меркам) число печатных отзывов на произведения «зрелого» Сирина, на которое ехидно указывала, в частности, Л. Фостер (прозрачно намекая на то, что эмигрантские критики не обращали на писателя должного внимания[5]5
Foster L. A. Nabokov in Russian Émigré Criticism. – In: A Book of Things about Vladimir Nabokov / Ed. by Carl R. Proffer. Ann Arbor: Ardis, 1974. P. 52–53.
[Закрыть]), говорит не о злой воле критиков, а о ничтожной экономической базе эмигрантской литературы.
Во-вторых, «русско-эмигрантская» и «американская» спирали были тесно переплетены друг с другом. Эмигрантские авторы неоднократно публиковали критические статьи о Набокове (Сирине) в англоязычных изданиях[6]6
Nazaroff A. Recent Books by Russian Writers // NYTBR. 1935. August 18. P. 3–4; Slonim М. Glimpse Into a Vanished World // NYTBR. 1951. February 18. P. 7; «Doctor Zhivago» and «Lolita» // International Literary Annual. 1959. P. 213–225; Struve G. The Double Life of Russian Literature // Books Abroad. 1954. Vol. 38. Autumn. P. 389–406.
[Закрыть] (равно как и в немецко-, чешско– и франкоязычных), а некоторые американские критики (например, М. Фридберг) печатались на страницах русскоязычных эмигрантских изданий. К тому же начиная с первой половины тридцатых годов обе «спирали» разворачивались синхронно. Уже в 1933 г. критик Альберт Пэрри первым из американских авторов написал о Набокове в обзорной статье о литературе русской эмиграции. Выделив среди молодых писателей подающего надежды прозаика и упомянув три его произведения – романы «Король, дама, валет», «Камера обскура» и рассказ «Картофельный эльф», – Пэрри назвал В. Сирина «ненавязчивым приверженцем д-ра Фрейда» и пришел к заключению, что сиринские произведения достойны перевода и самого пристального внимания.[7]7
Parry A. Belles Lettres among the Russian Émigrés // American Mercury. 1933. July 29. P. 316–319.
[Закрыть]
В общем, как нельзя категорично отъединять русскоязычное и англоязычное творчество писателя, точно так же не стоит отделять друг от друга процессы критического восприятия набоковского творчества в критике русской эмиграции и англо-американском литературном мире. Поэтому-то названия двух частей данной книги – «Сирин» и «Набоков» – следует воспринимать как эквиваленты словосочетаний «русскоязычное» и «англоязычное» творчество В. В. Набокова: у составителей нет никаких сомнений относительно целостности двуязычного набоковского феномена.
* * *
Говоря о перипетиях литературной биографии Набокова, нельзя не сказать о том, как воспринималось его творчество в СССР. Начиная со случайного упоминания в статье В. Волина[8]8
На посту. 1925. № 3. С. 20–23.
[Закрыть] о поэзии эмиграции и издевательского фельетона Демьяна Бедного, откликнувшегося на сиринское стихотворение «Билет» плоской зарифмованной бранью – «Что ж, вы вольны в Берлине «фантазирен», / Но, чтоб разжать советские тиски, / Вам – и тебе, поэтик белый, Сирин, / Придется ждать… до гробовой доски», – и вплоть до баснословной «перестроечной» эпохи книжно-журнального бума, когда на волне «возвращенной» литературы произведения писателя хлынули на родину, то есть на протяжении шестидесяти с лишним лет, имя писателя было вычеркнуто из официальной истории русской литературы. Поклонники набоковского таланта (они появились в Союзе уже в шестидесятые годы благодаря нелегально привезенным изданиям его романов) не имели возможности свободно высказываться в печати, а для советского официоза, безраздельно контролировавшего прессу и книгоиздание, Набоков, по его остроумному замечанию из письма А. И. Солженицыну (безуспешно выдвигавшему нашего героя на Нобелевскую премию), был «чем-то вроде покрытого чешуей дьявола».[9]9
SL. P. 528.
[Закрыть] Неудивительно, что в советской печати отзывы о В. Набокове – «писателе, лишенном корней, отвернувшемся от великих традиций родной литературы»[10]10
Чернышев А., Пронин В. Владимир Набоков во-вторых и во-первых // Литературная газета. 1970. 4 марта. С. 13.
[Закрыть] – были крайне малочисленны (чтобы их пересчитать, с лихвой хватит пальцев одной руки). Не отличаясь ни особой вдумчивостью, ни дружелюбностью, ни разнообразием, они были настояны на крепких дрожжах партийных идеологических директив и выдержаны в соответствующем стиле: «Набоков охотно подхватывает все модные веяния Запада, поклоняясь космополитизму, порнографии, абсурду. Свой вклад он внес и в антисоветскую пропаганду. В своей «эстетической программе» Набоков отрицает гражданственность творчества, пытается отгородиться от реальности в вымышленном мирке, с помощью формалистических ухищрений и ошеломляюще непристойных ситуаций утвердить свою «независимость» художника. На деле же его творчество рассчитано на обывательские вкусы буржуазного читателя. <…> Враждебность к социализму прорывается во многих произведениях Набокова. Перемены на Родине, великие подвиги ее народа он не замечает, ограничивается лишь ядовитыми сарказмами. <…> Набоков ощущает иррациональность буржуазного бытия, но от поисков позитивного отказывается. Его безыдеальные романы с замкнутой структурой, алогичностью сюжетов и малоправдоподобными характерами – это камера абсурда, где нет места ничему живому».[11]11
Чернышев А… Пронин В. Владимир Набоков во-вторых и во-первых. С. 13.
[Закрыть]
На фоне подобных критических опусов верхом «полит-» и прочей корректности предстает статья О. Михайлова и Л. Черткова, опубликованная в пятом томе "Краткой литературной энциклопедии" (М., 1968. Т. 5. Стлб. 60–61), где писателя вяло поругивали зато, что его книги «отмечены чертами литературного снобизма», «стиль <…> отличается вычурностью», а в романе «Дар» дается «тенденциозно искаженный образ Н. Г. Чернышевского».
В годы «перестройки» утверждение литературной репутации писателя проходило весьма непросто. Возвращение творческого наследия на родину сопровождалось агрессивными нападками со стороны некоторых литераторов. В советской печати конца восьмидесятых годов то и дело появлялись откровенно погромные статьи. В одной из них – опусе Д. Урнова, красноречиво озаглавленном «Приглашение на суд», – Набоков не только получил лестную аттестацию «представителя декаданса, упадка» и эпигона Ф. Сологуба, «преемника худших, слабейших его сторон», но и объявлялся едва ли не графоманом: «Ясно, что этот человек изначально не владел языком, что он не мог писать, а раз уж все-таки стал писать и сделался писателем, даже знаменитым, это означало, что он всеми способами скрывал свою неспособность и, как безнаказанная выходка, это ему сошло с рук, удалось!»[12]12
Урнов Д. Пристрастия и принципы: спор о литературе. М., 1991. С. 109, 104.
[Закрыть]
Впрочем, появление такого рода критических опусов было закономерно. В эмигрантской и англо-американской печати Набокову устраивали выволочки и похлеще (тон, правда, был немного иной).[13]13
Любопытно отметить одно из главных обвинений, предъявлявшихся Набокову недоброжелателями из числа эмигрантских критиков (а затем подхваченное советскими и постсоветскими набокофобами), – это обвинение в отрыве от национальных корней и традиций отечественной литературы, в то же время многие американские и британские критики (Кингсли Эмис, например) неустанно твердили об искусственности набоковского английского, считая писателя «русским волком в американской шкуре» (Crofts R. F. Vladimir Nabokov – А Russian Wolf in American Clothing // Modem Spark. 1965. Vol. 159. № 1. P. 11).
[Закрыть] Да критика, пожалуй, и не должна быть такой же лучезарно-благодушной, как реклама жевательной резинки «Дирол» или чудо памперсов «Бэйби драй». Критика, как утверждал Бальзак устами прожженного писаки Этьена Лусто, – «это щетка, которой не следует чистить легкие ткани она разрывает их в клочья». В подавляющем большинстве художественные произведения Набокова оказались выкроены из ткани, достаточно прочной, чтобы с честью выдержать не одну критическую «чистку».
На этом основании в данную книгу вошли даже самые резкие и язвительные отзывы о набоковском творчестве. К тому же некоторые из критических замечаний, брошенных в адрес писателя (я, конечно, не имею в виду вышепроцитированные статьи), вполне справедливы. Творчество Набокова неравноценно по своей эстетической значимости бесспорные шедевры уживаются с проходными, а иногда и с провальными вещами (например, "Под знаком незаконнорожденных"), художественные открытия и озарения – с нудными повторами и самоперепевами, граничащими с автоэпигонством. В самых разносных отзывах содержится порой куда больше проницательных и острых мыслей, позволяющих проникнуть в глубинную суть художественного мира писателя, чем в иных рекламно-благодушных опусах. Теперь, когда писатель прочно утвердился на литературном Олимпе и за ним закрепился почетный титул классика, читать их особенно интересно за ними – ушедшая эпоха, угасшие литературные страсти, отгремевшие писательские войны, отцветшие эстетические идеалы и окаменевшие теории.
* * *
В критике традиционно выделяют три основные разновидности: критика читательско-журналистская, непосредственно выражающая господствующие вкусы своего времени и пристрастия читательской публики, критика писательская, зачастую обусловленная бескомпромиссной борьбой враждующих школ и писательских группировок, а также чисто житейскими соображениями («Литература прейдет – дружба останется» – вспомним хрестоматийную фразу, которой нередко руководствовался Г. Адамович); критика профессорско-литературоведческая (по идее – более объективная, хотя и тесно связанная с противостоянием различных эстетических и философских концепций).
Сам Набоков предлагал похожую триаду «…когда я думаю о критиках, я разделяю это семейство на три подсемейства. Во-первых, это профессиональные поденщики или провинциалы, регулярно заполняющие отведенные им участки на кладбищах воскресных газет. Во-вторых, критики более амбициозные, раз в два года собирающие свои журнальные статьи в том с подразумевающим некоторую ученость заглавием – «Неоткрытая страна» или что-нибудь в этом роде. И, наконец, коллеги-писатели, выступающие с рецензией на книгу, которая им полюбилась или прогневила их. Последнее породило немало ярких обложек и темных свар».[14]14
Цит. по Набоков В. В. Собр. соч. В 5 т. СПб, 1997. Т. 3. С. 553.
[Закрыть]
В настоящее издание включены работы, представляющие все вышеперечисленные разновидности. Вам встретятся и безвестные газетно-журнальные поденщики (которые порой оказываются интереснее и прозорливее, нежели литературные звезды первой величины), и фанатичные литературоведы-набоковианцы, готовые восхвалять любую кляксу, выскочившую из-под набоковского пера, и именитые писатели, многие из которых видели в Набокове опасного конкурента. Конечно, далеко не все из помещенных здесь рецензий и критических этюдов являются, как выразился бы Набоков, «шедеврами остроумия и проницательности». Наряду с критическими работами, конгениальными творчеству писателя, – статьями и рецензиями Г. Адамовича, В. Вейдле, В. Ходасевича, П. Акройда, Дж. Апдайка, С. Лема, Э. Уилсона и других менее известных, но, как оказалось, вполне достойных авторов, – в книгу включены опусы, которым вряд ли суждено стать «вечными спутниками» набоковских произведений Однако все они, безусловно, представляют историко-литературный интерес. С высоты прошедших лет вы можете с легкостью обвинить иных набоковских критиков во всех смертных грехах в архаичном морализаторстве, в консервативной приверженности старым формам и нежелании принять непривычные для них особенности образного мышления, в заведомой пристрастности (обусловленной, так сказать, соображениями «окололитературного порядка»), в верхоглядстве, поспешности и произвольности выводов и обобщений. Опять же рецидивов «вульгарного компаративизма» – произвольных ассоциаций и фантастических «параллелей», опутывающих Набокова, словно веревочки лилипутов спящего Гулливера, – у них не меньше, чем у нынешних «набокоедов».
Отчасти подобные упреки будут справедливы. Действительно, далеко не со всеми оценками, данными произведениям Набокова, мы можем сейчас согласиться. Многие критические приговоры кажутся несправедливыми, а иные скоропалительные прогнозы – просто смешными (чего стоят хотя бы рассуждения М. Осоргина о «бытовике» Сирине или глубокомысленный вывод Пэрри, увидевшего в писателе последователя Фрейда!). Все это так, однако поспешность выводов, неточность прогнозов и пристрастность оценок – эти и другие издержки и недочеты – неизбежные спутники всякого, кто занимается неблагодарным ремеслом критика. К тому же ошибки людей, дерзавших мыслить по-своему, представляют большую ценность, нежели непререкаемые истины, повторяемые бездарными устами.
Смею надеяться, эти соображения можно с чистой совестью отнести ко всем критическим сочинениям, составившим книгу, цель которой не сводится к реконструкции творческой биографии выдающегося русско-американского писателя. В работе над сборником "Классик без ретуши" составители исходили из того, что отстраненный (пусть и враждебно-настороженный) взгляд на творчество Набокова глазами современных ему критиков не только поможет выявить те или иные смысловые грани и осмыслить художественные особенности набоковских произведений, но и позволит реконструировать «горизонт ожидания» того читателя, которому они предназначались, почувствовать динамику литературного процесса с его меняющимися эстетическими вкусами и оценочными критериями.
Н. Г. Мельников