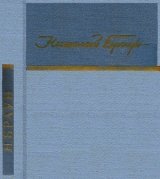
Текст книги "Стихотворения"
Автор книги: Николай Браун
Жанр:
Поэзия
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 4 страниц)

Николай Браун
Стихотворения

О себе
Истока моего поэтического слова – в истоках моей биографии.
Этими истоками были для меня годы детства, проведенные среди природы тульского края, в Белевском уезде, где я родился в 1902 году.
Годы моего учения прошли в Орле.
Тульская и орловская земля воспитала во мне глубокое чувство поэтического. Это были тургеневские, лесковские, фетовские, бунинские места. На этой земле я с детских лет вслушивался в полновесное, красочное народное слово, слушал народные песни, частушки («страдания»), сказки, видел трудную жизнь дореволюционной деревни с ее горестями и радостями.
Тяга к поэзии пробудилась во мне рано, но слово давалось трудно. Самым важным для моего дальнейшего развития как поэта, самым существенным я считаю рано пробудившуюся способность вслушиваться, всматриваться, вчувствоваться в окружающее, чем бы оно ни было: в мерцание лунного снега, в трепет осинника, в песенку жаворонка, в веселый говор весеннего ручья, в народную поговорку, в вечернюю девичью песню, летящую с далекого сенокоса.
Все это я жадно вбирал в себя, совсем не думая о том, что это может быть высказано словом. Я тянулся к слову, созданному другими.
Первым поэтом, захватившим меня, был Некрасов. Может быть, потому, что многие образы, созданные поэзией Некрасова, были для меня не только литературой, но самой жизнью, самой правдой, раскрытой в волнующем поэтическом слове, скорбном и гневном, и таком певучем, что я, бывало, открыв книгу, часами не читал, а пел не только то, что пелось в те годы, но почти все подряд, сам придумывая мотивы.
А там открылись безмерные глубины поэзии Лермонтова, Пушкина, других классиков, а там – явления новой поэзии, с которой ближе и лучше я познакомился уже в Петрограде.
На меня обрушилась целая лавина поэтических открытий.
На смену уже утвердившемуся символизму пришло острое новаторство футуристов, свое понимание задач поэзии отстаивала практика акмеистов, о своей попытке создать «школу» заявляли имажинисты. Предстояло заново осмыслить классическое наследство. Поэзия выходила к новой тематике, к поискам нового действенного слова, новых средств поэтического раскрытия.
Для меня, представителя нового поколения, становилась существенной не столько теоретическая позиция каждой из этих школ, сколько та практика, те творческие их достижения, которые способствовали бы выходу новой поэзии на новую орбиту.
Для меня этот выход был ознаменован утверждением несколько отвлеченно раскрытой темы – косного мира и человека, мастера, которому предстоит этот мир перестроить. Поиски слова велись мной в соответствии с этой задачей – не только в направлении образного, красочного слова, но и слова-мысли. Эти мои попытки нашли свое отражение в первой книге моих стихов «Мир и мастер», вышедшей в 1926 году.
До того мои стихи публиковались в журнале «Красный студент». Первой публикацией в «большой» печати было стихотворение «Россия», принятое А. Н. Толстым и напечатанное в журнале «Звезда» в 1924 году.
В двадцатые годы мне пришлось освоить разные профессии. Я был санитаром, пожарным, актером, грузчиком в студенческих артелях. В дальнейшем вел редакторскую и редакционную работу.
Учился я в Педагогическом институте имени А. И. Герцена на отделении языка и литературы и в Институте истории искусств.
С 20-х годов состоял в различных творческих объединениях и союзах: в студенческой литературной группе «Мастерская слова», в Союзе поэтов, во Всероссийском союзе писателей, в группе «Содружество», куда входили представители разных жанров, в группе поэтов «Ленинград». В 1934 году, с момента возникновения Союза писателей СССР, вступил в него, был делегатом его первого и всех последующих съездов.
С самого начала Великой Отечественной войны я служил в Краснознаменном Балтийском флоте в распоряжении Политуправления. Был начальником литературного отдела газеты «Красный Балтийский флот». Участвовал в обороне Таллина и, не без приключений и трудностей, в прорыве кораблей Балтийского флота из Таллина в Кронштадт. Затем – блокадный Ленинград. Снова работаю над стихами, сатирическими фельетонами, лозунгами для газеты, над текстами песен для композиторов, для ансамбля Военно-Морского Флота, выступаю в частях и на кораблях. Совместно с поэтом С. Спасским пишу либретто для оперы М. Коваля «Севастопольцы», поставленной затем рядом оперных театров страны.
В послевоенные годы вышел целый ряд моих книг: «Мой светлый край», «Живопись», «Я слушаю время», «Я жгу костер», «Гимн одержимым» и другие. В них – раздумья о времени, о творчестве, стихи о Ленинграде, о природе, о любви. В них я часто возвращаюсь и к пережитому в дни войны.
Одновременно с работой над своими стихами с середины тридцатых годов я перевожу и редактирую переводы классиков и современных поэтов Украины и Белоруссии.
В разное время мной написаны две поэмы, выходившие отдельными изданиями: «Мюнхен», посвященная Баварской Советской Республике (1931) и «Молодость» (1959) – поэма о 20-х годах.
В настоящем сборнике, в отличие от предыдущих изданий, стихи расположены не тематическими циклами, а в хронологическом порядке; включены также стихи из ранних моих книг.
В этой краткой заметке невозможно раскрыть весь сложный и трудный путь моего поэтического развития. Одно чувство, одна уверенность не покидали меня никогда и посейчас остаются моим убеждением: творческие поиски в искусстве не имеют предела. Там, где кончаются поиски, там кончается искусство.
Николай Браун
Стихотворения
Россия
В нóчи, в нóчи, в поля, сквозь огни,
в черноту, где гудят
Паровозные топки, где шпалы звенят, где
когда-то
По скрипучим теплушкам, по рваным
шинелям солдат
Девятнадцатый год выжигал величавую
дату!
Там запутанный в травы, там кровью
окрашенный дым,
Он скитался немало, он слышал земли
перекличку,
Он расскажет о том, как над этим кочевьем
глухим
Нами брошена в порох задорная рыжая
спичка,
Как в изодранных пальцах рвались
и хрипели слова:
Лучше штык иль свинец, чем копить
золотые копейки!
И была не столицей – походной палаткой
Москва
С пятикрылой звездой на татарской своей
тюбетейке.
Может быть, он и горек, годов этих
яростных яд,
Но столетий острей и чудеснее годы такие.
Оттого и слова мои тусклою медью стучат
Перед звоном твоим, вознесенная дыбом
Россия.
Вот я имя твое, как завещанный дар
берегу,
И выводит рука над заглохшею в полночь
равниной:
Нет России былой! Есть Россия в свистящем
снегу,
Что в просторы вселенной рванулась
пылающей льдиной.
1923
Мастеру
Касаться песен черствыми руками
В разгар азарта – нет, нехорошо!
Кто наш предел однажды перешел,
Вдохни огонь в захолодевший камень,
Возьми язык, и вырви, и учи
Слагать речей поющие ключи.
Ты видел мир? Он начерно и наспех
Сырым плакатом взят на полотно.
Земли плавучее зерно
И этих звезд пылающая насыпь
Твоим глазам развернуты давно.
Он ждет тебя. Ты старый мастер,
Не у тебя ль запрятаны в запястьях
Стук молотков и стук сердец,
И солнц играющие снасти,
И вымуштрованный резец?
Кромсай же заново и чертежи и карты.
Всю поступь мира начисто разбей,
Чтоб соль высокого азарта
Запела в россыпи камней.
Ты слышал мир? В его раскачке ранней,
В ветрах и водах жалобы дробя,
Все те же голоса трубят,
Все о твоем стремительном дыханьи…
Взойди на холм. Твоя земля в тумане.
Она поет. Она зовет тебя.
1924
Корабли
Моей матери
Над слухом человеческим,
Над площадью земли
Плывут мои словесные,
Плывут мои певучие
Цветные корабли.
Не знаю, где их родина,
Не я их вывожу,
Но только ночь наклонится,
И я уже слежу:
И вдруг качнутся полымем,
И входят в тишину,
Я только слышу в голосе
Предзорную струну,
Кочующую, лунную,
Ударившую в пляс,
Растущую, бурунную,
Надорванную в лязг —
И стены растекаются,
И вздернуты глаза,
И струнами развернутыми
Стонут паруса.
Идут, играя визгами,
Хмелея высотой,
Над злым косноязычием,
Над нищей теснотой,
Над спящими,
Над падшими,
Над стуком торгашей,
Неслыханными брызгами
Для темных человеческих
Загубленных ушей.
И кто-то вдруг засветится,
Привстанет у стола
И станет им подтягивать,
Раскачиваясь в лад, —
И вдруг увидит заново:
В подоблачных лесах
Дорогами пернатыми
Проходят паруса —
А это я, протянутый
Над стуками,
Над странами,
Плыву, не зная сам —
В какой последней гавани,
В краях какой земли —
Пройдут мои чудесные,
Зайдут мои певучие,
Замрут мои последние
Цветные корабли.
1926
Партизаны
Ходят пóнизу туманы,
Холодят стремена.
Заложили атаманы
В самокруты тютюна,
Чубарыми гривачами
Повернули на закат,
Длинноусыми речами
Дым шевелят:
«Не пора ли
Остудить удила,
Заряница за горами
Залегла.
Оступается дорога
Вороным-ворона,
Перещупана по крохам
Низовая сторона,
Переиграна спесь
Догола,
За плечами только степь
Да зола —
Не пора ли конюхам
В передых
Кожухами колыхать
До воды?»
Только звякнули железа,
Только тени вперевес —
И ударили поводья
На рысях,
И копыта над водой
Висят.
Ходят берегом туманы,
Холодят,
По развернутому стану
Седла встали в ряд.
Крепко ночь над головами
Завязала сон,
Понизовыми делами
Веет от попон.
Только ухо на дозоре
Шорохи берет,
Только, дреме непокорен,
Ветер пламя гнет.
И когда, зарей подбитый
Из-за гор,
Задохнется под копытами
Костер, —
Будут хлопоты и лязги,
А пока —
Шарит нож под опоясками
Рука.
1926
Ночная страна
Подымается города взмах
На полуночных лунных весах,
Залетает зима,
Заметает зима
В переулочки, за дома.
В переулочках и домах
Суета согревает шаг.
Не у каждого под рукой
Крепкостенный жилой покой,
Чтоб нести в высоком строю
Рядовую судьбу свою,
Но у каждого злее зуб,
Если день на подарки скуп.
И когда призаляжет тьма
В переулочки, за дома, —
Не тряси, гражданочка,
Соболями,
Где фонарики
Не горят,
Там девчоночки
С делашами
Финским ножиком
Говорят…
А фонарики бегут, бегут,
А за стеклами уют берегут.
А за стеклами ночь зажжена
Золотей, чем над крышей луна,
И я вижу, как вяжут концы
Закупившие судьбы дельцы,
И цыганка с подругой в лад
Механическим жаром дрожат,
И одна наклонилась вперед,
А другая плечами плывет,
И слепыми глазами поет,
И гитара стучит и бормочет
Про «любовь, летней ночи короче».
И в волненьи сидят оловянном
Истуканы над желтым стаканом…
Вдруг ударило за окном
Полустанками, дымком,
Свежей сосенкой, петухом.
В подбеленной луной дали,
На средине моей земли,
По дороге – полозок, полозок,
Над полозьями – голосок.
То ли ветер в соломинку лег
И свистит на раскатах дорог,
То ли полночь…
А это она —
Снеговая моя страна,
Костромская моя жена —
Путь полозьями ворошит,
Сосны песенкой ворожит,
Древней песенкой, простой
На соломинке золотой, —
И страна широка, широка,
А соломинка высока.
Оттого вот и я пою
На широком таком строю,
И я слышу тебя, страна,
Снеговая моя струна,
Костромская моя жена!..
И как будто не давит тьма,
Залетевшая за дома.
1927
Конокрады
Звездами задернуты
Ночей потолки,
Их тяжесть во все стороны,
Попробуй, опрокинь!
Каждая, хоть глаз коли,
Набита темнотой,
Над грядками, над вязами
Входила на постой,
Внизу овчарки ляскали
В тоске сторожевой.
Они страшились облака,
Пичужек на кусте
И шорохов, что под боком
Тащила в уши волоком
И сбрасывала степь:
Голоса кузнечиков,
Треска трав,
Блеска уздечек
И таборной речи,
Нацелившей глаз в хутора.
То целятся лошадники,
Идут поставщики,
Четвероногих краденых
Ночные знатоки.
Уж выслежены подступы,
Овчарки нипочем,
Как будто ватной поступью,
Как будто воды в ростепель,
В ворота конь течет.
Он льется прямо за угол
И гонит тени ног, —
Вдруг у стойла, за ухом —
Свет, крик, брёх.
Выбегали конюхи,
Махали фонарем,
Сигали тени под ноги,
Как будто знают ход они
И заодно с ворьем.
Глаза кружили петлями,
Но вещи не ответили б, —
Хоть бейся до слезы! —
Как мертвые свидетели,
Забывшие язык.
И люди в седла подняты,
И треплют повода,
И свора лаем гонит их
По свежести следа.
1927
Быстрота
Всей высотой смыкала чаща
Сырых ветвей смолистый вес.
Передо мной, как бред навязчив,
Кустарник шел наперерез;
Он был подростком настоящим,
Задирой был и в драку лез.
Он привыкал к игре военной:
Отбит один – бежит другой,
Он угрожал болотным пленом,
И, как взаправдашний огонь,
Сушняк взрывался под ногой.
Я чащу знал, как знаю утварь
Свою в дому, я шел, пока
Сквозная синяя доска
Стволы раздвинула, легка,
И вдруг – лужок, и вдоль лужка
Как будто в локте перегнута
Ручья гремучая рука.
Там, коченея между трав,
К земле, как к родине, припав,
Забыв труды и стремена,
Сверкали кости скакуна.
В высоких ребрах, где когда-то
Текла, играя, быстрота,
Топтался ворон вороватый,
Лопух качался у хребта —
Как мусор сохла быстрота.
Ручей летит под бережком,
И тот же норов ходит в нем,
С луной и солнцем переменчив,
То он ворчит, как жидкий гром,
То на таком поет наречьи,
Как будто плачет серебром.
И все б ему бежать – куда?
Глядеть, как блещут города,
Ловить людей чужую речь,
Греметь, и плакать, и беречь,
Смывая версты и мосты, —
Дыханье той же быстроты.
Пускай костяк из-за куста
Кричит, что это суета,
Но есть иной игры закон,
Как сон, как жажда тянет он,
И ворон, дергая ребро,
Такой же движется игрой.
И если вдруг – удар ножа
Иль пули – все-таки бежать
Вперед и грохнуться мешком,
И тут, в последний раз, ничком,
Теряя землю из-под ног,
Еще податься на вершок!
1928
Огонь
Хитра стихия. Осторожно
Войдет, наляжет на рычаг.
Но есть на площади морозной
Сторожевая каланча.
Там изваяньем спит пожарный
В тулупе, пахнущем овцой,
И каски, медью самоварной
Вдоль стенки выстроясь попарно,
Летят начищенным лицом
Навстречу той злодейской спичке,
Что спит, уткнувшись в коробок, —
Родоначальницей тревог.
В ней реки огненные рыщут,
В ней дым запрятан до поры.
Она проснется и засвищет,
Ударит в ведра и багры, —
И всё: от коек до конюшен
Отбросит теплый недосып —
И прянут в упряжки наружу
Четвероногие жильцы.
Но мирен храп досужей спички,
И на зубах у жеребцов
Хрустит овес, и кто отыщет
В дежурстве, пахнущем овцой,
Лицо огня и запах стычки,
Которой ждет, как лед горда,
Холодный выходец – вода?
Она пока еще в запасе
Должна от ярости потеть,
И плечи скользкие вертеть,
И в крик кричать, что тошно спать ей
В такой тюремной тесноте,
Что лучше стать речонкой тощей,
Бежать и петь прохладной рощей
С листком березовым во рту…
Она, повизгивая, вскочит
И вдруг пойдет на высоту
Между стропил и переборок, —
И человек увидит вдруг,
Как двух стихий сойдется норов,
Чтоб пеплом скорчиться к утру.
1928
Парóм
За каждой песней день лежит.
Но он забыт, и не отыщешь,
Какой был день, когда в глуши
Ворчала ось, тряслись гужи,
Торчало в воздух кнутовище.
С горы съезжали. Зной накрыл
Глаза сквозной горючей шапкой,
Как банщик, выкатив пары,
И колыхал, держа в охапке,
Русло воды, махры душок,
Косовороток говорок.
Внизу играл тележный гром:
Вступали кони на паром.
Храпя, артачился передний,
Как поля выкормыш дикой,
В нем подымалось подозрение
К дорожной зыбкости такой.
Но по-домашнему проворно
Овса потерянные зерна
У ног долбили воробьи, —
И, презирая плен позорный,
Он вдруг окаменел покорно,
И вожжи виснут на слабú.
Идет паромщик бородатый,
И выпрямляются канаты —
И сразу дрогнули, пошли
Бока бревенчатой земли.
Я тоже выкормыш дикóй,
Я так же чту, как этот конь,
Устойчивость. Но, как хотите,
Когда ступни мои несет
Моста плавучий заместитель, —
Я снова тот ловец, воитель,
Жилец лесов, гонец широт,
Несущий руки для открытий, —
Кто в первый раз над зыбью вод,
Связуя дерево, идет.
1928
Вступление к поэме «Мюнхен»
Конец мировой войны.
Немецкие солдаты идут по домам
Ноябрь вошел, срывая сроки —
И всё, что фронтом было вчера, —
Серые шинели, небритые щеки
Людей, расшатанных до нутра, —
Сегодня идет сплошным распутьем,
Идет назад, на города,
Ползут снаряды и орудья,
Повозок обозная орда.
Скрипит мороз, траву топыря,
Скрипит по-зимнему опять.
Их было четыре зимы, четыре
Пытки! Пятой не бывать!
Летит к чертям войны мытарство —
Приказы кайзера – на штыки!
Идут саксонцы, шагают баварцы,
Качают каски пруссаки.
Бегут от газовых навесов,
Колючих проволок, волчьих ям,
Сырых траншей.
И поет железо
Колес по мерзлым колеям.
Несут герои, трясут калеки
Железные крестики на груди.
Их руки и ноги потеряны навеки,
Где-нибудь в овраге гниют позади.
А что впереди?
Что впереди?
Протезы – уродам.
Подачек божеские куски.
Что впереди?
Военных заводов
Заброшенные станки —
На что ж вам руки, здоровяки?
Что впереди?
Иссохшие груди
Матерей. Втолкуй им, поди,
Что это – хозяйское правосудье,
Что хлеба не будет,
Работы не будет,
Не будет!
Что еще впереди?
Встают бастующие заводы,
И лозунг у них один:
«Мира! Хлеба! Свободы!»
Что еще впереди?
Кайзера имя смыто, смято.
Ему взамен встает чета
Капиталиста и демократа,
Ловкие лозунги сочетав.
Но эту хитрейшую из ловушек
Ходатаев тупика
На слове Советы взрывают
и рушат
Лазутчики «Спартака».
Решайте, саксонцы!
Баварцы, решайте!
Не в этом ли слове конец беды?
Но это же слово берет соглашатель!
Проверим, товарищи, наши ряды!
Запоем, затянем новую песню,
Новую песню на новых путях!
Старого напева не выжить, хоть тресни:
Он въелся в печенки, зудит в костях!
Нас на битву собирали,
Гнали, как стадо, со всех концов.
«Deutschland, Deutschland über alles!..»[1]1
«Deutschland, Deutschland über alles, über alles in der Welt!» – «Германия, Германия превыше всего, превыше всего на свете!» (начальные слова немецкого гимна).
[Закрыть] —
Пели глотки молодцов.
Мы на славу постарались,
Мы дрались как храбрецы.
«Deutschland, Deutschland über alles!..» —
Пели даже мертвецы.
Нам за храбрость раздавали
Кайзера дар – железный крест.
«Deutschland, Deutschland über alles!..» —
Гремел крестов железный лес.
Мы гибли в газовой потасовке,
Мы глохли, слепли, но шли вперед!
«Deutschland, Deutschland!..» – пели
винтовки,
«Über alles!..» – вторил пулемет.
Нас кромсали, как в мясорубке…
«Über alles!..» – в угоду господам.
«In der Welt!..» Ползите обрубки!
С фронта оружье тащите по домам!
Там буря расправы идет, бушуя.
Буря расправы – в наших руках!
«Deutschland, Deutschland!..» – воют
буржуи,
Души спасая в особняках.
Мы идем, чтоб добивать их,
Мы жить хотим без их помех!
«Deutschland, Deutschland!..» К черту!
Хватит!
«Über alles!» – к черту всех!
1931
Гриф
Он поднял веки. Вдалеке, над морем,
Лежал туман, скрывая горизонт.
Был ранний час, когда в неравном споре
Ночь отступает и крепчает сон.
Он глянул вниз. Под ним стеной отвесной,
Как будто враз отхвачен топором,
Летел обрыв до той черты белесой,
Где море терлось об уступ ребром.
Он вскинул плечи крыльев угловатых,
Как плечи бурки, статен и высок.
Он шею вытянул, он поднял клюв горбатый,
Ловя далекой падали душок.
В той стороне, где гор верблюжьи спины
Свой караван тянули на восток,
Он уловил ни с чем не схожий, длинный,
Рокочущий настойчивый шумок.
Он увидал, как выросли в тумане
Два явно птичьих, два прямых крыла.
Они росли, гремя в рассветной рани,
И он присел и зашипел со зла.
Ему ль, владыке неба, гор и моря,
Грозе любой пернатой мелкоты,
Ему ли крылья опускать, не споря,
Перед пришельцем новым с высоты?
И он пошел стрелой навстречу гостю.
И ветер выл, струясь вокруг него.
Он вровень стал. И, клокоча от злости,
Взглянул в упор. И он узнал того,
Кто шел внизу, скрипя арбой воловьей,
Чьи гнезда пахли поутру дымком,
Кто полз внизу, чьей душной мертвой
кровью
Он тешил клюв. И он свернулся в ком
И камнем ринулся, ловча ударить первым
Червя крылатого, но воздух бил, гремя,
Сдувал назад, и рвал, и дыбил перья.
И он отпрянул на спину плашмя.
Но боль в крыло ударила. И сразу
Оно повисло тяжестью кривой.
Он шел к земле, корявый, несуразный,
Роняя перья, книзу головой.
И он, шипя, упал на щебень лысый.
Он отступал, сдаваясь в первый раз.
Гость уходил. А в море из-за мыса
Вставал огромный круглый красный глаз.
1933
Язык
Говорить человеческим языком!
Это значит веками на брюхе, ползком
Продираться, мыча, как мычат скоты,
Сквозь тюремные заросли немоты,
Чуять солнца нагревы на отмелях плеч,
Видеть мир молодой, звероногий, рычащий,
Слушать птичью прищелкивающую речь
И уже презирать ее дикий, неумный
образчик,
И, с трудом подымая, впервой, кувырком
Выносить, открывать, разворачивать гром —
Говорить человеческим языком!
Это вырасти разом на сотню голов,
Это стать укротителем твари мычащей.
Это выйти к словам: «птицелов», «рыболов»,
«зверолов».
Это взять, как хозяйство, и реки, и горы,
и чащи.
Это выйти к толпе, тишину водворив.
Это врыться в подполье, где слово, как
взрыв,
Чтобы, мир перестраивая, как дом,
Говорить человеческим языком!
И, взывая к любимой сквозь тысячи мук,
От заумных «ау!» вырастая в двусложное
«слушай!»,
Все, что на сердце ляжет, за звуком звук,
Перегнать в речевую гортанную душу.
И затягивать песню, печалью туманя глаза,
И до самых низин обойти эту землю и
вызнать,
И запомнить, как реки поют, как яреет
гроза,
Как ревут города, – и сложить это
в повесть о жизни.
И войти в эту повесть, где каждый
параграф весом,
И не сдаться ни смерти, ни злобе поденной,
И печатной страницей открыться потом,
И в руках у потомков, еще не рожденных,
Говорить человеческим языком!
1933
Рождение портрета
Анатолию Яр – Кравченко
В последний раз он осмотрел
подрамник,
Он постучал рукой, как браковщик,
В натянутое чуть ли не до треска,
Певучее, как бубен, полотно.
И он вошел, как в облако, где вещи
В туманной влаге тонут без лица.
Он двинулся на них – и уголь свистом
Березовым запел на полотне.
Он уголь тряс, и щупал очертанья,
И щурил глаз, и подымал из тьмы
Углов, и ромбов, и кругов обломки,
И выносил, и в новый сноп вязал.
Он выжал краски плотными холмами,
Они сияли косной красотой:
Деревья, небо, камни, люди, лица, —
Характеры сырьем лежали в них.
И сразу мир заговорил, защелкал,
Заполыхал загадкой глаз, и губ,
И лба, и рук того, кто истуканом,
Захлопнув жизнь, маячил перед ним.
Расставив ноги, нюхом следопыта
Озера глаз, холмы бровей и лба,
Пустыни щек он обошел, облазил
И за мазком вытягивал мазок.
Еще, еще, пошли, перекликаясь,
Цветной ордой и вдоль и поперек,
Теряя тон, и злясь, и добывая
Чужую жизнь из-под семи замков.
Там где-то детство хлопало в ладоши,
За материнский пряталось подол,
Играло в рюхи, в отрочество лезло,
Вытягивалось, юностью горя.
Там выли страсти голосами бури,
Души и дел бежала кривизна,
Там наливались мудрости железом
Тупого лба упрямые бугры.
Он день за днем тянул все новый поиск,
И вдруг во сне вскрывал неправоту
Иных частей, бежал – и мастихином
Сдирал уже подсохший кривотолк.
И день за днем располагался хаос,
Густел, и цвел, и открывал лицо,
Летала кисть – и, наконец, последний
Пробег легчайший. И отпрянул он.
И перед ним, на все открытый створки,
Гремел квадрат. И это жизнь была.
И это все. Осталось только – подпись,
Палитры грязь, да тяжесть рук, да грусть.
1933








