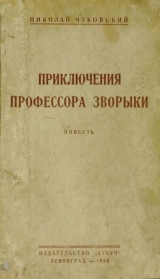
Текст книги "Приключения профессора Зворыки"
Автор книги: Николай Чуковский
Жанры:
Научная фантастика
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 9 страниц)
Глава третья. Аполлон Григорьевич Шмербиус
В санях я сидел рядом с извозчиком. Все сиденье для ездоков было занято профессором. Он держался прямо, не поворачивая головы, как гигантская тумба. На каждой пуговице его просторной пелерины болталось несколько крошечных пакетиков. В ногах стоял американский кожаный чемодан. Мороз теребил наши щеки, от лошади шел густой пар, и навстречу нам неслись улицы, разделенные пополам солнцем и тенью.
Нет, я уже больше не сомневался, я знал, кто написал эту записку. Если бы ее написал кто-нибудь другой, разве стал бы я беспокоиться? Такую записку мог написать только сумасшедший. Да кто знает, не сумасшедший ли он? Но он сумасшедший, награжденный невероятной силой воли, воловьей настойчивостью, глубоким знанием людей, неиссякаемой верой в свои сумбурные планы. Он сумасшедший, однажды чуть не отравивший, десять крупнейших городов мира ядовитыми газами. Он сумасшедший, потопивший у берегов Мадагаскара транспорт с алмазами, равными по цене трети золотого запаса Британской империи. Он сумасшедший, причинивший торговому флоту всех наций больший урон, чем эскадры английская и германская, вместе взятые, во время великой войны. Он сумасшедший, обладающий здравым смыслом, превосходящим мудрость величайших мудрецов и философов. Да, у меня есть основания опасаться его сумасшедших затей. Он не терпит малых дел, он берется за дела планетарные. И когда Аполлон, сын екатеринославского парикмахера, хочет покончить самоубийством – с ним должна погибнуть вселенная.
Но вот и вокзал. Зворыка расплачивается с извозчиком, как перышко поднимает чемодан, сует трость под-мышку и, увешанный свертками, хлюпая гигантскими калошами, бежит на перрон. Я за ним. Нас встречает курьер Академии Наук и сует профессору кучу каких-то удостоверений и бланков. Носильщик приносит нам билет. Мы садимся в вагон, третий звонок, и поезд трогается.
Мимо вагонных окон пролетают оледенелые ноля пурпурные от вечернего солнца. Леса неподвижны и мертвы. Заиндевелые березы просвечивают насквозь как кружева, а широкие лапы елей гнутся под снегом. Редко-редко поезд перескакивает на новые рельсы перед маленькими деревянными станциями, паровоз, не останавливаясь, свистит, и снова – равнины, поля, леса…
Но вот зашло солнце, в вагоне зажглись электрические лампочки, и в окне уже ничего нельзя было увидеть. Профессор просматривал какие-то бумаги, беззвучно шевеля толстыми мягкими губами. В этом купе, кроме нас двоих, никого не было. Но в соседнем раздавались голоса, вернее один голос, который говорил уже несколько часов, не умолкая. Это был въедливый мягкий тенорок, время от времени пускавший петухов, как голос четырнадцатилетнего мальчика.
– Я стал вегетарианцем, – говорил он. – Я не ем мясного. Разве обезьяны едят мясо? А человек, знаете ли, произошел от обезьяны. Да, да! Наш организм не приспособлен к такому количеству мяса. Наш бедный желудок не в состоянии с ним справиться. От этого люди так рано умирают. Хотите жить тысячу лет – ешьте овощи и фрукты. В растительной пище вполне достаточно жира. Прованское масло делают из маслин. А подсолнечное из подсолнухов. А касторовое… Вы подумайте только, сколько пользы принесла человечеству касторка!
Я взглянул на профессора. Он поднял глаза от бумаг и тоже прислушивался.
– Я презираю людей, пожирающих мясо, – продолжал голос. – Все великие люди питались одной капустой. Кислой капустой, да, да. Все, кроме Наполеона и Рихарда Вагнера. Но Наполеон умер от язвы в желудке, а Рихард Вагнер – дутая знаменитость. Я тоже обожаю капусту. Мне ненавистны жирные, заплывшие салом обжоры, уписывающие ростбифы, бифштексы, колбасы, котлеты, сосиски. Меня тошнит, когда я вижу их туши. У них нет лица: лицо у них сделалось окороком. Ожирелый мозг, ожирелое сердце!
– Позвольте, – зычно закричал вдруг профессор, – позвольте, уверяю вас, что вы ошибаетесь. Вы не знаете ни истории, ни физиологии Великий Крылов весил двенадцать пудов. Гениальный Раблэ был самый толстый человек во всей Франции! Его брюхо имело сто тридцать сантиметров в окружности. Йоркширские поросята вскормили Фарадея и Дарвина. А на растительной пище вырастают только мозглячки, франтики, фертики, тощие ничтожества, слюнтяи, пустячковые людишки.
– Ну, нет! Ошибаетесь! – закричал невидимый обитатель соседнего купе. – Толстяки сластолюбивы, прожорливы, неспособны ни на какую душевную жизнь. Когда я вижу жирного крестьянина, я говорю: он не собирает урожая. Когда я вижу жирного купца, я предчувствую – он будет банкротом. Когда я вижу жирного писателя, я говорю – бездарность. Когда я вижу жирного ученого, я знаю – это круглый невежда.
Лицо профессора покрылось багровыми пятнами.
– Щенок! Попрыгун! Бородавка! – не своим голосом закричал он. – Поджарый вертихвост! Таракан!
– Что-с? – взвизгнул его невидимый собеседник. – Как вы изволили выразиться? Да вы – плюшка, бочонок с салом, бифштекс на ножках!..
– Убью! – заревел профессор, вскочил на ноги, сжал кулаки и ринулся к соседнему купе.
Но в то же мгновение через отверстие над верхней лежанкой, соединяющее оба купе, прямо ко мне на лавку прыгнул юркий сухопарый человечек в черном сюртуке с развевающимися фалдами. Это и был тот страстный вегетарианец, который так обидел бедного профессора. В отверстии показалась красная физиономия Зворыки. Его враг был недосягаем. Пролезть в отверстие профессор не мог. Напрасно он протягивал свои гигантские руки. Юркий человечек стоял на одной ножке посреди нашего купе и самым наглым образом подмигивал профессору правым глазом.

– Блоха! – ревел профессор.
– Гиппопотам! – визжал незнакомец.
И вдруг странная идея осенила меня. Неужели это он? Не может быть! Я вскочил и взглянул незнакомцу в лицо.
– Профессор! – закричал я. – знаете ли вы, кто он такой?
– Знаю, – ответил профессор. – Жидконогий щелкопер, шустрая тля, плешивый стрекулист…
– Нет, – сказал я: – он – Аполлон Григорьевич Шмербиус.
Профессор всплеснул ручищами и с таким грохотом опустился на лавку, что задребезжали вагонные стекла.
Глава четвертая. Часы
Шмербиус был далеко не молод. Кожа на его птичьем лице пожелтела, сморщилась и обвисла. Во рту не хватало многих зубов, губы провалились и острый подбородок торчал вперед. Горбатый длинный нос свисал ниже рта. Яйцевидная лысая голова сидела на тощей жилистой шее с большим, необычайно подвижным кадыком. Огромные уши, оттопыренные, как у летучей мыши, беспрестанно шевелились. Одет он был в засаленный старомодный фрак, держался сгорбленно, и огненно-красный галстук на его впалой груди болтался беспомощно и бесприютно. Этот человек сильно поблек и состарился с тех пор, как я его видел последний раз. Одни только красные кроличьи глазки попрежнему быстро и внимательно перебегали с предмета на предмет.
Целую минуту длилось неловкое молчание. Шмербиус первый прервал его. Он взглянул на меня и улыбнулся.
– Ужасно рад вас видеть, Ипполит, – сказал он. Какими судьбами? Вы очень выросли и возмужали. Как поживает ваш отец? Куда вы едете? Неужели в Сибирь? Один?
Тут он краем глаза взглянул на профессора.
– Нет, не один. Разрешите вас познакомить. Профессор Зворыка…
Профессор, мрачно потупясь, неуклюже протянул Шмербиусу свою большую лапу.
– Ужасно рад, чрезвычайно рад, – затараторил Шмербиус. – Я знаком с вашими превосходными трудами. Правда, я не геолог, я музыкант, но всегда следил за геологией. Искусство и наука – родные братья. Меня особенно заинтересовала ваша полемика со сторонниками теории огненножидкого ядра… Я совершенно с вами согласен… Внутри Земного Шара находится твердое ядро, и вулканы связаны с океанами. Вода и огонь – родственные стихии… Простите, я вас, кажется, побеспокоил рассуждениями о вегетарианстве. Ничего, знаете ли, не поделаешь, я человек принципиальный…
– Пожалуйста… – буркнул профессор.
Он не был расположен вступать в разговор, и Шмербиус снова обратился ко мне. Фразы сыпались из него, как горох из мешка.
– Ваш отец умер? Что вы говорите! Ах, какая жалость! Он был моим другом. Какой талантливый, умный, справедливый, честный человек! Смерть, знаете ли, не разбирает. Царствие ему… Впрочем, теперь молодые люди в бога не веруют, хе-хе. Да и я, признаться, тоже. Разве передовой человек может признавать религиозные заблуждения? А куда вы едете? Что вы будете там делать? Геологические открытия, а?
Я отвечал уклончиво и довольно невнятно. Профессор стал демонстративно стлать постель на своей лавке и приготовляться ко сну. Шмербиус понял намек.
– Так устаешь за день, знаете ли, – сказал он. Пойду спать. Спокойной ночи. Мы еще успеем наговориться, путь нам предстоит не близкий. Всего хорошего, профессор. Всего хорошего, – и, фамильярно похлопав меня по плечу своими костлявыми пальцами, он убежал к себе в купе.
– Какой неприятный человек, – сказал профессор. – Я много слышал о нем, но представлял его себе гораздо величественнее и достойнее. И только подумать, что такой попрыгун держит в своих руках судьбу человечества! Фи, мерзость какая.
Следующий день прошел тихо и скучновато. Профессор был молчалив и угрюм. Он сидел на конце скамейки и писал в своей записной книжке какие-то цифры, зачеркивал и снова писал. Тревожные мысли томили его. Со мной он почти не разговаривал. Шмербиус сделал несколько попыток заговорить с ним, но неудачно. Профессор отвечал односложно, не глядя на него. Он только раз улыбнулся за весь этот день, когда вытащил из-под скамейки клетку с белыми мышами – Тарасом и Гретхен. Он бросил им сквозь прутья колбасную кожуру, свистел, хохотал, называл их причудливыми нежными именами. Но когда мыши насытились и клетка была снова поставлена под скамейку, профессор опять впал в мрачность.
Поезд бежал на восток. Часы проходили за часами. Наступил длинный зимний вечер. Профессор встал с лавки и, засунув руки в карманы брюк, неподвижной глыбой стоял у окна, затемняя все купе. Он смотрел на темные, почти уже скрытые мраком, леса и думал.
– Так продолжаться не может, – наконец проговорил он. – Мне хочется закричать на весь поезд: схватите его, закуйте его в кандалы, убейте его, это самый страшный человек во всем мире! Меня объявят буйным сумасшедшим, но разве вы не видите, что ему известно все, все, гораздо больше, чем мне! Что ему необходимо помешать! О, это страшный злодей! Он окрутил меня, он сбил меня с толку, он перехватил мои идеи. Он держит меня за нос и приговаривает: дурак ты, дурак, хоть и профессор. Все мои открытия он собирается употребить на преступление. Нет, мы должны во что бы то ни стало обезвредить его.
Поезд остановился у маленькой темной станции. Прошел проводник с фонарем и сказал, что мы простоим целых полчаса, потому что паровоз берет воду. К нам в купе вошел Шмербиус и предложил прогуляться.
– Тут, может быть, и буфет есть, – сказал он, подмигивая.
Профессор вытащил из клетки мышей и сунул их в карман пиджака. Мы оделись и вышли на обледенелую деревянную платформу. Дул пронзительный морозный ветер. Мы вошли в станционное здание.
Но здесь не было ничего, кроме бака с горячей водой. Профессор спросил у сонного почтово-телеграфного служащего, не знает ли он, где здесь можно поесть.
– Как же, – ответил тот, с удивлением рассматривая колоссальную тушу профессора: – тут за вокзалом площадь, и на той стороне – трактир.
Площадь оказалась просто большим полем. Вдали мелькали огоньки домишек. Мы шли, хлюпая по снегу и натыкаясь в темноте на большие пни, торчащие посреди площади.
– У вас есть часы, Аполлон Григорьевич? – спросил профессор.
– Нету, – ответил Шмербиус, – но времени еще очень много. Часы, должно быть, есть в трактире.
Наконец, площадь осталась позади, и мы очутились в трактире. Это была большая вонючая комната, тускло освещенная керосиновой лампочкой.
Профессор налетел на бутерброды и принялся с жадностью уписывать их. Я последовал его примеру. Но Шмербиус не прикоснулся к еде.
– Я вегетарианец, – сказал он трактирщику, – Я ваших бутербродов не ем. Мне бы винегретцу, салатцу, капусты бы кислой…
– Капусты, это можно, – сказал трактирщик. – Марья, возьми-ка тарелочку и принеси капусты.
Профессор злобно взглянул на своего врага. Потом вытащил из кармана мышей и накормил их корочками сыра. Покончив с бутербродами, профессор спросил у трактирщика:
– Который час?
Трактирщик снял со стены лампочку и открыл дверь в соседнюю комнату. Там на стене висели часы.
– Четверть восьмого.
– У нас есть еще пятнадцать минут, – проговорил Шмербиус. – Сорок раз поспеем. Нельзя ли, голубчик, мне винегрет снарядить? Свеклы нарезать, морковки, редиски, картошки вареной… потом залить прованским маслом и немного уксусу. Профессор, ведь, вы тоже будете есть винегрет?
Профессор облизнулся и вздохнул. О, от винегрета он не откажется.
– Марья!.. – закричал трактирщик.
– Позвольте, я сам схожу на кухню, – предложил Шмербиус. – Я люблю за всем сам поглядеть. Профессор, вы пальчики оближете. У меня свой способ готовить, объядение! Где у вас тут пройти? Ага, через эту комнату с часами.
Когда Шмербиус вышел, профессор наклонился ко мне через стол.
– Послушайте, Ипполит, – зашептал он. – Мы должны его оставить тут на станции. Мы на целые сутки обгоним его. Больше такой случай не представится. Пойдите в ту комнату и переведите часы на пять минут назад.
– Хорошо! – сказал я. – Что ж это не возвращается Аполлон Григорьевич? – громко сказал профессор. – Этак мы провороним наш поезд. Пойдите, Ипполит, позовите Аполлона Григорьевича.
Я встал, прошел в соседнюю комнату и закрыл за собою дверь. Было совсем темно. Я чиркнул спичкой и подошел к часам. Часы висели слишком высоко, я не мог их достать. Стульев не было, но в углу стоял большой деревянный ящик. По счастью, он оказался пуст. С величайшей осторожностью, стараясь не шуметь, я притащил его под часы, взобрался на него, открыл круглую стеклянную дверцу и передвинул большую стрелку на пять минут назад. Затем спрыгнул на пол и поставил ящик на место.

В эту секунду дверь, ведущая на кухню, отворилась, и вошел Шмербиус с печным горшком в руках.
– Аполлон Григорьевич, – закричал я, – что же вы так долго? Профессор беспокоится, хотя времени еще много.
– Чиркните спичкой, Ипполит, и посмотрите который час, – сказал Шмербиус.
Я зажег спичку.
– Ага, восемнадцать минуть восьмого, – проговорил он, посмотрев на часы. Осталось двенадцать минут. Еще уйма времени.
„Осталось не двенадцать минут, а семь“, – подумал я. – „Через две минуты нам с профессором надо бежать. Пускай он один ест свой винегрет“.
Шмербиус поставил горшок с винегретом перед профессором. Я за его спиной показал профессору семь пальцев. Тот едва заметно кивнул головой. И запустил ложку в горшок.
– Не правда ли, превосходно? – спросил Шмербиус. – Что вы так торопитесь глотать? Осталось еще больше десяти минут.
– Отлично, – ответил профессор. – Вот бы селедочки сюда. Это вы торопитесь, Аполлон Григорьевич, а не я. Вы уже двенадцать ложек пропустили, а я только пятую дожевываю.
С этими словами профессор встал и, подмигнув мне, подошел к двери.
Шмербиус тоже вскочил.
– Куда вы? – закричал он.
– Я себе щеку отморозил, хочу снегом натереть. Лучшее средство. И сейчас же вернусь.
– Я вам сейчас снегу принесу. Не выходите, вы простудитесь. Натирать отмороженное место надо в тепле. Времени еще уйма.
Они оба застряли в дверях и не могли пройти ни назад, ни вперед.
– Я сейчас вернусь, – бормотал профессор.
– Я только на минутку, – шептал Шмербиус.
Ему приходилось несладко, потому что профессор всей своей тушей придавил его к дверному косяку.
– Пропустите! – ревел профессор.
– Позвольте пройти! – визжал Шмербиус.
Они оба одновременно выскочили за дверь и кубарем покатились по ступенькам прямо в снег. Я вслед за ними выбежал из трактира.
В эту минуту раздался резкий паровозный свисток, поезд тронулся, и между сосен замигали его освещенные окна.
Мы все трое долго молчали. Наконец Шмербиус взвизгнул и захохотал.
– Я понял! – завизжал он, – хи-хи-хи, я понял! Вы проделали со мной то же, что я с вами.
– В чем дело? – вскричал профессор, – Ведь, не мог же поезд уйти за целых пять минут до срока? Это ваши плутни, Шмербиус.
– И ваши тоже. Наши общие плутни. Браво, профессор, вы проделали тот же трюк, что и я. Это большая честь – сравняться в ловкости с Аполлоном Шмербиусом. Вы мне конгениальны, профессор. Я тоже перевел часы на пять минут назад.
Профессор задумался.
– Значит, часы были переведены на десять, а не на пять минут, – наконец сказал он.
– Да, профессор, эти часы отстают на десять минут, и поезд ушел во-время.
Глава пятая. Человек и зверь
Итак, мы обречены целые сутки провести на этой маленькой станции!
Профессор послал телеграмму в Вятку, чтобы задержали наш багаж и, запахнувшись своей пелериной, сел на скамейку в зале третьего класса возле бочки с кипяченой водой. Он был мрачен и убийственно молчалив.
Шмербиус, напротив, болтал без умолку. Он все чему-то прихихикивал, беспрестанно потирал руки и ни минуты не сидел на месте. Во всех его разговорах просвечивало желание задеть профессора, хотя, впрочем, любезен он был чрезвычайно. Я теперь не припомню всего, что он говорил, но говорил он много, перескакивая с темы на тему. Под шум его речи я задремал. Разбудил меня далекий гул.
– Поезд, – сказал профессор.
Шмербиус замолчал и прислушался, шевеля, словно собака, большими ушами.
– Поезд! – сказал он.
– Ипполит, за мной! – вскричал профессор, и мы втроем выбежали на платформу.
Платформа была темна и пустынна. На семафоре горел зеленый огонь – значит, поезд здесь не остановится. Три огня, сиявшие впереди паровоза, казалось, не двигались с места. Но вот, наконец, паровоз подошел к платформе и медленно прошел мимо нас в красноватом облаке искр. За ним, громыхая и подпрыгивая на ходу, потянулась бесконечная вереница товарных вагонов.
Профессор стоял на краю платформы и пробовал открыть дверь каждого проходившего мимо вагона. Поезд шел настолько медленно, что мы надеялись вскочить на ходу. Но все двери были заперты на замок. Из вагона доносились какие-то странные протяжные звуки, похожие на завывание труб. Этот поезд никогда не кончится. Вот тридцать, сорок, пятьдесят вагонов.
Но вдруг одна дверь неожиданно для самого профессора поддалась. Он пробежал несколько шагов, не отставая от двери, отодвинул ее до конца и грохнулся животом на пол вагона. Его толстые ноги, болтались в воздухе.
Шмербиус, с разбега, как перышко, вскочил на спину профессора и, топча его сапогами, преспокойно вошел вглубь вагона. Профессор поджал под себя ноги, встал и замахал мне рукой.
Я изо всех сил старался не отставать от открытой двери. Но вскочить мне удалось только на самом конце платформы.
Профессор задвинул дверь. В вагоне было темно, как в гробу, и пахло кислой навозной вонью. Несколько минут ничего не было слышно, кроме грузного профессорского дыхания. Шмербиус заговорил первый.
– Прошу великодушно простить меня, – сказал он профессору. – Я немножко помял вас своими сапогами. Это, конечно, непоправимая неучтивость с моей стороны. Но, право, уважаемый профессор, я нисколько не сомневался, что, едва вы встанете на ноги, вы закроете дверь и оставите меня на этой подлой станции поджидать завтрашнего поезда.
– Вы довольно догадливы, – буркнул профессор и снова водворилось молчание.
Вдруг рядом с нами раздалось два сильных удара в пол, будто какой-то великан переступил с ноги на ногу, и затем над самым нашим ухом прозвучал длинный, громкий, томительный вой. Он начался низко, с басом и постепенно повышался.
– Не бойтесь, – сказал профессор. – Это коровы, самые обыкновенные – коровы.
Действительно, при слабом свете спички мы увидели спины четырех больших коров. Их опущенные в ясли головы были привязаны за рога к передней стенке вагона. Мы попали в поезд, груженный скотом. Вагон, очевидно, предназначался для восьми коров, потому что у задней стенки тоже были устроены ясли, полные сена. Целая половина вагона оставалась в нашем распоряжении.
Мы очень устали и хотели спать. Профессор разостлал на полу сено и разлегся. Я прикурнул подле него. Шмербиус забрался в ясли над нами и удобнейшим образом устроился там. Коровы переступали с ноги на ногу, где-то в соседних вагонах мирно мычали быки, поезд покачивался и шумел. Я придышался к вони и уснул.
Через два часа меня разбудил громкий стук. Я приподнялся на локте. У меня и рот и нос были забиты пылью, а в волосах торчала солома. Отчего так беспокоятся коровы, отчего они так рвутся, так стучат рогами в стену, так тревожно мычат? И что это за вой, такой протяжный, нудный и страшный, отвечает им снаружи?
Потянуло свежим морозным воздухом. Я поднял голову и увидел в потолке, прямо над собою, небольшое квадратное окошко. Очевидно, через это отверстие проходила когда-то труба отапливавшей вагон печурки. Но печурка была снята, а отверстие осталось. Через него я мог видеть кусок чуть светлеющего звездного неба. В этом окошке, свесив тощие ноги в вагон и наклонив лицо, сидел Шмербиус. Темнота не позволяла мне разглядеть его глаз, но мне казалось, что он смотрит на меня и улыбается.
Я толкнул профессора в бок. Он замычал, открыл глаза и сразу все понял.
– Куда вы, Аполлон Григорьевич? – закричал он.
– Воздухом чистым подышать-с, – ответил тот. – В вагоне вонища невыносимая. Не спится, знаете ли…
– Слезайте сию же минуту, – закричал профессор. – Все равно не зайдете! Я вас от себя не отпущу ни на шаг.
– Ну, уж и ни на шаг, – спокойно сказал Шмербиус. – Это кого-с ни на шаг? Меня-то? Ну, что вы нервничаете, профессор? Как бы вас кондрашка не хлопнул. При вашей толщине это очень просто. – Он наглейшим образом заболтал ногами над нашими лицами. – А, впрочем, прощайте. Или, вернее, до скорого свиданья. На том свете. Тридцатого апреля, знаете ли… Так у нас положено. Ну, всего самого наилучшего. Мне пора.
Он вскочил на ноги, и мы услышали его шаги по крыше вагона.
– Дьявол! – заревел профессор, вскочил на ясли, ухватился руками за края окошка и стал протискивать в него свое огромное тело. Это ему долго не удавалось, но в конце концов он, приподняв одно плечо и опустив другое, вышел-таки на крышу.
Я поспешил за ним, но когда мне удалось вылезть, он уже был на следующем вагоне. Шмербиус сильно опередил его и, с удивительной ловкостью перескакивая с крыши на крышу, быстро шагал к паровозу. Профессор, грузный и неуклюжий, с ожесточением гнался за ним.
Крыши вагонов не приспособлены для ночных прогулок, особенно, если поезд при этом движется. С замирающим сердцем пробирался я по этой опасной дороге. Воздух и темнота были моей единственной опорой. Дойдя до покатого и обледенелого края вагона, я перепрыгивал на край другого вагона, такой же шаткий, покатый и скользкий.
Не доходя двадцати вагонов до паровоза. Шмербиус вдруг остановился. Он, казалось, поджидал нас, но не оборачивался, а смотрел вперед на зарю, охватившую полнеба.
Я догнал профессора.
– Профессор, – спросил я, – что это за странный вой, от которого гремит весь лес?
– Это волки преследуют поезд, ответил он.
Действительно, взглянув вниз, я увидел на снегу какие-то быстрые серые тени. Они неслись наравне с поездом и равномерно, как заведенные, бросались на вагоны. Но поезд лениво отряхивал их в снег. Быки встревоженно и нестройно мычали в ответ.
Шмербиус дал нам подойти на расстояние одной крыши и затем неожиданно скользнул вниз на буфера. Добежав до конца вагона, мы остолбенели.
Скрепы, соединяющие этот вагон со следующим, были сняты. Передняя часть поезда быстро забегала от нас. Шмербиус стоял на буфере последнего из уходящих вагонов и что-то кричал, кривляясь, приплясывая и размахивая руками.
Та часть поезда, на которой находились мы, минуты три катилась еще по инерции и остановилась.
– Ч-чорт! – завопил профессор. – Он опередил нас, плешивый шут, свистопляс негодный. Я размозжу ему череп, я превращу его в блин! О, если бы только я мог поймать его!..
Но Шмербиус уже скрылся из виду, и угрозы профессора были напрасны.
Сорок товарных вагонов, груженных живым скотом, стояли на снежной лесной поляне. При тусклом свете зимней зари мы видели широкий круг сосен, обступивших поляну со всех сторон, да белую железнодорожную насыпь. Хоть бы сарай какой-нибудь, хоть бы дымок над лесом, хоть бы след на снегу! Ничего! Только снег да высокие сосны.
Волки, потеряв надежду добраться до запертых быков, столпились вокруг вагона, на котором стояли мы, не сводя с нас желтых глаз, и тяжело, по-собачьи, дышали, свесив на сторону красные языки. Как их много! А из леса выходят все новые волки, по двое, по трое… Они сначала останавливаются у опушки, опасливо втягивают воздух и затем с тихим ворчанием подходят к вагону. То тот, то другой пробует допрыгнуть до нас, но, на целый аршин не доскочив до крыши, падает, назад, в снег.
Было холодно, и мы, съежившись, побрели по крышам к своему вагону. Волки не оставили от нас ни на шаг. Теперь итти было много легче, потому что поезд стоял.
Но вот и наш вагон! Отверстие в крыше открыто попрежнему. Профессор глянул в него и с криком ужаса отскочил прочь.
Дверь вагона была полуотворена. Мы ли забыли ее плотно затворить, она ли отворилась при остановке – не знаю. Но только теперь вагон был полон скрежетом и чавканием. Коровы мычали тонким, пронзительным, безнадежным, совсем не коровьим мычанием. Волки хозяйничали почти молча, лишь изредка повизгивая, и мы ясно слышали, как стучали их когти по деревянному полу вагона. В полутьме ничего нельзя было разглядеть, кроме копошащейся серой массы. Мы с беспомощной жалостью ждали, когда, наконец, кончится этот отвратительный пир.
Но вдруг молодому бычку удалось каким-то образом освободить свои рога. Мы увидели, как круто изогнулась его белая спина. Он отряхнул облепивших его волков и выскочил в дверь. Это был крепкий бычек с широко расставленными передними ногами, с сильной, крутой грудью. Шея его была так крепка и толста, что широкой дугой выдавалась вперед. Был он весь белый, и только левый бок и короткую морду покрывали черные пятна, будто он вымазался в чем-то.
Он широким кругом понесся по поляне. Бежал он еще совсем по-телячьи, высоко подбрасывая задом. Волки всей завывающей стаей бросились ему наперерез. Вот они обступили его. Вот они широким полукругом медленно подходят к нему. Он ждет секунду, две, три. Наши сердца замирают. Но вот он бросается на них, как вихрь, низко опустив голову, давит их своей тридцатипудовой тяжестью, насаживает на широко расставленные короткие рога. Они перекатываются через его спину и с визгом падают в снег. Но он один, а их много. Поляна сера от их поджарых ободранных тел. Они набрасываются на него со всех сторон, вонзаются в его бока зубами, жмут его, тискают. Он носится по поляне, как таран, рвет их рогами, давит копытами, но они путаются у него под ногами, они кусают его, хватают за ноги, и он обливается кровью. Вот пять или шесть здоровенных волков зараз вскочило ему на спину. Он упал.
– А-ах! – закричал профессор.
Еще секунду мы видели его грустные покорные глаза, слышали его жалобный, прерывистый рев, но затем все это сменилось неистовой суматохой, голодным завыванием, беспорядочной свалкой. Волки всем скопом насели на бедного бычка и заслонили его от нас. Только минут через двадцать они стали расходиться, облизывая свои окровавленные морды. И мы увидели на розовом от крови снегу белый скелет – все, что осталось от несчастного бычка, поистине героически отстаивавшего свою жизнь.
Число волков увеличивалось с каждой минутой. Задние ряды уже не могли подойти к поезду. Теперь снова все их внимание было устремлено на нас. Они, ни минуты не останавливаясь, с точностью машины, прыгали вверх, но, не допрыгнув, падали. Мы скоро привыкли к этому неумолкающему шуму падающих тел. Снег вокруг вагона был утрамбован их тяжестью.
Мороз был сильный, он обжигал нам щеки. Стоять на месте было невозможно, и мы с профессором затеяли беготню по всем крышам. Волки бросались за нами, оскалив пасти и наскакивая друг на друга. Только бы не упасть! Там внизу стережет мгновенная подлая смерть.
Но и бегать нельзя до бесконечности. Мы устали и сели рядом, тесно прижавшись друг к другу. Широкая профессорская пелерина закрывала нас обоих. Профессор нежно гладил меня по спине своей колоссальной ручищей. А кругом раздавался однообразный стук, похожий на шум мячей, шлепающих в стену. Это прыгали и падали волки.
Мороз подкрадывался незаметно. Сначала у меня окоченели ноги. Потом так замерзла левая рука, что я не мог двинуть ни одним пальцем. В щеки, казалось, были вставлены сотни ледяных иголок. Профессор страдал меньше меня. Толщина и полнокровие спасали его. Но и на его щеках сияли подозрительные синие пятна. Если не подоспеет какой-нибудь поезд, нам предстоит либо замерзнуть, либо стать добычею голодных волков.
И вдруг окружавший нас шум умолк. Волки перестали прыгать и даже вой прекратился. Они к чему-то прислушивались, подняв морды и насторожив уши.
Далеко в лесу раздался долгий, тягучий рев. Он медленно приближался, становясь громче и отчетливей, и, когда, наконец, рев этот зазвучал совсем близко, волки, вытянув шеи, стали отвечать взволнованным и призывным воем.
И вот, из леса вышел волк необычайной величины. Мускулы под его шкурой переливались при каждом шаге. Одно ухо его было изорвано и болталось как собачье. От затылка до самого хвоста через всю спину шла полоса седых волос – белая и ровная. Он степенно, не торопясь, шел прямо к вагону, покачивая на ходу мордой и ни на кого не глядя. Вся стая испуганно расступилась перед ним.
– Вожак! – сказал профессор.
Подойдя к вагону, он посмотрел профессору в лицо и вдруг прыгнул. Это был необычайный прыжок. Кончик влажного волчьего носа показался над краем крыши, блеснул желтый глаз, и он упал. Но это только подзадорило его. Прижав здоровое ухо к голове, он изогнулся, напрягся и прыгнул второй раз. Теперь ему удалось зацепиться на крыше передними лапами, и он пытался подтянуть к ним все туловище. Когти задних лап отчаянно скребли по стенке вагона. Но профессор размахнулся правой ногой и со всей силы ударил сапогом по оскаленной волчьей морде, как футболист по футбольному мячу. Волк дважды перевернулся в воздухе и упал на спину посреди завывающей стаи.
Но он сейчас же вскочил. Шерсть на его толстом узловатом затылке поднялась дыбом. Казалось, все его тело было упругой стальной пружиной. Он сначала весь съежился, затем выпрямился и взлетел, как вихрь. Описав огромную дугу в воздухе, он шлепнулся на крышу и сейчас же ринулся на профессора. Профессор обеими руками обхватил толстую шею зверя. Волк передними лапами уперся в его плечи и горячей оскаленной мордой дышал ему прямо в лицо. И они закружились по крыше.








