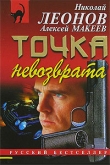Текст книги "Неслабое звено"
Автор книги: Николай Леонов
Соавторы: Алексей Макеев
Жанр:
Полицейские детективы
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 14 страниц) [доступный отрывок для чтения: 6 страниц]
Николай ЛЕОНОВ, Алексей МАКЕЕВ
Неслабое звено
Пролог
Старший оперуполномоченный Главного управления уголовного розыска МВД РФ полковник Лев Иванович Гуров стоял у окна своей квартиры и тихонько барабанил пальцами по стеклу, насвистывая при этом что-то из репертуара «Deep Purple». Фальшивил чуточку, но для себя – не страшно. Строгий музыкальный критик – его жена, Мария Строева – возилась на кухне над очередным кулинарным шедевром и потому музицирование мужа слышать не могла. А значит, и осудить не могла тоже.
Мария была популярной, можно даже сказать, очень известной, актрисой одного из московских театров. Когда у мужа и жены такие профессии, как в этой семье, супруги не так уж часто бывают вместе дома. Оба они – и Мария, и Лев – очень ценили эти часы. Далеко не каждый воскресный полдень Гуров проводил дома, но вот сегодня повезло.
Дело, которым он занимался сейчас, не требовало – пока не требовало! – двухсуточного сидения в засаде, лихих погонь и перестрелок – словом, ничего «романтического». Такая романтика в его нелегкой службе случалась, и чаще, чем хотелось бы, но полковник Гуров ее откровенно недолюбливал, считая брачком в работе. Если у сыщика мозги не куриные, он и не паля направо – налево, не тратя казенные патроны, которые, заметим, денег стоят, добьется результата. Лев Иванович, как правило, добивался.
Конечно, мысли о деле, которое сейчас ведешь, по заказу не выключишь – попробуйте «не думать о белой обезьяне». Но был у Гурова свой фирменный прием, виртуозно освоенный им за тридцать лет оперативной работы: он умел волевым усилием загонять такие мысли в подсознание – пусть отлежатся. А значит, можно спокойно постоять у окошка, подумать о чем-нибудь приятном. Например, о том, что до Нового года – самого любимого их с Марией праздника – осталось чуть больше двух недель.
За окошком шел легкий декабрьский снежок. Зима окончательно вступила в свои права, завершилась наконец-то столь нелюбимая Львом слякотная гнилая пора поздней московской осени. Зима лучше: она честнее, определеннее. Молодой чистый снег, еще не успевший нахватать автомобильной грязи и копоти, скрыл выбоины асфальта, мерзлую опавшую листву, подернутые тонким ледком лужи. Чисто и опрятно, как будто в городе провели генеральную уборку.
В прихожей мелодично мяукнул звонок, и Гуров пошел открывать, заранее радуясь человеку, стоящему сейчас за входной дверью. Около полутора часов назад ему, предупреждая о визите, позвонил «друг и соратник» – Станислав Васильевич Крячко, Стасик, он, как и Гуров, – старший оперуполномоченный и полковник, к тому же на текущий момент гуровский заместитель.
Левое плечо Станислава, с помощью Гурова стаскивавшего модную японскую куртку, было перекошено и значительно толще правого. Оно понятно – гипс, знаете ли… Около месяца тому назад пуля, выпущенная одной сволочью, перебила ему ключицу. Сволочи повезло меньше: после прицельного выстрела из гуровского «Штайра» ей уже никогда не понадобятся услуги медиков. Гуров и Крячко не в первый раз вместе побывали под пулями бандитов, а это очень способствует крепкой мужской дружбе.
Из спецгоспиталя МВД РФ Станислава выписали три дня назад. Именно это он захотел отметить с Гуровым и Марией, людьми, ближе которых у него, пожалуй, никого и не было. Вот только даже заикаться о немедленном возвращении в любимый, до пятнышка на линолеуме знакомый служебный кабинет, который Крячко делил с Гуровым, медики ему запретили по крайней мере до Рождества.
– Стасик! – Мария, выбежавшая на звонок из кухни, радостно чмокнула Крячко в щеку. – Какой ты молодец, что выбрался к нам! Ой, розы какие красивые! Вот спасибо-то!
– Что красота цветов пред красотой прекрасной панны! – продекламировал Крячко, приобнимая ее здоровой рукой за плечи.
Станислав, больше в шутку, конечно, гордился своим польско-литовским происхождением от боковой линии то ли Потоцких, то ли Вишневецких, что было хорошо известно в управлении и служило поводом к дружеским подначкам.
– Мальчики, проходите в комнату. А я… Десять минут еще, и все готово. Ты бы, Стасик, чуть пораньше предупредил, что ли! Еле успела… Лев, организуй там тарелки, рюмки фужеры и прочие причиндалы. Стасика не эксплуатируй, у него ручка болит, у бедненького!
Ждать пришлось не десять минут, а все полчаса – надо же женщине дать время и переодеться! Пролетели они незаметно: друзьям было о чем поговорить, а бывало и о чем помолчать, что есть самый верный признак настоящей дружбы.
В конце этого получаса Гуров пристально поглядел на «друга и соратника», хитро улыбнулся и спросил:
– Пан Крячко, скажите мне, как оперативник оперативнику: вы рисовать умеете? Что вы говорите… Я тоже. А как ты вообще относишься к живописи?
* * *
Николай Иванович Воробьев плотно задернул тяжелые шторы на двух окошках длинной, похожей на пенал комнаты, которую он громко называл своей «студией». Комнату эту он снимал в коммуналке на Маросейке вот уже более пяти лет. Конечно, назвать ее настоящей художественной студией язык не поворачивался: ни света толком нет, ни простора, кухня черт-те где – через длиннющий коридор, а мало ли зачем живописцу может вдруг понадобится вода? Отопление дохленькое, вот сейчас и морозов настоящих еще не было, а руки уже мерзнут! А как живописцу работать, как творить, если у него мерзнут руки?!
Зато близко от дома, он пешком за пятнадцать минут доходит, и плата по нынешним временам символическая. А так… Николай Иванович горестно покачал крупной головой с остриженными «в кружок» густыми седыми волосами. «Студия»… Ясное дело – не то что у Ромки Мурзлина или там Доржанского, инородцев этих, космополитов, прости, господи! Им-то все на блюдечке с голубой каемочкой: и заказы как из рога изобилия, и выставки персональные. Его же, Воробьева (с самим собой чего лукавить да скромничать – единственного настоящего русского художника Москвы, а то и всей России) затирают, перекрывают кислород!
Николай Иванович включил электричество: он не любил писать при естественном освещении, считая эту нелюбовь особенностью своей творческой манеры. Да и какое, к шуту, может быть естественное от двух окошек в конце декабря? Все было готово к работе: кисти, краски, мастихин, шпатели… Но какое же из трех полотен, над которыми он трудится сейчас, выбрать? Конечно, не «Гладиолусы в хрустальной вазе». Холодный натюрморт, к тому же заказной… Этому, Набокову. Чучмеку. Успеется. Не настолько он нуждается в деньгах. Сейчас уже совсем не нуждается. И не «Сгоревший храм». Просто не то настроение.
Настроение было желчным, горьким. Жалкий вид «студии» снова и снова возвращал его к тысячу раз передуманным мыслям о завистниках, халтурщиках, бездарных конъюнктурных мазилах, расплодившихся на трупе русской национальной живописи подобно отвратительным гробовым червям и вконец изгадивших, уронивших в грязь звание Художника. Они-то?! Это он, Воробьев – Художник!
Настоящий творец любое движение души, любой эмоциональный настрой – все пускает в дело. Кстати, и сам при этом освобождается от сердечной тяжести. Значит, что же? Значит, поработаем над «Самками с потомством»…
Николай Иванович повернул лицевой стороной к себе небольшой – метр на полтора – холст, тщательно подрегулировал, подправил свет, падающий от двух мощных, со специальными рассеивателями ламп. Затем шага на два отошел от недописанной картины и, склонив голову чуть набок, стал внимательно вглядываться в свою работу – что же у него уже получилось?
…На холсте был детально прописанный кусок речного или, может быть, морского берега, пляж. Солнце в зените – видно, что жарко и душно. Лето, июль – август. Много серого, тусклого цвета. Желтовато-серый пыльный песок, подступающая к урезу берега явно нечистая, сероватого оттенка вода. Выжженное летнее белесое небо, чахлые серо-зеленые кустики, разбросанные по пространству пляжа. А под кустиками, между ними, в тени сереньких же кабинок для переодевания, около воды и в воде – люди.
Слюняво-сопливые, непрерывно визжащие детеныши с мерзкой розовой, обгоревшей на солнце кожей. Рядом толстожопые бабуси и мамаши этих недожертв аборта. У мамаш потные ляжки и подмышки, а на рожах – лиц у них нет! – выражение спесивой тупости. Мужчин на картине не видно. Но главное – этот режущий уши поросячий визг ублюдков, неважно, чем вызванный – радостью, испугом, возмущением… Удалось ведь! Слышен он из глубины холста, еще как слышен!
Николай Иванович довольно усмехнулся. Нет, правда получается! Именно то, к чему он стремился в этой работе. Человек по природе своей омерзителен – и внешне, и внутренне. Но его детеныши… Трудно вообразить себе что-либо гаже! Возьмите для сравнения котенка, щенка, жеребенка, да хоть бы крысенка в конце концов. Какую угодно зверушку. Уже через несколько минут после рождения, стоит матери облизать его, сколько мы видим неподдельного очарования у этих божьих созданий, даже слепых еще и глухих.
Он упорно, сосредоточенно работал до позднего вечера. Но вот за тоненькой стеной, в соседней комнате коммуналки, у отставника Потапова раздались характерные звуки телевизионной заставки «Вести-плюс». Одиннадцать – пора домой.
Нет, не совсем. Он еще не выполнил добровольно принятый на себя обет: каждый день дописывать по десять новых строк в свою поэму «Русь – тонущий корабль». Тем более такая хорошая рифма за работой над холстом в голову пришла: «Русь – гусь»… Главное, свежая! Он – это он. Не Мурзлин какой-нибудь безродный. Как настоящий творец и верный сын своего народа, Николай Иванович будет бороться с нечистью не только своей кистью, но и пером. Уже почти две тысячи строк, разве это мало?!
Воробьев бережно достал из покосившейся тумбочки орехового дерева ученическую общую тетрадь – еще тех, советских лет, выпуска. Без гадких рисунков на обложке. Открыл ее и одним духом дописал сегодняшнюю порцию своим четким, разборчивым почерком. Вот теперь – все.
Выйдя на улицу, Николай Иванович тщательно поправил под седой, коротко стриженой окладистой бородой теплый шарф. Шапку он не носил никогда, даже в жестокие морозы, но горло берег. Не каждому дан от природы такой глубокий, с бархатными обертонами бас. А возраст есть возраст, пятьдесят восьмой пошел, не грех и поберечься. Пусть мальчишки вроде Доржанского гусарят да богемничают. Он, Воробьев, нужен своему страдающему Отечеству!
…Уже совсем перед самым домом как бы соткалась перед его мысленным взором из белых струек поземки несказанной гнусности рожа. И не в первый ведь раз за последнее время – слишком много он работает, слишком много нервничает! Рожи-то разные, но сегодня… Особенно противно было сходство поганой хари с Ильюшей Сукалевым.
– Бездарь ты, Коля! – пакостно ухмыльнулась вражеская рожа. – Фарисей, лицемер и мерзавец каких поискать! Вот полюбуйся на меня. Что, не хочешь? Отворачиваешься? Не вы-ы-ыйдет! Вот тебе еще рифмочка на разживу: «гусь – обсерусь». Нравится?
ГЛАВА 1
Вопрос о живописи «друга и соратника» слегка озадачил; правда, ненадолго. В глазах Станислава вспыхнули хорошо знакомые Гурову озорные искорки:
– Безумно люблю живопись! Просто тащусь от нее, как судак по асфальту. Особенно от всемирно известной картины Репина «Приплыли!»
– Нет у Ильи Ефимовича такой картины, – подала реплику Мария, как раз входящая в комнату с большим подносом.
– А то он не знает! Что, ты с Крячко первый день знакома, что ли, – рассмеялся Гуров, – его же хлебом не корми – дай похохмить!
Было такое дело. В частности, и за эту особенность характера, за веселый нрав, любовь к розыгрышам, дружеским шуткам и беззлобным подначкам Станислава так любили в управлении.
– Мальчики, я вас прошу – о работе вашей ни слова! Даром я, что ли, – Мария комично-патетическим, преувеличенно «актерским» жестом воздела руки к потолку, – биточки по-венгерски готовила и салат твой любимый, а, Стасик?
– «Дары осени»? М-рр-р! – довольно проворчал гость. – Лева, а знаменитой настойки на горном чабреце не осталось?
– Как не осталось, когда Бутягин намедни банку трехлитровую прислал с оказией! Сейчас Маша принесет графинчик, – улыбнулся Лев. – И велено от него передать нижайший поклон героическому Василичу с пожеланием скорейшего выздоровления!
– Чудный старик, – растроганно заметил Станислав, вспоминая события прошлого месяца.
– Он, когда мы со Львом провожали его, – Мария выставила на стол хрустальный графин с изумрудно-зеленой жидкостью, – знаешь, что сказал? «Чтобы наступающий год, – говорит, – был для нас всех счастливым, а для бандитов – последним!»
– Вот за это и выпить не грех, – весело расхохотался Крячко.
…Через три часа сытые, довольные и в благодушнейшем настроении, сыщики сидели друг напротив друга в уютных креслах у низенького журнального столика. Мария, извинившись, покинула их общество с четверть часа назад: ей надо было немного отдохнуть и побыть одной, чтобы настроиться на сегодняшний вечерний спектакль – она играла в нем главную роль. Станислав вытащил из кармана пачку сигарет, раскрыл ее и протянул Гурову. Тот, секунду поколебавшись, отрицательно покачал головой.
У каждого из нас есть свои маленькие безобидные «пунктики». Гуров курил редко, обычно – когда сильно волновался, радовался или огорчался, хоть в благотворную способность никотина «нервы успокаивать» не верил ни на грош. В отличие, кстати, от Крячко, свято в этой ереси уверенного. Самое же любопытное, что Лев, отличающийся профессионально цепкой и прекрасно тренированной памятью, постоянно забывал купить и положить в карман «дежурную» пачку любимого Camel и, когда припирало, стрелял сигареты у безотказного Станислава, нарываясь на его ехидные комментарии. Тянулось это так давно, что превратилось у друзей в своего рода обычай, шуточную традицию.
– Ну а теперь, – медленно произнес «друг и соратник», закуривая свою сигарету, – давай, колись. Что это ты моими художественными познаниями озаботился?
– Если бы просто художественными, – вздохнул Гуров, – а то похлеще: меня, понимаешь ли, иконопись интересует!
– С точки зрения нашей с тобой любимой профессии? Что ты на старости лет в монастырь надумал податься и готовишься таким манером, я все едино не поверю!
– Правильно сделаешь. Все проще. Сижу я в нашем с тобой кабинете пять дней назад, скучаю в одиночестве и занимаюсь мелкой рутиной. Подчищаю документальные хвостики по славоярскому дельцу, параллельно готовлю лекцию из курса «Тактика оперативной работы» – заставляют с молодежью опытом делиться, хотя, ей-богу, не рановато ли меня в теоретики записывать? Но это к слову. Итак, скучаю. Но тут раздается робкий стук в дверь, и в кабинет заходит Петр Николаевич Орлов.
– Робкий, говоришь? – широко улыбнулся Крячко. – Да уж, он у господина генерала робкий, как поцелуй гимназистки… Равно как и он сам – просто мимоза натуральная! Но намек я понял – Петр в нашу нору просто так не заглядывает.
– Именно. И при взгляде на смущенную физиономию начальства меня начинают охватывать…
– Всякие скверные предчувствия, – закончил фразу Станислав.
– Во-во. Где ты только ума набрался. И, что интересно, Петр немедленно начинает их оправдывать.
Петром они называли Петра Николаевича Орлова, генерал-лейтенанта МВД РФ, своего непосредственного начальника и близкого друга. В глаза и тот, и другой тоже обращались к генералу «на ты»: конечно, без посторонних – при третьих лицах субординация чтилась свято. Никакой фамильярностью тут не пахло, напротив – чувствовалось самое неподдельное уважение прекрасных сыскарей к своему брату оперативнику, неважно, что в генеральских погонах. Просто эти трое людей так давно, так хорошо знали друг друга, настолько друг другу верили, такого варева вместе нахлебались досыта, что соблюдать тонкости служебного этикета показалось бы им попросту глупым.
Орлов был из тех крепких профессионалов, которые прошли систему с самой, как принято говорить в милиции, «земли» до верхних эшелонов. Именно такие на всех своих постах, на всех должностях тянули тяжелый воз, не давали ему скатиться на обочину. В душе он остался сыщиком, и мышление у него было, по словам Станислава Крячко, не административное, а оперативное.
И при этом в нем начисто отсутствовала ревнивая зависть убеленного сединами ветерана к молодым, а тем более снисходительное к ним отношение. Нет! Только желание что-то подсказать, где-то подправить, подстраховать… Но умел Орлов это свое желание вовремя подавить для пользы дела, довериться уму и опыту своих гвардейцев. И ведь не ошибался!
И Гурова, и Крячко Петр Николаевич не только числил в друзьях, но и считал своей лейб-гвардией, преторианцами. Не без оснований. Такая высокая оценка имела ту оборотную сторону, что дела Станиславу и Льву доставались в работу штучные, особенные; на рутинные хватало – хоть не всегда, ох, не всегда – других сотрудников: старательных, толковых, грамотных, но без той печати редкостного таланта, который и позволяет людям достичь в своем деле вершин. В управлении такая «особость», элитность тандема Лев Гуров – Станислав Крячко ни для кого секретом не была, но зависти не вызывала. Во-первых – чему завидовать? Тому, что самая головоломная работа, самые сложные, часто опасные оперативные заморочки неизменно сваливаются на головы двух друзей? Так далеко не всем такая «барская милость» по вкусу! А во-вторых, была у Гурова излюбленная присказка для тех редких случаев, когда начинал Лев чувствовать непонимание их «привилегированного положения» со стороны некоторых молодых оперов: «Не разбегайся, прыгай!» Прояви, дружок, себя в деле, покажи себя асом сыскной работы – и будут тебе наши со Станиславом «привилегии» по полной программе.
– Значит, говоришь, Верочку озадачивать ее непосредственной работой не стал, а лично, – Крячко сделал подчеркивающий последнее слово плавный жест здоровой рукой, – в наш с тобой уютный уголок? Ну-ну…
Верочкой звали очаровательную секретаршу Петра Николаевича, немного и чисто платонически во Льва влюбленную. А несколько нестандартная реакция друзей на вроде бы самую банальнейшую вещь – зашел начальник к подчиненному в кабинет – объяснялась просто. Когда люди так долго работают вместе, да при этом еще прекрасно друг к другу относятся, у них вырабатывается что-то вроде «телепатического контакта». Никакой мистики здесь нет, а есть сложившиеся ритуалы встреч, приветствий, прощаний, тех или иных специфических словечек – словом, тончайшая сеть общения, узелки которой сознательно уже не ощущаются. Плюс также подсознательно воспринимаемые и анализируемые оттенки голоса, походки, жестов… да хоть бы дыхания! Что-то подобное можно видеть у немолодых, сжившихся и счастливых супружеских пар. Да если еще перемножить это на профессиональную цепкую наблюдательность… Ясно, что можно хоть в цирке с психологическими этюдами в стиле Вольфа Мессинга выступать, если, как иногда говаривал в раздражении Петр Николаевич Орлов, «нас всех троих из органов попрут. За тупость и профнепригодность!»
И так уж сложилось, что если пообщаться со своими гвардейцами генерал Орлов собирался по поводу достаточно обычному – скажем, обсудить текучку, рабочие моменты дела, то вызывала Гурова, Крячко или обоих сразу к Петру в кабинет та самая очаровательная Верочка по «внутряшке». Если же повод был не совсем обычный, чаще всего малоприятный и связанный с заморочками, генерал звонил друзьям самостоятельно. Ну, а если он лично посещал их рабочее место – значит, произошло что-то экстраординарное, запахло жареным. Римские полководцы в таких ситуациях говорили: «Дошел черед и до триариев!»
Кстати, в тех редких случаях, когда Орлов давал им разнос – за годы совместной работы пришлось-таки ему несколько раз прибегнуть к такой воспитательной мере! – он предпочитал действовать вообще вне стен управления. Если погода позволяла – на лавочке в скверике перед своим домом. По странному совпадению все разносы приходились на весну – лето, а то Гурову даже интересно становилось: куда бы потащил их Петр сейчас, например? В кабак, не иначе…
– Так вот, – продолжил свой рассказ Гуров, – присаживается Петр на твой, кстати сказать, стул и с недовольным видом запускает руку в правый карман кителя, где у него леденцы эти пресловутые хранятся. С еще более пасмурной миной достает конфетку и начинает ее посасывать, только носом этак ностальгически потягивает.
– Еще бы, – Крячко повертел в пальцах дымящуюся сигарету, – меня-то в кабинете нет, а потому даже не накурено! Бедняга Орлов!
Петр Николаевич Орлов был курильщиком с почти сорокалетним стажем, причем сигарет, даже крепких отечественных, не признавал принципиально, считая их баловством, – он раз и навсегда остановил свой выбор на «Беломорканале» ленинградской фабрики Урицкого. И вот лет пять назад врачи запретили ему курение, да настолько категорично, что пришлось бросать въевшуюся привычку. С тех пор и таскал генерал с собой в кармане форменного кителя пакетик с леденцами омерзительного, по гуровскому мнению, вкуса. Зная о танталовых муках начальника, и Гуров, и Крячко старались в присутствии Петра не дымить, хотя тот часто сам просил друзей об этом, «ностальгически» втягивая табачный дымок.
– Словом, не буду мучительством заниматься, – улыбнулся Лев. – Ты же от любопытства сейчас закипишь, как чайник. Есть на Маросейке, рядом со станцией метро «Китай-город», церковь Сошествия Святого Духа… И вот из этой церкви была украдена редкая старинная икона – Богоматерь Одигитрия, особого тверского письма и аж пятнадцатого века. Мало того: преступник – или преступники – убили церковного сторожа, хотя, возможно, и неумышленно, в борьбе – экспертиза показала, что тот проломил висок, падая и ударившись о металлический ящик со свечами и прочей ходовой церковной утварью.
* * *
… Тогда, в ту проклятую ночь, только строгие и печальные глаза иконописных ликов могли видеть в слабом свете немногочисленных свечей и неугасимых лампад дикое непотребство, творимое двумя людьми в Богородичном приделе Духосошественской церкви. Двое, хрипя, катались по полу храма, оскверняя мерзким сквернословием его стены, привыкшие к торжественным, прекрасным византийским песнопениям, таинственному, сакральному церковнославянскому языку.
Они вскочили одновременно, тяжело дыша и глядя друг на друга с дикой ненавистью.
– Нет, зар-р-раза!! Никуда ты не уйдешь! Святокрад, анафема!
– Останови, попробуй. – В голосе второго звучали отчаянные, истерические нотки. – Не подходи-и-и! Убью-ю!
Затем они сцепились вновь и вдруг, поскользнувшись на гладком церковном полу, так вдвоем и рухнули, переворачивая высокий семисвечник прямо на свечной ящик. Поднялся, пошатываясь, только один. Он нагнулся над лежащим, попытался повернуть тому голову вверх, затем попробовал приподнять его. Но тут же почувствовал липкую теплоту на своих ладонях, отшатнулся в ужасе и в том же неясном, дрожащем свете лампад вдруг увидел, что руки его черны от крови.
Дикий, отчаянный, нечеловеческий крик раздался в пустой церкви. Вот так, наверное, кричат демоны в глубинах ада.
* * *
…Случилось это десять дней назад, и поначалу расследование этого печального, но по нашим временам не столь уж исключительного и вопиющего факта в сферу интересов главного управления не попало. Но почти сразу же рутинная, вообще говоря, церковная кража и не менее рутинное убийство стали обрастать крайне неприятными деталями и особенностями.
– Тут-то Орлов меня и удивил. – Гуров улыбнулся, хотя и несколько печально. – Впрямую, как ты, Станислав, сам понимаешь, не сказал, но из его слов об «оперативной информации» я для себя сделал четкий вывод: осталась у нашего с тобой шефа с тех еще времен своя «внедренка,» и очень нехилого уровня. Ты же сам прекрасно знаешь – он и сыщиком был экстра-класса. Да таковым и остался…
– Во-он что… – понимающе протянул Крячко.
Любой чего-нибудь профессионально стоящий сыщик имеет в криминальных кругах нескольких людей, которых в свое время завербовал, сломав на чем-то или, что тоже нередко, «купив» – скажем, переформулировав статью УК на более легкую. Бывает, и нередко, что такие, по блатным понятиям, «суки» занимают в криминальной иерархии довольно высокие места. Вплоть до самых высоких. Информация, которую «сливают» своему хозяину-оперативнику такие «тихушники», или «внедренки», порой бывает просто бесценна. Поэтому их берегут, ибо если в блатной среде станет известно о подобных связях – а порой и подозрения хватает, – то жизнь «внедренки» будет очень недолгой, а смерть – очень мучительной.
Существует неписаный, но строжайшим образом выполняющийся закон – ни методами подобной вербовки, ни способами связи, ни, наконец, информацией о конкретной личности «тихушника» оперативник не делится ни с единым человеком. Включая коллег, лучших друзей и начальников любого ранга.
Само собой, были такие «внедренки» и у Гурова, и у Крячко. Оказывается, имелись они и у Петра Николаевича Орлова, точнее, оставались с тех еще времен, когда генерал сам, лично, занимался оперативной работой. И вот один из них связался с Орловым по собственной инициативе – видимо, была у них на этот счет договоренност, – поскольку посчитал орловский «тихушник» дошедшие до него новости и слухи исключительно важными. А они как раз и касались той самой церковной кражи. И была эта информация такой поганой, что Орлов, поразмыслив малость, решил забирать дело в свои руки – в ведение главного управления.
– Видишь ли, Лев. – В голосе генерала слышалась неподдельная грусть. – Информация, конечно, оперативная и непроверенная, этакое блатное агентство ОБС – это, если не знаешь, одна баба сказала, оно есть шанс, что хоть процентов пятьдесят в этом трепе – правда. А в этом случае мы можем оказаться по уши в… известной субстанции. Такой вселенский хай поднимется, что мало никому не покажется. Но самое смешное, что если кое-какая дрянь начнет-таки сбываться, то дело это все едино, к песьей матери, повесят на нас, горемычных. Просто потому, что наш это уровень и наша пахота. Заметь – тогда все следы подостынут, цемент захряснет и долбить его будет не в пример тяжелее. Знаю, что ты хочешь возразить. Что инициатива наказуема. Согласен. Но здесь как раз то самое исключение, которое из любого правила бывает. Ты уж мне поверь и мою интуицию со счетов не сбрасывай!
Вот уж интуицию – что свою, что генерала – Гуров привык уважать. Весь его профессиональный опыт свидетельствовал: без этой труднообъяснимой, точно не определяемой способности принимать верные решения и просчитывать ситуацию на несколько ходов вперед при минимуме сведений, данных, улик сыщик мало чего стоит.
Оказалось, что украдена была не одна, а пять икон, но четыре – раньше и без столь печального финала, как с трупом сторожа. Поэтому пропажа их оставалась до последнего времени незамеченной – на соответствующих местах оказались прекрасно выполненные копии, подделки. Эту же, последнюю, копировать не пытались, утащили без всяких сложностей.
– И почему? – поинтересовался Крячко, которого рассказ Гурова заинтересовывал все больше и больше.
– Вот я у Орлова то же самое спросил.
Выяснилось, что церковь была старинной, построенной еще в XVIII веке по проекту самого Николая Львова. А иконы для нее писал его друг, знаменитый наш российский живописец – портретист Боровиковский. Те самые четыре первых – как раз его работы. Они тоже представляют собой громадную культурную, да и материальную ценность. Но все же не такую, как последняя. Появилась она в ограбленной церкви недавно, менее полугода тому назад, а до того висела в другом московском храме – Ризоположения, что на Донской улице.
– Почему икону переместили из одного храма в другой, не знаю, – пояснил Орлов, – да и не важно нам это. По каким-то внутрицерковным соображениям, которых нам с тобой, Лева, все равно не понять. Но она совершенно особого, как мне эксперты наши объяснили, письма. Они говорят, что знаменитая эта тверская школа своей самобытностью обязана особенным же тверским краскам – «землям», полученным из местных минералов. Они-то и придавали иконам и фрескам ни на что не похожий колорит.
– Понял, – задумчиво отозвался Гуров. – Не больно-то подделаешь. И, самое главное, преступник об этом перемещении узнал. Значит, у него был во внутрицерковной среде сообщник. Или… Или он сам из этой среды.
– Именно, – согласно кивнул генерал. – Причем обрати внимание: из того храма икону красть не пытались, а из этого, по проторенной с иконами Боровиковского дорожке… Значит?
– Сообщник или сам преступник связан как раз с Духосошественской церковью. А… С первыми четырьмя? Как обнаружили-то? Что, тоже оперативная информация?
– Она самая, – коротко отозвался Орлов. – Потом проверили наши эксперты плюс параллельно ребята-реставраторы с Большой Ордынки. Ну, и отца Михаила пригласили, он в церкви главный. Все точно.
– Но все равно, Петр, – Гуров пожал плечами в некотором недоумении, – чего-то до меня не доходит – при чем тут мы? История, конечно, поганая, но…
– Это она сейчас поганая, – мрачно сказал Орлов, – а станет архипоганой, если…
Дойдя до этого момента, рассказа Гуров специально сделал паузу, желая подхлестнуть интерес «друга и соратника». И не ошибся, конечно.
– Если что? – жадно поинтересовался Станислав, закуривая очередную сигарету. – Ты меня, Лев, своим пересказом ваших с генералом художественных штудий вконец заинтриговал. Что Орлову еще его «внедренка» напела?
Так вот, по пресловутой оперативной информации выходило, что первые четыре иконы были похищены с целью вульгарной наживы. Скорее всего, они уже проданы вором в частные коллекции; возможно, за рубеж. Хотя и у отечественных новорусских толстосумов подобное «коллекционирование» в большую моду входит. А вот пятую, тверскую, самую ценную и старинную…
Тоже, конечно, сперли не для того, чтобы дома в красный угол поставить и лампаду перед ней возжигать. Для наживы, для перепродажи… Но вопрос – кому? И тут по всему выходило, что очень уж мерзкая личность могла выступить в качестве покупателя иконы. Кто конкретно этот человек, орловский «тихушник» точно не знал. Или не сказал – страх, знаете ли… Ясно было одно – у предполагаемого покупателя громадные деньги и весьма неустойчивая психика. Не просто неустойчивая. Был он, по словам информатора, когда-то клиентом Института Кащенко. Плюс бешеное озлобление к России и православию. Кажется, не русский. С Кавказа. Точно известно, что в живописи вообще и в иконах в частности разбирается великолепно. Скорее всего – сам коллекционер. И тут начиналась полная паранойя. В его планы входило вывезти икону – почитаемую, намоленную, подлинную православную святыню – не то в Чечню, не то в Ингушетию. И там порубить ее топором. Или сжечь. Лично и публично. При большом стечении народа и, почти наверняка, перед телекамерами. Да с соответствующими комментариями: этакое террористическое глумление. Или глумящийся террор. Кому как больше нравится.