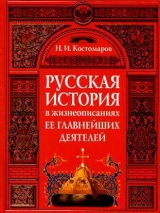
Текст книги "Русская история в жизнеописаниях ее главнейших деятелей (Отдел 1-2)"
Автор книги: Николай Костомаров
Жанр:
История
сообщить о нарушении
Текущая страница: 29 (всего у книги 143 страниц)
Рядом с апокрифами Максим писал против разных суеверий, замеченных им в русском обществе: так, например, на Руси распространилось верование, будто от погребения утопленных или убитых происходят неурожаи. Бывали случаи, когда выкапывали из земли тела и бросали на поле. Максим убеждает скрывать всех в недрах земли, общей матери, и доказывает, что гнев Божий посылается за грехи, а не за погребение утопленных. Он порицал веру в сновидения, а также в существование добрых и злых дней и часов, веру, истекавшую из астрологии; нападал на разные суеверные приметы, наблюдения птичьего полета, движения глаза, явления облаков, на веру во встречу, в оклик, на разные гадания: на бобах, на ячмене; в особенности вооружался он против ворожбы, допускаемой по случаю судебного поединка (поля), причем осуждал самый этот обычай. "Наши властители и судьи, отринувши праведное Божие повеление, не внимают свидетельству целого города против обидчика, а приказывают оружием рассудиться обидчику с обиженным, и кто у них победит, тот и прав; решают оружием тяжбу: обе стороны выбирают хорошего драчуна полевщика; обидчик находит еще чародея и ворожея, который бы мог пособить его полевщику... О беспримерное беззаконие и неправда! И у неверных мы не слыхали и не видали такого безумного обычая".
Самое большое значение из обличительных сочинений Максима Грека имеют для нас те, которые относятся непосредственно к нравам тогдашнего русского общества. Максим был недоволен духовенством. "Кто может достойно оплакать мрак, постигший род наш! – говорит он. – Нечестивые ходят как скимны рыкающие и удаляют от Бога благочестивых, а наши пастыри бесчувственнее камней; они устроились себе и думают только о том, как бы самим себя спасти... Нет ни одного, кто бы прилежно поучал и вразумлял бесчинных, утешал малодушных, заступался за бессильных, обличал противящихся слову благочестия, запрещал бесстыдным, обращал уклонявшихся от истины и честного образа христианской жизни. Никто по смиренномудрию не откажется от священнического сана, никто и не ищет его по божественной ревности, чтобы исправлять беззаконных и бесчинствующих людей; напротив того, все готовы купить его за большие дары, чтобы прожить в почете, в удовольствии".
Максим оставался всегда иноком и был пропитан отшельническим взглядом на жизнь: "Возлюби, – говорит он, – душа моя, худые одежды, худую пищу, благочестивое бдение, обуздай наглость языка своего, возлюби молчание, проводи бессонные ночи над боговдохновенными книгами... Огорчай плоть свою суровым житьем, гнушайся всего, что услаждает ее... Не забывай, душа, что ты привязана к лютому зверю, который лает на тебя; укрощай его душетлительное устремление постом и крайней нищетою. Убегай вкусных напитков и сладких яств, мягкой постели, долговременного сна. Иноческое житие подобно полю пшеницы, требующему трудолюбия; трезвись и тружайся, если хочешь принести Господу твоему обильный плод, а не терние и не сорную траву". Но при этом отшельническом взгляде Максим требовал от иноков действительно сурового подвига, отречения от мира; и потому во многих своих сочинениях он с жаром нападает на лицемерие русских монахов. Не отделяя себя от всего монашества, он делает своей душе упреки, в которых обличает дурной образ жизни в монастырях: "Убегай губительной праздности, ешь хлеб, приобретенный собственными трудами, а не питайся кровью убогих, среброрезоимством (взыманием процентов)... Не пытайся высасывать мозги из сухих костей, подобно псам и воронам. Тебе велено самой питать убогих, служить другим, а не властвовать над другими. Ты сама всегда веселишься и не помышляешь о бедняках, погибающих с голоду и морозу; ты согреваешься богатыми соболями и питаешь себя всякий день сладкими яствами. Тебе служат рабы и слуги. Ты, противясь божественному закону, посылаешь на человекогубительную войну ратные полки, вооружая их молитвами и благословениями на убийство и пленение людей. Ты страшишь вкусить вина и масла в среду и пяток, повинуясь отеческим уставам, а не боишься грызть человеческое мясо, не боишься языком своим тайно оговаривать и клеветать на людей, показывая им лицемерно образ дружбы. Ты хочешь очистить мылом от грязи руки свои, а не бережешь их от осквернения лихоимством. За какой-нибудь малый клочок земли тащишь соперников к судилищу и просишь рассудить свою тяжбу оружием, когда тебе заповедано отдать последнюю сорочку обижающему тебя! Ни Бога, ни ангелов ты не стыдишься, давши обещание нестяжательного жития. Молитвы твои и черные ризы только тогда благоприятны Богу, когда ты соблюдаешь заповеди Божьи... А ты, треокаянная, напиваясь кровью убогих, приобретая в изобилии все тебе угодное лихвами и всяким неправедным способом, разъезжаешь по городам на породистых конях, с толпой людей, из которых одни следуют за тобой сзади, а другие впереди и криком разгоняют народ. Неужели ты думаешь, что угодишь Христу своими долгими молитвами и черной власяницей, когда в то же время собираешь неправильным лихоимством жидовское богатство, наполняешь свои амбары съестными запасами и дорогими напитками, накопляешь в своих селах высокие стога жита с намерением продать подороже во времена голода?" Вопрос о владении монастырскими имениями, занимавший умы еще прежде Максима, разработан им в сочинении об иноческом жительстве, в форме разговоров между любостяжательным (Филоктимоном) и нестяжательным (Актионом). Здесь Максим привел доказательства как в защиту права монастырей владеть имениями, так и против этого права. Нестяжательный, которого доказательства представляются сильнее доказательств противника, главным образом, напирает на то, что монахи, владея населенными имениями, обременяют крестьян тяжелыми работами, дают деньги в рост и потом расхищают имение должников, продают и доводят до последней нищеты, тогда как иноки, по своему званию, вступая в монастырь, отрекаются от всякого имущества и стяжания. Сочинение Максима имеет почти тот же смысл, как и обличение Вассиана, касающееся того же самого предмета, но написано с меньшею резкостью.
Как ни уважал Максим монашеское житье, если оно было согласно своему идеалу, но порицал тех, которые пренебрегали семейною жизнью, думая, что только в монашеском чине можно получить спасение. В числе сочинений Максима есть одно "Слово", обращенное "к хотящим оставлять жену свою без вины законныя и идти в иноческое житие". Оно замечательно не только потому, что Максим считал возможным угодить Богу и получить спасение в мире с женою и детьми, но и потому, что самому иноческому житию давал высший внутренний смысл. "Если кто из вас, – говорит он, – задумает предаться иноческому житию, то пусть прежде испытает себя в мирском житии: может ли он быть добродетельным и жить праведно со страхом Божиим и истиною; и если может, то, не разлучаясь со своею женою, пусть благодарит Бога и пребывает в исправлении добрых дел. Пусть он знает, что иноческое житие, которого он желает, есть не что иное, как прилежное исполнение евангельских заповедей... Тот, кто исполняет заповеди Христа с желанием угодить Богу, а не людям, тот у Него назовется настоящий инок; христианское благоверие состоит не в изменении одежды, не в воздержании от пищи, а в воздержании от всякой злобы и душетлительных страстей плоти и духа". По отношению к посту Максим Грек произносит такое суждение: "Истинный пост, приятный Богу, состоит в воздержании от душетлительных страстей, а одно воздержание от пищи не только не приносит пользы, но еще более меня осуждает и уподобляет бесам... Не достойно ли слез, что некоторые обрекаются не есть мяса в понедельник ради большого спасения, а на винопитии сидят целый день, и только ищут: где братчина или пирование, упиваются допьяна и бесчинствуют; лучше бы им отрекаться от всякого пития, потому что лишнее винопитие причина всякому злу; от мясоедения ничего такого не бывает. Всякое создание Божие добро, и ничто не отвергается, принимаемое с благодарением.
Самое сильное слово в этом роде написано было Максимом уже после его заточения, по поводу происшедшего в это время пожара в Твери. Тверской епископ Акакий представляется беседующим с самим Христом. "Мы всегда, Господи (говорит епископ), радели о твоей боголепной службе, совершали тебе духовные праздники с прекрасным пением и шумом доброгласных колоколов, украшали иконы твои и Пречистой твоей Матери золотом, серебром и драгоценными камнями, думали благоугодить тебе, а испытали твой гнев; в чем же мы согрешили?" – "Вы (отвечает ему Господь) наипаче прогневали меня, предлагая мне доброгласное пение и шум колоколов, и украшение икон и благоухание мирры... Вы приносите мне все это от неправедной и богомерзкой лихвы, от хищения чужого имущества; ваши дары смешаны со слезами сирот, с кровью убогих. Я истреблю ваши дары огнем или отдам на расхищение скифам, как и сделал с иными. Пусть примером вам послужит внезапная погибель всеславного и всесильного царства Греческого. И там всякий день приносилось мне боголепное пение, со светлошумящими колоколами и благовонной миррой, совершались праздничные торжества, строились предивные храмы с целебоносными мощами апостолов и мучеников, и скрывались в храмах сокровища высокой мудрости и разума; и ничто это не принесло им пользы, потому что они возненавидели убогих, убивали сирот, не любили правого суда, за золото оправдывали обидящего; их священники получали свой сан через подкуп, а не по достоинству. Что мне в том, что вы меня пишете с золотым венцом на голове, когда я среди вас погибаю от голода и холода, тогда как вы сладко насыщаете себя и украшаете разными нарядами? Удовлетвори меня в том, в чем я скуден; я не прошу у тебя золотого венца; посещение и довольное пропитание убогих, сирот и вдовиц – вот мой кованый золотой венец... Не для доброшумных колоколов, песнопений и благоценных мирр сходил я на землю, принял страдание и смерть. Моя вся поднебесная; я исполняю небо и землю всеми благами и благоуханиями; я отверзаю руку свою и насыщаю всякую тварь земную!.. Я оставил вам книгу спасительных заповедей, поучений и наставлений, чтобы вы знали, чем можете угодить мне; вы же украшаете книгу моих слов золотом и серебром, а силу написанных в ней повелений не принимаете и исполнять не хотите, но поступаете противно им. Я не приказал вам скрывать на земле сокровища и прилагать к ним сердца свои, а вы расхищаете, убогих, нещадно, без сострадания, обижаете, убиваете, всяким способом мерзкого лихоимства; сами пируете с богачами, а бедным, стоящим у ваших ворот, изнемогающим от холода и голода, кидаете кусок гнилого хлеба... Я нарек сынами Божиими рачителей мира, а вы, как дикие звери, бросаетесь друг на друга с яростью и враждою! Священники мои, наставники нового Израиля! Вместо того, чтобы быть образцами честного жития, – вы стали наставниками всякого бесчиния, соблазном для верных и неверных, объедаетесь, упиваетесь, друг другу досаждаете; во дни божественных праздников моих, вместо того чтобы вести себя трезво и благочинно, показывать другим пример, вы предаетесь пьянству и бесчинству... Моя вера и божественная слава делается предметом смеха у язычников, видящих ваши нравы и ваше житие, противное моим заповедям" и пр.
Обличения Максима коснулись мирской власти и суда. В одном из своих поучений он говорит: "Страсть иудейского сребролюбия и лихоимания до такой степени овладела судьями и начальниками, посылаемыми от благоверных царей по городам, что они приказывают слугам своим вымышлять разные вины на зажиточных людей, подбрасывают в дома их чужие вещи; или: притащат труп человека и бросят на улице, а потом, как будто отмщая за убитого, начнут истязать не только одну улицу, но всю часть города по поводу этого убийства, и собирают себе деньги таким неправедным и богомерзким способом. Слышан ли когда-нибудь у неверных язычников такой гнусный способ лихоимания? Разжигаемые неистовством несытого сребролюбия, они обижают, лихоимствуют: расхищают имущества вдовиц и сирот, вымышляют всякие обвинения на невинных, не боятся Бога, страшного мстителя обиженных, не срамятся людей, окрест их живущих, ляхов и немцев, которые хоть и латынники по ереси, но управляют подручниками своими с правосудием и человеколюбием". Указать на превосходство латин перед православными в то время было до крайности резкой выходкой. Решившись так смело обличать лиц, посылаемых верховной особой, он делал обличения и самой верховной особе, хотя гораздо мягче и в более утонченной форме, в виде общих нравоучений, в которых, однако, чувствовался прямой укор. Так в поучении "начальствующим правоверно", которое обращено к лицу государя, Максим изображает идеал доброго правителя, указывая на разные примеры Священного Писания, но вместе с тем порицает и пороки, свойственные государям: властолюбие, славолюбие, сребролюбие, и делает, между прочим, намек на тех, которые, узнавши, что кто-нибудь из подданных подсмеивается над ними или порицает их поступки, неистовствуют хуже всякого дикого зверя и хотят тем, которые их злословили, отмстить. Порок этот, как известно, был за Василием. Равным образом, московский государь мог видеть свои качества и в образе ненасытного государя-сребролюбца, собирающего всяким способом богатства, не останавливаясь ни перед хищением, ни перед неправдой, ни перед клеветой.
"Что может быть гнуснее, – говорит поучитель, – когда тот, кто думает владеть знаменитыми городами и бесчисленными народами, сам находится под властью бессловесных страстей, руководится ими и именуется рабом от святых уст Спасителя? Разумевающий пусть разумеет сказанное ясно".
В другом своем слове "о нестроении и бесчинии царей и властей" Максим делается обличителем вообще всякой верховной власти безотносительно к месту. Максим рисует государство в образе женщины, которая сидит на распутье; она в черной одежде, положила голову на руку, опирающуюся на колени; она безутешно плачет; кругом ее дикие звери. На вопрос Максима: кто она? женщина отвечает: "Мою горькую судьбу нельзя передать словами, и люди не исцелят ее; не спрашивай, не будет тебе пользы: если услышишь, только навлечешь на себя беду". Но когда Максим упорно желал знать, кто она, женщина сказала ему: "Имя мое не одно: называют меня начальство, власть, владычество, господство. Самое же настоящее мое имя "Василия" (ВАЕНЛЕIА) – государство.
Максим пал к ногам ее, и Василия проговорила ему длинное обличение на царей и властителей, подкрепляя его примерами и изречениями из Священного Писания. "Меня, – говорила она, – дщерь Царя и Создателя, стараются подчинить люди, которые все славолюбцы и властолюбцы; и слишком мало таких, которые были бы моими рачителями и украсителями, которые устраивали бы, сообразно с волей Отца моего, судьбу живущих на земле людей; но большая часть их, одолеваемая сребролюбием и лихоимством, мучат своих подданных всякими истязаниями, денежными поборами, отяготительными постройками пышных домов, вовсе ненужных к утверждению их державы и только служащих к угоде и веселью их развратных душ... Нет более мудрых царей и ревнителей Отца моего небесного. Все только живут для себя, думают о расширении пределов держав своих, друг на друга враждебно ополчаются, друг друга обижают и льют кровь верных народов, а о церкви Христа Спасителя, терзаемой и оскорбляемой от неверных, нимало не пекутся! Как не уподобить окаянный наш век пустынной дороге, а меня – бедной вдове, окруженной дикими зверями: более всего меня ввергает в крайнюю печаль то, что некому заступиться за меня по Божьей ревности и вразумить моих бесчинствующих обручников. Нет великого Самуила, ополчившегося против преступного Саула; нет Нафана, исцелившего остроумной притчей царя Давида, нет Амвросия чудного, не убоявшегося царственной высоты Феодосия: нет Василия Великого, мудрым поучением ужаснувшего гонителя Валента; нет Иоанна Златоуста, изобличившего корыстолюбивую Евдоксию за горячие слезы бедной вдовицы. И вот, подобно вдовствующей жене, сижу я на пустынном распутьи, лишенная поборников и ревнителей. О прохожий, безгодна и плачевна судьба моя".
Мы указали на более сильные места в обличениях Максима, но вообще его послания загромождены риторическим многословием, множеством излишних текстов и примеров, частыми повторениями и вычурными оборотами. Слог его нередко вял, язык его крайне тяжел и во многих местах темен; видно на каждом шагу, что автор думал на ином языке, а не на том, на котором писал; поэтому можно сомневаться, чтобы в свое время Максимовы сочинения могли иметь много читателей и были для всех удобопонятны. Только в последующее время, когда сам Максим остался в памяти народа как богоугодный страдалец за правду, его сочинения переписывались и пользовались уважением между русскими книжниками. Но они не могли укрыться от среды, окружавшей двор и высшее духовенство. Неудивительно, что с таким направлением Максим навлек на себя преследования от власти. Обыкновенно признают, что великий князь Василий возненавидел его за то, что он не одобрял его решимости развестись с Соломонией и жениться на другой жене. Быть может, и вероятно, это было одной из причин гонения, но Максим должен был раздражить против себя как великого князя, так и многих московских начальных людей, духовных и светских, той ролью обличителя, которую он взял на себя из подражания Савонароле.
В феврале 1525 года Максим Грек был притянут к следственному делу политического характера. Его обвиняли в сношениях с опальными людьми: Иваном Беклемишевым-Берсенем и Федором Жареным. Первый был прежде любимцем великого князя и навлек на себя гнев его тем, что советовал ему не воевать, а жить в мире с соседями. Такое миролюбивое направление было совершенно в духе Максима, который и в своем послании государю советовал не внимать речам тех, которые будут подстрекать его на войну, а хранить мир со всеми. Видно, что Берсеня с Максимом соединяла одинаковость убеждений. Максимов келейник показал, что к Максиму ходили многие лица, толковали с ним об исправлении книг, но беседовали с ним при всех: а когда приходил Берсень, то Максим высылал всех вон и долго сидел с Берсенем один на один. Максим на допросе высказал меньшую твердость, чем можно было ожидать по его писаниям; он сообщил о всем, что говорил с ним Берсень, как порицал влияние матери великого князя, Софьи, как скорбел о том, что великий князь не слушает никаких советов; как жаловался, что великий князь отнял у него двор в городе; как упрекал великого князя за то, что ведет со всеми войну и держит землю в нестроении. На этом допросе Максим говорил: "То, что у меня на сердце, о том я ни от кого не слыхал и ни с кем не говаривал; а только держал себе в сердце такую думу: идет государь в церковь, а за ним идут вдовы и плачут, а их бьют! Я молил Бога за государя и просил, чтобы Бог положил ему на сердце и показал над ним свою милость". Максим этими сообщениями повредил Берсеню: последний сначала запирался, потом во всем сознался. Берсеня и дьяка Жареного казнили, а Максима снова притянули к следствию по другим делам: его обвиняли в сношении с турецким послом Скиндером; он знал похвальбы турецкого посла, знал, что этот посол грозил Москве нападением турок; Максима даже обвиняли в писании грамоты в Турцию с целью поднять турок на Русь. Его уличали в том, что он называл великого князя Василия гонителем и мучителем, порицал за то, что Василий предал землю свою татарскому хану на расхищение, и предсказывал, что если на Москву пойдут турки, то московский государь из трусости обяжется или платить дань, или убежит. Кроме того, великий князь предал его суду духовного собора под председательством митрополита Даниила, и на этом соборе присутствовал сам. До какой степени Василий был озлоблен против него, показывают слова опального дьяка Жареного, который говорил Берсеню, что великий князь через троицкого игумена приказывал ему наклепать что-нибудь на Максима и за то обещал его пожаловать. Максима обвиняли в порче богослужебных книг и выводили из слов, отысканных в его переводе, еретические мнения, находя важным то, что он вместо: "Христос седе одесную Отца", написал "седев одесную Отца" 2. Максим не признал себя виновным, но был сослан в Иосифов Волоколамский монастырь, под надзор старца Тихона Лелкова; дали ему в духовные отцы старца Иону. Так как Максим уже успел раздражить монахов своими обличениями и проповедью о нестяжательности, то его содержали умышленно дурно. "Меня морили дымом, морозом и голодом за грехи мои премногие, а не за какую-нибудь ересь", – писал он. Отправляя Максима в монастырь, собор обязал его никого не учить, никому не писать, ни от кого не принимать писем и велел отобрать привезенные им с собой греческие книги. Но Максим не думал каяться и признавать себя виновным, продолжал писать послания с прежним обличительным характером. Это вызвало против него новый соборный суд в 1531 году. На этот раз, кроме прежнего вопроса "о седении одесную Отца", его обвиняли в том, будто он в переводе Жития Св. Богородицы Метафраста употребил выражение, заключающее смысл хулы на Св. Богородицу, что он приказал "загладить" (выбросить) из Деяний Апостольских разговор Филиппа Апостола с кажеником (Деяния Апос. гл. VIII ст. 37), и кроме того, еще из богослужебной книги велел загладить отпуск троицкой вечерни. Максим от всего этого отпирался и уверял, что никогда не имел еретических мнений, какие на него взваливали. На Максима, между прочим, показывал его бывший писец Медоварцев и, желая оправдать себя самого, выражался, что "на него дрожь великая нападала", когда Максим велел заглаживать слова троицкого отпуста. Все это были не более, как недобросовестные придирки. Характер всего суда ясно свидетельствует об этом: таким образом, на том же суде Максима обвиняли в волхвовании, показывали на него, будто он хвалился, что все знает, где что делается; будто говорил, что на нем нет ни единого греха; будто хвалился "еллинскими и жидовскими хитростями и чернокнижными волхвованиями", будто, при посредстве волшебных эллинских хитростей, писал водкой на своих ладонях и протягивал ладони, волхвуя против великого князя и других лиц. Если в этом суде было что-нибудь справедливого, то разве то, что Максим действительно укорял монастыри в любостяжании, порицал русское духовенство, выбросил из Символа Веры выражение "истинного" о Св. Духе (чего действительно не было в греческом подлиннике, хотя Максим в этом на первый раз и заперся от страха) и, наконец, то, что Максим находил нужным, чтобы русские митрополиты ставились с патриаршего благословения. По поводу последнего вопроса Максим объяснил: "Я спрашивал, зачем митрополиты русские не ставятся по-прежнему патриархами? Мне сказали, что патриарх дал благословенную грамоту на то, чтоб русский митрополит ставился по избранию своих епископов, но я этой грамоты не видал". И здесь Максим был опять-таки прав. Несмотря на сознание своей правоты, Максим думал покорностью смягчить свою судьбу; он, по собственному выражению, "падал трижды ниц перед собором" и признавал себя виновным, но не более, как в "неких малых описях". Самоунижение не помогло ему. Его отослали в оковах в новое заточение, в Тверской Отрочь-монастырь. Несчастный узник находился там двадцать два года. Напрасно он присылал исповедание своей веры, доказывал, что он вовсе не еретик, сознавался, что мог ошибаться невольно, делая описки, или по забывчивости, или по скорби, или, наконец, от "излишнего винопития"; уверял, что он не враг русской державы и десять раз в день молится за государя. Сменялись правительства, сменялись митрополиты: Даниил, враждебно относившийся к Максиму на соборе, сам был сослан в Волоколамский монастырь, и Максим, забыв все его оскорбления, написал ему примирительное послание. Правили Москвой бояре во время малолетства царя Ивана – Максим умолял их отпустить его на Афон, но на него не обратили внимания. Возмужал царь Иван, митрополитом сделался Макарий; за Максима хлопотал константинопольский патриарх, – Максим писал юному царю наставление и просился на Афон; о том же просил он и Макария, рассыпаясь в восхвалениях его достоинств – все было напрасно. Макарий послал ему "денежное благословение" и писал ему: "Узы твои целуем, но пособить тебе не можем". Максим добился только того, что ему, через семнадцать лет, позволили причиститься Св. Тайн и посещать церковь. Когда вошли в силу Сильвестр и Адашев, Максим обращался к ним и, по-видимому, находился с ними в хороших отношениях, но не добился желаемого, хотя и пользовался уже лучшим положением в Отрочь-монастыре. Наконец, в 1553 году его перевели в Троицкую Лавру. Говорят, что, вместе с боярами, ходатайствовал за него троицкий игумен Артемий, впоследствии сам испытавший горькую судьбу заточения. Максим оставался у Троицы до смерти, постигшей его в 1556 году. Не довелось ему увидеть Афона: Москва боялась его отпустить, потому что он узнал в Московском государстве "все доброе и лихое" и был слишком склонен к обличению. В Москве не любили, чтоб о русских порядках и нравах дурно толковали за границей, а этого от Максима, конечно, можно было ожидать после той горькой чаши, которую он выпил в земле, на пользу которой посвятил свою жизнь.
–
1. Существует мнение, что этот Николай Немчин есть папский легат Николай Шомберг, но г. Иконников в своем исследовании о Максиме Греке приводит довольно убедительные доводы, что под этим именем следует разуметь Люева, иначе Булева, иноземного врача и любимца великого князя Василия. Это мнение подтверждается и старинною припискою на рукописи сочинения Максима Грека, в которой объясняется, что Николай Немчин есть не кто иной, как Николай Булев, который "от государя превелик) честь получил врачебныя ради хитрости".
–
2. Отсюда выходил такой смысл, что "Христово седение одесную Отца мимо шедшее есть". Максим подтвердил это, вероятно, разумея исторический евангельский факт Вознесения Христова, а не бесконечного пребывания с Отцом, но не умел выразить это ясно.
Первый отдел: Господство дома Св. Владимира. Выпуск второй: XV-XVI столетия.
Глава 18.
СИЛЬВЕСТР И АДАШЕВ
По смерти Василия, за малолетством нового государя, правление перешло в руки вдовствующей великой княгини; дела решались, под ее властью, боярской думой. В Московском государстве еще в первый раз верховная власть сосредоточилась в руках женщины. Это, однако, не противоречило русским понятиям, по которым, по смерти отца семейства, вдова вполне заменяла мужа на время малолетства детей. Елена совершенно отдалась своему любимцу Ивану Овчине-Телепневу-Оболенскому. Он был человек крутого нрава, не останавливался ни перед какими злодеяниями. Именем Елены правил он государством; бояре должны были сносить его произвол. Совершались варварства, превосходившие все, что представляла в этом отношении прежняя московская история. Одного брата покойного государя, Юрия, по подозрению засадили в тюрьму и там уморили голодом. Другой брат, Андрей, испугавшись той же участи, убежал; ради собственного спасения он замышлял восстание, но был схвачен и задушен; жену его и сына засадили в тюрьму. Вместе с ним было казнено много бояр и детей боярских, которых обвинили в расположении к Андрею; других били кнутом. Дядя Елены, Михаил Львович Глинский, стал укорять племянницу за ее связь с Телепневым; за это его посадили в тюрьму и уморили голодом. Знатные бояре за противоречие любимцу тотчас подвергались тяжелому тюремному заключению. Но во внешних делах Телепнев поддерживал достоинство Московского государства. Открывшаяся, по истечении перемирия, война с Литвой ведена была счастливо и окончилась в 1537 году новым перемирием на пять лет, с уступкой Москве двух крепостей: Себежа и Заволочья, построенных на литовской земле. Татарские нападения были отражены. Такие успехи еще больше возвышали любимца Елены, но это возвышение ускорило его гибель. Враги отравили Елену 3 апреля 1538 года.
Правлением овладели князья Шуйские. Телепнева уморили в тюрьме голодом. Сестру его Аграфену заковали и засадили в тюрьму. Вслед за ними низложили митрополита Даниила, угождавшего Елене, а на место его возвели троицкого игумена Иосафа.
В 1540 году, при содействии нового митрополита, благодетель его, глава правительства, Иван Шуйский был низвержен. На место Шуйского поставлен враг его боярин князь Иван Бельский, сидевший до того времени в тюрьме. Этот новый правитель не поступал подобно прежнему, оставил на свободе своих врагов Шуйских, выпустил из тюрьмы племянника покойного государя Владимира Андреевича с матерью, освободил других узников, возвратил Пскову его старинный самосуд, дозволивши судить уголовные дела выборным целова-льникам, мимо великокняжеских наместников и их тиунов. Крымский хан Саип-Гирей, услышавши, что в Москве нет больше единодержавной власти, попытался было сделать нашествие на пределы Московского государства, но был отбит. Правление Бельского обещало много хорошего, но скоро пало. Князь Иван Шуйский, склонивши на свою сторону некоторых бояр и детей боярских, 3 января 1542 года схватил Бельского и потом велел задушить, а его сторонников засадил в тюрьму. Митрополит Иосаф был низложен; на место его возведен новгородский архиепископ Макарий, один из знаменитых духовных русской истории.
Князь Иван Шуйский, захвативший верховную власть, по болезни скоро удалился от двора, передавши правление своим родственникам Ивану и Андрею Михайловичам Шуйским и Федору Ивановичу Скопину-Шуйскому 1. Но недолго пришлось править и этим Шуйским. Молодому государю исполнилось в 1544 году тринадцать лет. Он находился под влиянием братьев Елены: Юрия и Михаила Васильевичей Глинских. Митрополит Макарий стал на их сторону, изменивши Шуйским, подобно тому, как им изменил его предшественник. По наущению своих дядей, отрок Иван приказал схватить Андрея Шуйского и отдать своим псарям, которые тотчас же растерзали его. Федора Скопина-Шуйского и других бояр его партии сослали. Правлением овладели Глинские.
Следствием смут, происходивших в малолетство Ивана, было то, что отрок-государь получил самое дурное воспитание. Он от природы не имел большого ума, но зато одарен был в высшей степени нервным темпераментом, и, как всегда бывает с подобными натурами, чрезмерной страстностью и до крайности впечатлительным воображением. В младенчестве с ним как будто умышленно поступали так, чтобы образовать из него необузданного тирана. С молоком кормилицы всосал он мысль о том, что он рожден существом высшим, что со временем он будет самодержавным государем, что могущественнее его нет никого на свете; и в то же время его постоянно заставляли чувствовать свое настоящее бессилие и унижение. Его разлучили с мамкой, к которой он был привязан, убили Телепнева, к которому он привык; на его глазах, его именем, бояре свергали друг друга, а зазнавшиеся Шуйские обращались с ним высокомерно и нагло. "Помню, – писал впоследствии Иван Васильевич, – как бывало мы с братом Юрием играем по-детски, а князь Иван Шуйский сидит на лавке, локтем опершись на постель отца нашего, да еще ногу на нее положит, а с нами не то по-родительски, а по-властелински обращается, как с рабами. Ни в одежде, ни в пище не было нам воли; а сколько-то казны отца нашего и деда они перебрали, да на наш счет сосуды себе золотые и серебряные поделали и на них имена родителей своих подписали, будто это их родительское достояние! Всем людям ведомо, как, при матери нашей, у князя Ивана Шуйского была шуба кунья, покрыта зеленым мухояром, да и та ветха: если бы у них было прежде столько богатств, чтобы сделать сосуды, так лучше было шубу переменить!" Отрок-государь привязался было к боярину Семену Воронцову. Андрей Шуйский, из опасения, чтобы Воронцов не взял на себя слишком многого, приказал схватить его в присутствии государя, и только слезные прошения Ивана да ходатайство митрополита спасли Воронцова от смерти, но все-таки его сослали. Раздражая такими поступками отрока, бояре в то же время дозволяли ему усваивать самые вредные привычки: молодой Иван для забавы бросал с крыльца или с вышек животных и тешился их муками; а когда власть перешла в руки Глинских, то Иван набрал около себя отроков из знатных семейств и с их толпой скакал верхом во всю прыть по городу, топтал и бил людей, а опекуны и их угодники похваливали его за это и говорили: "Вот будет храбрый и мужественный царь!" Со вступлением в юношеский возраст все более и более развивались в Иване дикие наклонности. К делу его никто не приучал. Он-то ездил по монастырям, предпринимая для этой цели даже отдаленные путешествия, как, например, на Белоозеро, в Новгород, Вологду, Тихвин, Псков и т. п., то увлекался охотой, или же пьянствовал и буйствовал со своими удальцами. Его шатания по русской земле, как благочестивые так и грешные, тяжело отзывались на жителях. Между тем, отведавши крови на Шуйском, он получал к ней вкус, а Глинские пользовались этим и подстрекали его давать волю своей впечатлительной натуре. По минутному расположению духа он то клал опалы на сановников, то прощал их. Однажды, когда четырнадцатилетний Иван выехал на охоту, к нему явились пятьдесят новгородских пищальников жаловаться на наместников. Ивану стало досадно, что они прерывают его забаву; он приказал своим дворянам прогнать их; но когда дворяне принялись их бить, пищальники стали им давать сдачи, и несколько человек легло на месте. Взбешенный Иван приказал исследовать, кто подущал пищальников. Дьяк Василий Захаров, сторонник Глинских, которому дано было это поручение, обвинил князя Кубенского и двух Воронцовых; один из последних был Федор, любимец царя. Иван немедленно приказал отрубить им головы. Иван неспособен был к долгим привязанностям, и для него ничего не значило убить человека, которого еще не так давно считал своим другом. Молодым сверстникам государя, разделявшим его забавы, была небезопасна его милость. Иван, рассердившись на них, не затруднялся изрекать им смертные приговоры. По его приказанию были удавлены: один из князей Трубецких и сын любимца Елены, Федор.








