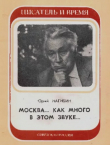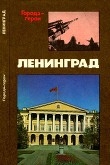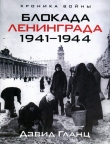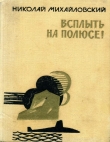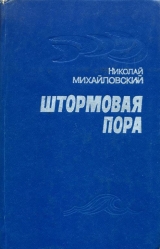
Текст книги "Штормовая пора"
Автор книги: Николай Михайловский
Жанр:
Военная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 17 (всего у книги 23 страниц)
В те дни безмолвны были дали,
Все замерли: приказа ждали,
Чтоб двинуть бурю на врага.
Все на одном сходились слове:
Вперед! Все было наготове, —
писала ленинградская поэтесса Ольга Берггольц.
В Кронштадте стояли корабли эскадры, выполняя свою частную задачу – они стреляли по немецким батареям в районе Петергофа, сковали их своим огнем на время нашего наступления.
Черная, как жучок, «эмка» командующего эскадрой вице-адмирала В. П. Дрозда неслась по льду Финского залива. В густой морозной дымке едва выступали характерные силуэты острова Котлин, Кронштадтской крепости, увенчанной темным куполом собора.
Дорога эта часто обстреливалась. Приходилось объезжать воронки, полыньи или ледяные торосы. Путешествие было небезопасным, хотя на войне не знаешь, где подстерегает опасность…
Пройдя всю ледовую трассу, машина поднялась на берег и скоро подкатила на Рогатку, к постоянной стоянке кораблей.
Дрозд открыл дверцу и наказал водителю:
– Дел много… Возвращаться придется ночью. Так что заправься и часам к двенадцати будь в полной готовности…
Действительно, в обратный путь собрались уже к ночи. Командующий Кронштадтским морским оборонительным районом контр-адмирал Левченко, дружески расположенный к Валентину Петровичу, уговаривал задержаться: «Выспись, отдохни… Утро вечера мудренее». Дрозд только усмехнулся: «Отдыхать будем после войны, а пока надо в Ленинград, на корабли эскадры…» И протянул руку.
Он уезжал с двумя операторами из штаба флота.
– Вы садитесь вперед, будете у нас за штурмана, – Дрозд указал капитану-лейтенанту Яковлеву на место рядом с водителем. – А мы с вами, – он повернулся к капитану 3-го ранга Родимову, – пассажиры… Тронулись…
Темь непроглядная. Да к тому же мороз. А еще снегопад. Синие подфарники не спасают положения. В непрерывном мельтешении снежинок дорога едва угадывается. Кажется, только интуиция подсказывает человеку за рулем верное направление.
Машина идет медленно, на третьей скорости, то переваливаясь через ледяные бугры, то пробиваясь по снежной целине…
Водитель и «штурман» напряженно всматриваются в темноту, а сидящие на заднем сиденье увлеклись беседой, даже не замечают трудностей пути.
– Вот вы сегодня на собрании говорили нам о моральных силах. Да, это верно, но все же люди пережили голод, бомбежки и еще не ясно, что впереди, – рассуждал Родимов.
– Почему не ясно? Все ясно! Вы должны понять: победа под Москвой, Сталинградом и у нас здесь во многом меняет соотношение сил.
Дрозд затянулся папироской и продолжал со свойственным ему оптимизмом:
– Поверьте, мы с вами еще побываем в Европе. А уж что в самое ближайшее время немцам под Ленинградом капут – в этом вы можете не сомневаться…
Водитель, должно быть совсем потерявший ориентировку, застопорил ход и дрогнувшим голосом произнес:
– Не видно, куда едем, товарищ адмирал.
Дрозд глянул за стекло: тьма кругом. Впрочем, в этом не было ничего неожиданного. Почти всегда поездка в Кронштадт и возвращение обратно были связаны с какими-нибудь приключениями: то попадали под артобстрел и должны были маневрировать, а уж заехать в снег и плечом толкать машину считалось в порядке вещей.
Водитель повернул рычажок, вспыхнули две яркие фары, но даже они не могли пробить толщу снежинок, а главное – дорогу совсем замело. Впереди лежало сплошное белое поле. И ничего больше…
Легкий толчок… Что-то непонятное прошуршало под колесами… Машина врезалась в ледяную кашу и через дверцы внутрь начала просачиваться вода.
– Выходите! – резко и повелительно крикнул Дрозд.
Яковлев одним рывком нажал ручку и выскочил на лед. Остальные не успели опомниться… Машина, шумно сокрушая лед, быстро погружалась в полынью. Донеслись слова Дрозда, полные отчаяния: «Какая глупая смерть!» Это последнее, что услышал Яковлев.
…Человек стоял на льду. Один посреди снежной пустыни. И не мог двинуться, его мгновенно сковало, по всему телу разлился озноб. Хотелось крикнуть «Люди! Они погибли! Идите на помощь!»
А вьюга крутила, бесновалась. Найти людей, поднять тревогу – вот единственное, о чем думал капитан-лейтенант Яковлев в эти минуты.
Куда идти? Где люди? Хотя бы встретилась одна живая душа.
Не сразу пришло понимание, что лед раздробило взрывом вражеского снаряда – образовалась полынья; ее припорошило снегом и потому случилось это несчастье…
Сделав над собой усилие, он двинулся с места и пошел, думая только о том, как бы поскорее добраться до людей и призвать их на помощь.
Он блуждал всю ночь и только на рассвете, обессиленный, закоченевший, добрел до заставы и все рассказал.
К месту происшествия прибыли водолазы. Спустились в воду (глубины в этом месте небольшие) и без труда обнаружили машину по яркому свету фар.
Хоронили вице-адмирала Дрозда в Александро-Невской лавре, где покоятся останки великого русского полководца генералиссимуса А. В. Суворова. Тысячи людей стояли в скорбном молчании у гроба советского вице-адмирала – отважного участника первой схватки с фашизмом в Испании, достойно продолжавшего эту битву до своего самого последнего дня.
Вспоминали встречи с вице-адмиралом В. П. Дроздом, разговоры, повторяли каждое его слово.
22 февраля 1943 года радио донесло слова Указа Президиума Верховного Совета СССР:
«За образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленные при этом доблесть и мужество наградить орденом Красного Знамени крейсер «Киров»…»
Моряки считали, что это в первую голову заслуга храброго адмирала, который «всем смертям назло» выводил корабль из «западни» в Рижском заливе, сражался в Таллине, проводил корабли из Таллина в Кронштадт, вместе с моряками пережил самые трагические дни вражеского наступления на Ленинград. Щемило сердце моряков. Не суждено было их любимому адмиралу увидеть свое детище, свой родной корабль под краснознаменным флагом.
Прошло более трех десятилетий со дня трагической гибели В. П. Дрозда. В Ленинграде в доме на углу Кировского проспекта и улицы Скороходова в квартире на третьем этаже, где Валентин Петрович провел недолгие годы, до сих пор царит благоговейная тишина. Все в этом доме, начиная с прихожей, сохранилось в том виде, как было при нем, будто он утром уехал на службу и скоро вернется. Адмиральскую фуражку с золотистым крабом, морские пейзажи, книги Валентина Петровича – все это бережно хранят вдова адмирала Людмила Михайловна и дочь Таня, необычайно похожая на отца, – та же улыбка, те же жесты… Только профессия не отцовская – она искусствовед, преподает в Высшем художественном училище имени Мухиной. Эта квартира не музей в традиционном смысле, здесь все живет своей жизнью: приходят моряки, друзья адмирала – их осталось немного, и те, кто знают о нем только по рассказам, тоже навещают этот дом. Присылают неожиданные подарки, вроде прозрачной коробки с горлышком от бутылки шампанского, по традиции разбитой о форштевень при спуске на воду большого противолодочного корабля «Вице-адмирал Дрозд».
Флотоводцы умирают, а корабли живут, в морях и океанах несут они бело-голубые вымпелы советского флота.
В Ленинграде я снова встретился с Вишневским. Его «штаб-квартира» помещается на тихой и малолюдной улице имени профессора Попова, в двухэтажном деревянном домике – одном из немногих домов такого типа, что случайно уцелели и не были во время блокады разобраны на дрова. Домик сохранился неспроста: это своего рода реликвия. Здесь в двадцатых годах жил художник Матюшин с женой Ольгой Константиновной. Квартиру Матюшиных посещали многие представители русской интеллигенции, в том числе А. М. Горький и В. В. Маяковский. Это было по душе Всеволоду Витальевичу. Чувствовалось, что он дорожил библиотекой и каждой вещицей, стоявшей в его комнате и напоминавшей о прошлом.
Как и все ленинградцы, Вишневский пережил немало трудных дней и подорвал свое здоровье. В 1942 году его свалила дистрофия, и он лежал в госпитале. Потом появились признаки гипертонии. Об этом мне рассказывала писательница Ольга Константиновна Матюшина. А сам Вишневский не имел привычки жаловаться.
За время нашей разлуки Всеволод Витальевич не изменил своей привычке, и меня, как человека только что приехавшего в Ленинград, он прежде всего подвел к карте и «вводил» в курс дела. Слушая его, я опять вспомнил «командарма». Да, Цехновицер хорошо понимал своего друга.
Увлеченно и с большой фантазией Всеволод Витальевич развертывал передо мной картину предстоящего наступления, хотя в действительности он знал не больше любого из нас.
Вечером моряки, офицеры Ленинградского фронта и работники искусства пришли в зал Выборгского дома культуры посмотреть новую пьесу Вишневского «У стен Ленинграда». И режиссер, и художники, и актеры – все беспокоились: как-то будет принят спектакль? Только автор сидел в кресле невозмутимо, точно это к нему не имело никакого отношения.
Поднялся бархатный занавес. Мы увидели хорошо знакомую картину боевой жизни защитников Ленинграда. Осень 1941 года. Морская пехота стоит на рубеже, стоит насмерть. Приближаются танки. Выбегает матрос: «Товарищи, танки нас атакуют!» Его обрывает командир бригады: «Не танки нас, а мы танки атакуем. Повторите!» Матрос повторяет громко, энергично. Танки приближаются. «Кто гранатами берется остановить танки?» Выходят четыре матроса. «Четыре матроса – четыре танка. Что ж, силы равные». Матросы обвязываются гранатами и бросаются навстречу танкам. Слышны четыре взрыва. Танки остановлены. На сцене то, что было в жизни. Снова встает пережитое два года тому назад.
А выходишь из театра, и перед глазами совсем другая жизнь. Нева очистилась от ладожского льда. Пыхтя, словно напрягая все силы, буксиры тянут баржи с лесом, легко скользят юркие быстроходные катера.
Весну встречает Балтика – счастливую весну освобожденного Ленинграда. Кажется, помолодели и люди, и корабли.
За 900 дней обороны Ленинград восполнил потери флота от бомбежек и вражеского артиллерийского огня. Рабочие города и моряки флота не только отремонтировали крупные корабли, но и построили сотни новых судов малого тоннажа. Их можно видеть на Неве: они выделяются свежей окраской.
После встречи с Вишневским мне не терпится скорее повидать и других своих друзей, с кем были прожиты самые трудные дни войны. Живы ли они? Где служат, чем занимаются?
И одна встреча приятнее другой. Все мои друзья рады тому, что выжили и победили. Правда, до полной победы еще далеко. Но вера в нее была еще больше…
ВОСТОЧНАЯ ПРУССИЯ – ПОМЕРАНИЯ – БРАНДЕНБУРГ
1944—45 годы
ВОЗВРАЩЕНИЕ
Я был свидетелем наступательных боев в районе между Финским заливом и Ладожским озером, разгрома крупной вражеской группировки на Карельском перешейке, боев за Койвисто, острова Бьерке, Пийсари, Теркарсари. В итоге линия фронта откатилась на северо-запад от Ленинграда на расстояние до ста пятидесяти километров.
Я не случайно начал этот раздел книги с рассказа об освобождении Таллина и боях в районе Паланги. Это были исходные рубежи для решительного броска на запад.
Мы ждали, когда, наконец, начнется наступление в Эстонии. Каждый день ходили в штаб фронта, использовали все свои корреспондентские связи и знакомства, пытаясь узнать день и час, когда это будет.
– Скоро, скоро, – заверяли нас офицеры оперативного отдела.
– Немножко терпения – и все станет известно.
Действительно, прошли считанные дни, и 19 сентября 1944 года войска Ленинградского фронта форсировали реку Нарову, нанесли удар по врагу севернее Тарту и перешли в наступление. Гвардия под командованием генерал-лейтенанта Симоняка, прославившаяся во всех крупных операциях Ленинградского фронта, теперь освобождает Прибалтику. Вместе с ленинградцами в боях участвует эстонский корпус генерал-лейтенанта Пэрна, родившийся в самые трудные годы войны. Немало дорог прошли воины-эстонцы, прежде чем вступили на свою родную землю.
Наступление развертывается с необыкновенной стремительностью. И это не мудрено, если учесть, что сразу после форсирования реки Наровы наши танки и самоходные орудия вырвались на равнину и пошли на полной скорости, растекаясь по дорогам Эстонии.
В одних местах они лобовыми ударами прорубают оборону противника, в других – обходят ее и оказываются в тылу у немецких войск. Но в том и в другом случае они стараются не задерживаться, идут вперед. Не нужно объяснять, почему они так спешат, если на броне танков белой масляной краской выведены призывные слова: «Вперед, к Балтийскому морю!», «Даешь Таллин!»
Днем и ночью они движутся по гладким грунтовым дорогам волнистой равнины мимо одиноких хуторов и небольших селений, мимо редких кустарников и ветвистых дубов, перевитых буйными побегами плюща.
При таком стремительном марше наша мотомеханизированная пехота едва поспевает за танками.
Раквере – последний узел сопротивления противника. Здесь он рассчитывал задержать наши войска и дать возможность немецкому гарнизону эвакуироваться из Таллина.
Наши танки обходным путем вырвались к Раквере и пропахали своими гусеницами те наспех построенные укрепления, в которых немцы собирались продержаться несколько дней.
А от Раквере – прямой путь на Таллин. За последние сутки танки прошли от 120 до 150 километров, и на рассвете нового дня они уже оказались на возвышенности, откуда виден весь Таллин, а за ним широкая синяя полоса – Балтийское море.
Сложная минная обстановка лишает возможности применить крейсеры, миноносцы и даже сторожевики. В наступлении принимают участие мелкосидящие корабли, главным образом быстроходные тральщики и торпедные катера.
Со стороны моря мы все ближе и ближе к Таллину.
С боем взят остров Большой Тютеярсари.
Пал порт Кунда.
И вот мы в бухте Локса, той самой «Бухте дружбы», где три года назад эстонцы укрывали раненых балтийских моряков.
Высокие сосны с густыми пышными шапками, домики рабочих кирпичного завода, затерявшиеся среди зелени. Услышав гул торпедных катеров, на побережье, как и тогда, в 1941 году, сбежались люди. Они встречают нас как родных.
– Ведь вы были у нас, правда? – с детской наивностью спрашивает маленькая сероглазая женщина в вязаной жакетке и стоптанных девчоночьих туфлях.
– Нет, мы здесь впервые, – отвечаем ей.
– Неужели впервые? – с огорчением говорит она. – Ну, все равно, были здесь ваши раненые товарищи, и они не могут помянуть нас плохим словом. Мы ухаживали за ними, а потом нам всем пришлось тяжело расплачиваться. Меня держали под наблюдением комендатуры и никуда не разрешали выезжать. Одного нашего учителя арестовали за устройство в школе госпиталя для ваших моряков.
– А Леонхард Гнадеберг, наверное, вы знаете… погиб… Они убили его на глазах жены и детей, – рассказывает медицинская сестра Юхана Труус и тихо плачет.
Мы пришли сюда на одну ночь. Надо принять десант и по первому приказу выйти в Таллин.
Стоим на песчаном берегу с командиром отряда торпедных катеров. Мимо нас гуськом проходят бойцы в зеленых касках, с автоматами в руках и скатками шинелей через плечо.
Командир отряда капитан 3-го ранга А. П. Крючков наблюдает за посадкой десанта. Вдруг лицо его краснеет. Поднеся к губам широкий раструб мегафона, он кричит:
– Не перегружать головной катер. Слышите? Не перегружать!
Пехотинцы и моряки оглянулись. Минутное замешательство, но на пирсе появился расторопный офицер и направил поток бойцов на другие катера.
– Неизвестно, что ждет в Таллине, – продолжал командир отряда. – Возможно, на рейде или в порту застанем немецкие корабли. Придется выходить в атаку. А попробуй-ка развернись с десантом.
Он сильно озабочен и не уходит отсюда, пока не закончена репетиция посадки десанта на катера.
Быстро темнеет. Ночь обняла землю, небо и море; все слилось в сплошную черноту.
Тишина. Слышны шорохи волн, то набегающих на песчаный берег, то откатывающихся обратно. В эти минуты думалось: каким-то мы застанем Таллин, сохранился ли Вышгород, увидим ли башню «Длинный Герман», знакомые нам узенькие улицы в центре города: Виру, Харью, Пикк… Наконец, уцелело ли белое здание с колоннами, где мы жили с профессором Цехновицером?
На катерах люди бодрствуют: зная, что на рассвете поход, они проверяют приборы, механизмы.
Немало поработали за эти три года маленькие корабли. На боевой рубке каждого катера цифра, иногда двузначная: число потопленных кораблей противника. Но завтра будет особый день. Приход в Таллин – это большое событие для всего фронта, и потому нам всем не спится. Мы с Крючковым разбираем пачку свежих газет, просматриваем страницу за страницей, читаем последнюю сводку Совинформбюро:
«Войска Ленинградского фронта продолжали наступление. Преодолевая сопротивление немцев, наши войска с боями продвинулись вперед на 25 километров и овладели важным узлом дорог городом Раквере».
Ничего не поделаешь, события развиваются настолько стремительно, что утреннее сообщение Совинформбюро к вечеру оказывается уже сильно устаревшим.
Во всяком случае, мы знаем, что Раквере недалеко от Таллина, и эти строки сводки совсем отогнали сон. Хочется ускорить бег часовой стрелки, не терпится дождаться нового дня.
Командир отряда увидел матроса с ветошью в руках и обрушился на него:
– Вы почему не отдыхаете?
– Да так, что-то не спится.
– Не спится, не спится, – сердито повторил Крючков. – Что же, вы завтра днем спать будете?
– Не беспокойтесь, товарищ командир. В Таллин придем и отоспимся.
Рассеивается темнота, и хотя в небе еще не погасли звезды, на востоке проглядывает алая полоса зари.
На катерах заметно движение. Взревут на несколько минут и снова умолкают моторы. Зенитчики пробуют новые автоматы. То тут, то там раздается короткая очередь, и в небо устремляются белые, красные трассы, как искры, вылетающие из костра.
Все катерники одеты по-походному – в больших кожаных рукавицах, на голове – шлемы.
Как и вчера, командир отряда стоит возле пирса, пропуская мимо себя десантников, только теперь это уже не репетиция, а посадка для участия в боевом походе. К нам подходит офицер и вполголоса сообщает:
– Есть сведения, будто противник из Таллина отступает. Наши гонят его вовсю.
– Тем лучше, – замечает командир отряда. – Только не расхолаживайтесь. Надо быть готовыми ко всему.
– Само собой разумеется, – отвечает офицер и идет вперед по узкому деревянному пирсу.
От гула моторов содрогается маленькая гавань. Катера, вспарывая воду, один за другим вылетают на рейд. Прощай, бухта Локса! Курс на Таллин!
Катера идут кильватерной колонной. Белый, пенящийся водоворот остается за кормой! Ну и скорость! Кажется, только птицы могут угнаться за нами!
Волна заливает катера. Автоматчики ежатся, держатся за металлические части. Их основательно вымочило, а на лицах нет и тени уныния.
На горизонте появилась темная полоса. Все шире панорама знакомых мест. И вот уже видны остроконечные шпили над крышами зданий. К широкому асфальтированному Пиритскому шоссе амфитеатром спускается густая зелень. Символическая фигура ангела на памятнике русскому броненосцу «Русалка» простирает к морю руку.
Милый Таллин! Сколько мы о тебе думали! Где только тебя не вспоминали: и в осажденном Ленинграде, и в снежных домиках на ладожской Дороге жизни, и в душных, тесных отсеках подводных лодок у берегов фашистской Германии! С каким нетерпением ждали этого дня и часа балтийские моряки!
Мы знали, что гитлеровцы готовятся отступить и сжигают торговый порт. Теперь мы видим это своими глазами. Чем глубже в гавань втягиваются катера, приближаясь к дымящимся пирсам, тем яснее картина разрушений.
Ни одного уцелевшего здания, ни одного элеватора. Морской вокзал со стеклянным потолком – краса и гордость Таллинского торгового порта – обрушился, точно под собственной тяжестью. Над ним плывут клубы дыма и кирпичной пыли. На пирсах груды машин, они навалом громоздятся одна на другую. Повсюду полыхают пожары и стелется густой едкий дым.
Надо подойти к причалам и высадить десантников, уже давно приготовившихся к броску, но это не так просто.
Куда ни посмотришь – повсюду из воды торчат потопленные корабли и самоходные баржи. Здорово поработали наши балтийские штурмовики и бомбардировщики. В последнее время они за день совершали десятки и сотни боевых вылетов. В результате фашистам не удалось организованно эвакуироваться из Таллина. Под ударами наступающих частей Ленинградского фронта гитлеровцы беспорядочно бежали и искали убежища на островах.
Первым подходит к пирсу катер с минерами-разведчиками. Они выскакивают на берег. В руках щупальца, напоминающие удилища. Словно слепые, минеры ступают осторожно, медленно делают шаг за шагом, выставив вперед свои палки-щупальца.
Морские пехотинцы – как только подходит катер – прыгают на пирс один за другим, берут автоматы на изготовку и исчезают в клубах густого черного дыма.
Не так просто пробираться среди лабиринта машин и различной боевой техники – подорванных танков, зенитных установок, которые стреляли по нашим самолетам и, может быть, только несколько часов тому назад превращены в обломки металла.
У служебных зданий, вернее, у их развалин, нас встречают портовые рабочие.
– Скажите, как поживает Киров? – спрашивает один из них.
Мы переглянулись, не поняв вопроса. Тогда эстонец поясняет:
– Корабль… «Киров»… В газете «Ревалер цейтунг» писали, будто он потоплен. Правда?
– Нет, он жив, и скоро вы его увидите, – отвечаем мы.
– Жив? Это хорошо!
Потом, встречаясь с эстонцами, мы не раз отвечали на этот же самый вопрос. Фашистская пропаганда – газеты, радио – без устали трубила о том, что Балтийский флот уничтожен. Нам показывали в немецких журналах снимки крейсера «Киров», якобы потопленного фашистской авиацией, и портреты летчиков, награжденных железными крестами…
Из гавани наш путь лежал к центру города. Мы обратили внимание на красные флаги, развевавшиеся по ветру, над воротами одного завода.
Откуда они взялись так быстро?
Случайно проходивший человек прислушался к нашему разговору, подошел и стал объяснять:
– О, эти флаги наш Эдуард хранил. С тысяча девятьсот сорок первого года. Познакомьтесь с ним. Хороший старик! Больше чем полвека работает на заводе.
– Где же Эдуард? Как его найти?
Незнакомец приводит нас в контору завода, а сам исчезает. Через несколько минут он возвращается, ведя под руку пожилого человека небольшого роста, с черными, чуть тронутыми сединой волосами. Ему начинают переводить, кто мы и зачем пришли, но Эдуард останавливает переводчика:
– Сачем? Я сам хорошо снаю русский ясык. Это при немцах я делал вид, что русского не снаю. Не хотелось с гестапо снакомиться.
Он садится на диван, кладет руки на колени и, глядя на нас добрыми, ясными глазами, рассказывает историю спасения красных флагов:
– Вы помните Таллин в тысяча девятьсот сороковом году? Помните манифестации в честь установления Советской власти? Тогда сшиты эти флаги. Мы ходили с ними на площадь Победы. А после мне поручили хранить их и каждый праздник вывешивать на воротах завода. Пришли немцы. Я говорю своей Лизе: «Как быть с флагами? Надо спрятать их, да подальше». А она мне: «Смотри, найдут – тогда все погибнем». Я решил: «Ничего, припрячу так, что сам черт не найдет. Придут наши, флаги пригодятся». Сложил их, упаковал в бумагу и зашил в матрац, на котором сплю. Были, конечно, опасные моменты. Материя воздуха требует. Весной распорешь матрац, повесишь их в комнате просушить. Вдруг кто-нибудь идет. Прячешь куда попало. Вот так все три года я сохранял эти флаги.
Идем дальше. На улицах стоят обгорелые скелеты машин, валяются брошенные ящики со снарядами. Встречаем пленных, которых автоматчики собирают по всему городу и небольшими группами ведут в комендатуру.
Несмотря на долгую оккупацию, Таллин живет. Из окон домов смотрят приветливые, улыбающиеся люди, машут нам руками. Какая-то русская женщина в белом ситцевом платочке выскочила из парадного и подбежала к нам с восклицаниями:
– Миленькие вы мои, родные! Дождались наконец, дождались!
Она больше ничего не может сказать и только плачет.
– Мы русские. Нас сюда из Пскова пригнали.
Женщина берет нас под руки и вместе с нами идет к центру, рассказывая по пути, как тяжко жилось здесь нашим людям, угнанным из Ленинградской области в фашистскую кабалу.
Мне не терпится поскорее добраться до знакомых мест, увидеть тот дом, где мы жили с Цехновицером. Ускоряю шаг. Вот и площадь Победы. Цела! Все здания сохранились в таком виде, как мы их оставили. Наши танки, ворвавшись в Таллин, прошли прямо сюда и стоят сейчас на площади, как монументы. Вокруг них все время толпится народ.
Сохранилась и широкая зеленая аллея, обсаженная деревьями и ведущая от площади вверх к кирхе с двумя башнями «Карла-кирик», и теннисные корты справа под Вышгородом. Только исчезли белки, которые когда-то встречали прохожих и из рук принимали орешки. Не видно и любимых таллинцами голубей, всегда важно расхаживавших по аллее.
Иду по улицам. Тяжелый отпечаток наложила на город трехлетняя оккупация. Фашисты подорвали прекрасные здания на улице Нарва-Маанте. Превратили в развалины театр «Эстония».
Таллинцы удивляются сами себе, своей выносливости… Еще бы! Три года жить в постоянном страхе, каждую минуту ждать, что тебя прямо на улице могут остановить, отправить на вокзал, а оттуда прямой путь в Германию…
В первый же день новой жизни Таллина в вестибюле гостиницы «Палас» полно иностранцев, очень похожих на туристов. Они одеты в легкие дорожные пальто широкого покроя. Через плечо – футляры с фотоаппаратами. Держатся эти люди очень свободно, громко разговаривают, смеются. Как-то странно в городе, столько выстрадавшем и не успевшем еще прийти в себя, слышать смех и нарочито громкие разговоры. Удивительно, что люди этого не понимают. Кто же они такие?
Ну, конечно, наши коллеги – корреспонденты различных английских, американских, французских агентств и газет, прибывшие из Москвы к моменту освобождения Таллина.
Должно быть, среди них есть представители прессы и других иностранных государств.
– Что же их развеселило? – спрашиваю переводчика.
– В Таллине нет ничего, кроме пива. Они, не переставая, острят по этому поводу.
Переводчик объявил по-английски:
– Господа, прошу на второй этаж для встречи с писателем Вишневским.
Не спеша, вразвалку, ленивой походкой корреспонденты поднимались по лестнице.
Посреди гостиной стоял Всеволод Витальевич в своем неизменном морском кителе с несколькими рядами орденских ленточек на груди и пистолетом в деревянной кобуре.
Все сели в кресла. Вишневский остался стоять возле маленького столика и стал рассказывать, как проходила операция по взятию Таллина.
Переводчик едва успевал за Вишневским, переводя фразу за фразой. Следуя своей обычной манере, Вишневский выразительно, как актер, рисовал внешний облик и характерные особенности речи людей, с которыми встречался на фронте. Слушая Вишневского, корреспонденты не сводили любопытных глаз с худощавой женщины в синем морском кителе с белыми погонами старшего лейтенанта на плечах. Она скромно сидела в углу, стараясь не обращать на себя внимания.
Когда Вишневский кончил говорить, полный человек вынул изо рта трубку и учтиво спросил:
– Скажите, пожалуйста, кто эта мисс?
– Жена писателя, Софья Касьяновна Вишневецкая. Она художник, – пояснил переводчик. – Добровольно пошла на войну и служит на флоте.
Все оживились. Заработали вечные перья.
– О, это такая исключительная сенсация! Женщина-художник на войне!.. В военном флоте! – заметил американец.
– Тут нет никакой сенсации, – сердито отозвался Вишневский. – У нас десятки тысяч женщин вместе с мужьями ушли на фронт.
– Сенсация! Настоящая сенсация! – упорно повторял американский журналист.
– Командование просит сообщить, что недалеко от Таллина, в местечке Клога, обнаружен большой немецкий концлагерь, – объявил переводчик. – Если желаете, сейчас же можно туда поехать. Машины у нас есть.
Все согласились.
Вскоре мы, советские журналисты, и иностранцы ехали по густому сосновому лесу и с наслаждением дышали чистым ароматным воздухом.
«Какая сказочная природа, – думал я. – Кажется, нет лучше уголка на земле. Сосна. Песок. Воздух полон запахов свежей хвои».
Сосны тянутся по обе стороны шоссе. Но вот впереди деревянные ворота, вправо и влево от них несколько линий густой колючей проволоки, за которой виднеются бараки.
На воротах аршинными буквами надпись на немецком, русском и эстонском языках:
«Стой! Буду стрелять!»
Мы входим в ворота. Навстречу со всех сторон бегут мужчины и женщины в каких-то грязных лохмотьях – маленькие, щуплые существа, скелеты, обтянутые кожей.
Они бросаются к нам, не выпускают наших рук, и, кажется, в эти минуты совсем счастливыми стали их страдальческие лица.
– Вы посмотрите, что они творили! – повторяет старуха с широко открытыми глазами, в которых, должно быть, на всю жизнь запечатлелся пережитый ужас.
Несколько десятков людей случайно остались в живых после жесточайшей расправы, учиненной гитлеровцами накануне прихода советских войск в Таллин. Эти люди и водили нас по лагерю.
Мы вошли в один из бараков и увидели груды трупов. Эсэсовцы загоняли сюда мужчин, женщин вместе с детьми и расстреливали в затылок.
Еще более чудовищная картина, которую я буду помнить до конца своих дней, предстала перед нами на открытой поляне. Это были так называемые «индейские костры», сложенные из человеческих тел.
Обреченные приносили из леса длинные плахи, укладывали их колодцами. Сами ложились вперемежку с плахами, лицом вниз. Автоматчики, не торопясь, обходили «колодцы» и расстреливали свои жертвы.
Потом поджигали плахи…
Их было много, этих страшных костров.
Мы ходили молча, опустив головы, ни о чем не спрашивая сопровождавших нас офицеров и тех немногих узников лагеря, что чудом остались живыми.
К сожалению, очень немногие из палачей эстонских лагерей смерти понесли заслуженное наказание.
Во всех канадских газетах появилось сообщение о самоубийстве коменданта лагеря «Ягала» Лаака, который сбежал в Канаду, в городе Виннипеге купил себе дом, а затем и другой. Многие годы его соседи даже не подозревали, что источником «благополучия» Лаака стали ценности, которые он отбирал у людей, зверски замученных в концлагере. После сообщений, разоблачающих Лаака, его соседи и служащие авиационной компании, где он работал, не подавали ему руки. Не помогло палачу заявление, сделанное для печати, будто обвинения против него выдвинуты «коммунистической пропагандой». Никто в это не поверил. И очень скоро сам Лаак подтвердил свою виновность: его нашли повесившимся в гараже своего нового дома, купленного на деньги, обагренные кровью… Собаке – собачья смерть!
А сколько таких лааков еще живут-здравствуют, пользуясь пресловутым «правом убежища»…