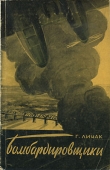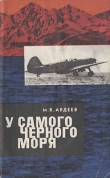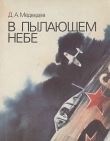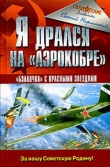Текст книги "Гвардейцы в воздухе"
Автор книги: Николай Ильин
Соавторы: Виктор Рулин
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 15 (всего у книги 17 страниц)
– Виталий, справа ниже тебя на пятьсот метров "мессеры"! – послышался в наушниках шлемофона предупредительный голос Концевого.
Взгляд вправо, и Попков различает камуфлированные желто-зеленым цветом крылья "мессеров", почти сливающиеся с летней окраской земли. Их шестнадцать. Но это только пока, сколько будет через пару минут, сказать трудно. На огромной скорости, полупикируя, истребители противника идут прямо на четверку непосредственного прикрытия. Фашисты, видимо, рассчитывают "пробить" ее навылет, выйти к "вертушке" чуть выше того места, с которого полбинцы прицельно сбрасывают бомбы. Командир и ударная группа начинают стремительное снижение наперерез группе "мессеров". Ни медлить, ни торопиться нельзя: "лавочкины" должны отсечь огнем вражеские истребители от наших пикировщиков как раз в том месте, с которого они уже не сумеют перестроиться для атаки без нового захода. Тогда полбинцы смогут закончить бомбежку.
Пчелкин ввел машину в разворот за ведущим. Он успел заметить, что первая пара патруля Концевого, развернувшись внизу, приготовилась к встречной атаке, а следующая за ним пара еще только заканчивает разворот. В это мгновение и сплелись в цветастый огненный узел смертоносные трассы бортового огня истребителей. Началась жесточайшая схватка. Потом фронтовая газета назовет ее "воздушной баталией".
Преимущество в высоте и скорости, которые к началу поединка обеспечил ведущий группы наших истребителей, сразу же предопределило результаты этого боя. Хорошо было атаковать фашистов, которые никак не могли занять выгодное положение. Количественный перевес сейчас уже не являлся их преимуществом. Противнику было не до атак – спасти бы шкуру.
Вот впереди идущий самолет Попкова с бортовым номером семьдесят пять энергичным разворотом на снижении начал стремительно сближаться с ведущим самолетом фашистской группы. Пчелкин прижался к самолету комэска.
Имея преимущество в высоте, Попков энергично свалил свою машину на правое крыло в сторону ведущего фашистских истребителей и с полупереворота дал по нему очередь. Тот метнулся в сторону.
– Ага, не нравится, – вслух прокомментировал Пчелкин.
Помогая своему ведущему, немедля выпустил пушечную очередь по вражескому самолету. Огненные струи впились в осиное тело "мессершмитта".
Вспыхнул фашистский самолет, перевернулся на спину и пропал из поля зрения.
– Молодец, Саша! – похвалил кто-то, забыв отпустить кнопку радиопередатчика.
Ударная группа, оттеснив противника, стремилась закрепить полученный после первой атаки успех. Вцепившись в группу фашистов, летчики непрерывно атаковали их. В воздухе, чуть в стороне от основной группы, образовался клубок самолетов, из которого то и дело вываливались горящие. Падали. Голубизну неба на западе прочертили два дымных шлейфа.
Рассмотрел их пламеняющие оконечности Пчелкин, и радость его сразу погасла: на конце пышного, черного шлейфа – одинокий краснолобый самолет. Это не успел завершить боевой разворот ведомый из второго патруля четверки Концевого. За него фашисты заплатили уже тремя своими. Однако они не отказались прорваться к нашим пикировщикам. Пе-2 тем временем продолжали работу.
– Задача выполнена. Уходим курсом девяносто, – раздался голос генерала.
Полбин с вершины своей "вертушки" вывел летчиков в горизонтальный полет. Пикировщики быстро и ладно приняли строй колонны пятерок, которую сзади охватывает семь машин Концевого. Теперь на пути группы фашистских истребителей осталась лишь четверка Попкова.
Каждый из летчиков этой четверки понимал, что Концевой не может оставить им в подкрепление ни одной машины. Более чем трехкратное превосходство в численности – за противником. А он навязывал нашей четверке бой не на жизнь, а на смерть. Фашистские летчики во что бы то ни стало пытались отсечь истребителей прикрытия.
Поначалу гитлеровцы, даже игнорируя четверку Ла-5, бросились наперерез нашей возвращающейся колонне бомбардировщиков.
Стреляя из всех восьми пушек, наша четверка пресекла их попытку. На этот раз, помня о потере трех самолетов на первом же заходе, враги развернулись все разом.
– "Ландыш", – позвал из эфира генерал. – Заканчивайте. Можно и вам отходить.
Отходить... Но как? Ведь тринадцать оставшихся вражеских самолетов только того и ждут, чтобы ударить по хвостам нашей четверки истребителей и, прорвавшись через них, врезаться в середину строя пикировщиков. Сейчас главное – подольше задержать врага и дать возможность своим уйти.
Наша четверка Ла-5 снова на встречных курсах с "мессерами". Отлично освоился с ритмом боя Пчелкин. Он знал, что командир спокоен за хвост своего самолета, поэтому так четко и руководит боем. Знал и то, что еще настанет момент, когда Попков выведет его из этой роли щита. Тогда можно показать, на что способен он. Пока же командир начал разворот в сторону пары капитана Карпова. У этой пары явно не хватает выдержки. Летчики резковаты в разворотах, неэкономен, продолжителен их огонь.
– Что нервничаете? – спросил Попков.
– Боеприпасы кончились, – признался Карпов.
– Отходите к основной группе. С Пчелкиным прикроем.
Своему ведомому он верил всегда. Не бросит, не отвернет, не струсит в любом неравном бою. Надежно прикроет.
Увидев, что "лавочкиных" осталось всего только два, фашисты не спеша перестроились: девятка замыкает около них широкий круг, а четверка пикирует на хвост самолета Попкова. Тогда и наступила очередь показать свое мастерство Пчелкину.
Взмыв над Попковым, он выпускает длинную очередь прямо в нос ведущей фашистской машине. От неожиданности три "мессера" рассыпаются в стороны, а четвертый идет на свою последнюю посадку. Но оставшиеся истребители противника не вышли из боя. Их тройка снова начинает собираться.
Снова атака. Пушечная очередь вырвала из рядов врага еще одну машину. Дымя, она отвалила в сторону. Теперь фашистские летчики обрушили на дерзкую пару всю мощь своего огня. Но всякий раз гвардейцы уходили из-под него.
На протяжении всего боя прикрывал своего ведущего Пчелкин. Вот один из оставшихся "мессеров" на какой-то момент попадает в поле его прицела и, когда осиное тело подходит к перекрестью, он жмет на гашетку. Но боеприпасы кончились. Экономно стрелял, а вот все же не хватило. "Мессер" ушел невредимым.
Теперь снарядов нет ни у ведущего, ни у ведомого. Надо уходить. Но как? Два против одиннадцати.
Враги плотным кольцом охватили нашу пару. Сверху, справа и слева повисли. Все ближе закругленные консоли их крыльев, черные шлемы фашистских летчиков, прикрытые стеклом фонарей. Замысел врага был предельно ясен посадить нашу пару на своей территории. Теперь только хитрость могла спасти гвардейцев.
Не изменяя ни высоты, ни направления, "лавочкины" увеличивают скорость. Фашистский конвой пока не препятствует – советские самолеты идут по его курсу. И тут Пчелкин видит спасительное облако. Туда! Другого выхода нет. Такого же мнения и Попков. Опережая свою мысль, ведущий рвет ручку на себя, командуя:
– Саша, пошли!
Сплошная молочная пелена окутывает машину комэска, но в наушниках голос Пчелкина.
– Не успел!
Попков покидает облако. Ручку от себя, и яркое солнце слепящим всплеском бьет в глаза. Между облаком и Пчелкиным – пара "мессеров". Попков, имитируя атаку, валится на хвост фашистского ведущего. Гитлеровцы, видимо, решили не искушать судьбу – рассыпаются. Достать их нечем. На этот раз уже вдвоем наши летчики делают попытку уйти от врага. Но фашистский рой огнем преграждает им путь.
Теперь основное внимание они сосредоточили на ведущем нашей пары, стремясь сбить или хотя бы подбить самолет Попкова. Казалось, трассы снарядов летели со всех сторон. В воздухе становилось тесно: куда ни повернешь – повсюду огонь. Несмотря на это, Пчелкин все же успел скрыться в облаках. Теперь Попков попросил его о помощи. И он немедленно возвратился. Увидев нависший над хвостом машины ведущего "мессершмитт", немного довернул нос своего истребителя. И – в атаку. "Мессер" поспешил отвалить. Наконец в кольце врага образовалась маленькая лазейка: немедленно в нее, затем в облака, которые ватой обволакивают машины гвардейцев. Они-то и помогают летчикам уйти от преследователей.
Через пару часов (половину этого времени потратили на дозаправку горючим на прифронтовом аэродроме соседей) они вернулись на аэродром родного полка. Еще через сутки, поутру, наши войска освободили город Львов.
Сильнее вражеских самолетов оказалась взаимная выручка и мужество наших доблестных воинов.
Под крылом Польша.
Шла третья военная осень. Советская Армия очищала страну от гитлеровцев, гнала их прочь.
Войска 1-го Украинского и 1-го Белорусского фронтов продвигались к Висле.
Итак, мы на польской земле.
...Аэродром, расположенный возле населенного пункта Замостье, стал местом паломничества крестьян окрестных деревень. Они приносили скудные продукты – кто чем богат, а то и просто приходили посмотреть на своих освободителей, сказать им слова привета и благодарности.
Линия фронта перемещалась с немыслимой быстротой, вслед за ней перебазировались и мы, летчики. Так, 23 июля полк вел боевую работу с аэродрома Могильно, а через пять дней с нового – Разлопы.
29 июля советские наземные части вышли к Висле, форсировали ее с ходу и к 4 августа захватили юго-западнее Сандомира крупный оперативный плацдарм.
Фашистское командование понимало, что Сандомирский плацдарм явится хорошим трамплином для нового мощного наступления нашей армии. Поэтому вводом в бой новых танковых и мотомеханизированных частей попыталось во что бы то ни стало сбросить советские войска в Вислу.
На помощь шла авиация. Снова разгорелись упорные воздушные бои. Ценою больших потерь врагу удалось в нескольких местах вклиниться в нашу оборону. Но уже в ходе последующих боев войска не только отбили атаки, а, уничтожив лучшие части немцев, расширили плацдарм и прочно закрепились на его рубежах. Не помогло немцам и применение новых тяжелых танков "королевских тигров", производство которых хранилось в глубокой тайне.
...Полк перелетел на бывший немецкий аэродром, расположенный близ города Щебжешина. Повсюду были видны следы поспешного бегства врага: штабные документы с машинописными и типографскими листами, неотправленные письма, ящики с пустыми и недопитыми бутылками в разноцветных этикетках винных заводов Европы. Вокруг ящики с боеприпасами и штабеля бомб.
Однажды четверка наших самолетов Ла-5 – старший Дмитрий Штоколов, летчики Константин Васильев, Алексей Козлов и Константин Бугреев сопровождала шесть Ил-2 над территорией, занятой врагом в районе Яблонецкого. Из-за тучи вынырнули истребители противника. Два Ме-109 и два Як-1. Наши глазам своим не поверили. Да, два "яка", причем звезд на фюзеляжах не было. Штоколов с ведомым яростно набросился на "мессеров", они исчезли, не приняв боя. А "яки", зайдя в хвост самолета Бугреева, открыли огонь. Тот покачал крыльями своей машины, дал сигнал: "Я свой", но "яки" продолжали атаковать наши самолеты, обстреливать их с дальних дистанций. Тогда Васильев почти вплотную приблизился к одному из этих самолетов и дал очередь. "Як" загорелся, пилот выбросился с парашютом. Второй, видя, что дела плохи, поспешил удрать.
По" докладам летчиков, на обоих подозрительных самолетах коки воздушных винтов голубые с желтой окантовкой. Как позже выяснилось, такой окраски коков винтов истребителей на нашем фронте не было. Значит, враг маскировался, бросался на любые уловки, использовал даже наши самолеты для нанесения неожиданного удара.
31 августа 1944 года гвардии капитан Шардаков во главе шестерки Ла-5 прикрывал штурмовиков Ил-2, действовавших на Сандомирском плацдарме.
У цели из облачности появились четыре Ме-109. Один из них, не задумываясь, пошел в атаку на штурмовиков. Шардаков в паре с Трутневым резко развернули свои машины, чтобы пресечь намерение фашистов. Вот дистанция сократилась до двухсот метров. Враг заметил нависшую угрозу и ввел свой истребитель в так называемый "королевский" боевой разворот, которым владели только асы. "Лавочкины" неотступно преследовали его, и, когда "мессершмитт" оказался в положении вверх колесами, Шардаков с вертикали дал короткую очередь. Шквал огня обрушился на Ме-109. На его капоте мотора разорвалось несколько пушечных снарядов.
Выйдя из боевого разворота, наша пара устремилась в лобовую атаку на оставшиеся вверху вражеские машины, но те ретировались в облака.
Когда наши истребители возвратились на аэродром, Шардаков собрал летчиков и кратко разобрал результаты боевого вылета. Подошел капитан Григорий Яковлев – заместитель начальника штаба полка по оперативной части. Записал в блокнот все услышанное, чтобы затем доложить в штаб дивизии.
Под конец спросил Шардакова.
– А что стало с тем Ме-сто девять, которого вы атаковали?
– К сожалению, сам я не видел. Но летчик Полунин подтверждает, что "мессершмитт" был сбит. Да вы сами спросите его.
Так и доложили в дивизию, что в бою Шардаков атаковал один "мессер", но результата не наблюдал.
Это было 31 августа, а 4 сентября во время ужина в столовую доставили "трофей" – фашистского летчика.
Как оказалось, одна из пушечных очередей Шардакова попала в заливной бензобачок, самолет загорелся. Фашист покинул машину на последнем своем "королевском" развороте.
К концу августа противник, израсходовав все свои резервы и убедившись в бесплодности атак на Сандомирский плацдарм, перешел к обороне. На нашем участке фронта наступила, как говорят штабные работники, оперативная пауза.
Вплоть до декабря летчики вылетали, главным образом, на "свободную охоту". По нескольку раз в день мелкие группы, пары, четверки, маскируясь облачностью, уходили за линию фронта, на глубину восемьдесят – сто километров, и там высматривали удобные цели. Они атаковали колонны автомашин, железнодорожные эшелоны и скопления пехоты. Кроме того, полк вел систематические полеты на разведку ближайших тылов противника.
В строю истребителей.
Однажды на одном из полевых аэродромов к командиру первой эскадрильи Попкову подошел летчик с По-2 Алексей Калугин.
– Товарищ гвардии капитан, – сказал он, мучительно краснея, – прошу принять к себе. Хочу освоить "лавочкин".
Попков сочувственно улыбнулся. Ведь начинал войну Калугин летчиком-истребителем на "чайке". Был ранен. После выздоровления ему разрешили временно полетать на По-2, обслуживающем штаб дивизии. "Временно" затянулось на два года. Это на фронте-то!
Конечно, парня не покидала мечта сесть за штурвал истребителей авиационных конструкторов Яковлева или Лавочкина. Попков переговорил с начальством. Так Алексей Калугин оказался в его эскадрилье.
Комэск, несмотря на занятость, сам наметил программу по освоению Калугиным сначала учебного, а затем боевого самолета Ла-5.
Наконец программа завершена: отработаны все элементы полета, проведены воздушные бои, стрельба по конусу и щитам. Летчик готов к выполнению боевой задачи.
В первых полетах на линию фронта Калугин летал ведомым у Виталия Попкова. Это была большая честь для молодого летчика-истребителя. До конца войны он успешно участвовал в боях, за что был награжден несколькими орденами.
Кстати, уже после войны, зорко охраняя наше мирное небо, воспитанник полка гвардии капитан Алексей Калугин посадил иностранный самолет, пытавшийся производить разведку.
Мы снова перебазируемся.
Полевой аэродром Дзежковице. Взлетная полоса как бы зажата двумя рядами высоких пирамидальных тополей. Отсюда в дни затишья летчики съездили в бывший фашистский концлагерь возле города Люблина – Майданек. Это была одна из крупнейших в Европе "фабрик смерти". Даже сами гитлеровцы называли ее лагерем уничтожения. Сколько тысяч людей было истерзано, замучено, сожжено здесь! Сколько крови впитала в себя земля, сколько стонов слышала она! Уму непостижимо.
Камеры-душегубки. За пятнадцать минут в них уничтожали по сто – сто пятьдесят человек.
– Вот изверги, – переговаривались между собой летчики. – Смотрите, как придумали!
Чтобы не раздевать людей после удушья, пригоняли очередную партию, предназначенную для уничтожения, якобы в баню. Те снимали одежду, шли как бы в душевую, а на самом деле в газовую камеру. Двери камер герметически закрывались, пускался газ, и люди гибли,
Увидели гвардейцы в камере и глазок, в который палачи хладнокровно наблюдали за агонией людей, отравленных газом. Рядом находились целые штабеля баллонов со смертоносным газом "циклон".
Осмотрели вагонетки для транспортировки жертв в крематорий из пяти печей.
Выслушали рассказ чудом уцелевшего поляка – бывшего узника лагеря смерти. Показывая на барак, на окнах которого были нарисованы красные кресты, он сказал: "Думаете, здесь немцы оказывали помощь больным? Нет! Здесь они выкачивали из людей кровь и отправляли на фронт. Так называемые немецкие "врачи" проводили в этом бараке страшные медицинские эксперименты на живых людях".
Потрясающее впечатление произвел осмотр складов личных вещей... Солдатские сапоги, а рядом маленькие, изящные туфли девушки, башмаки пожилой женщины и детские туфельки. Целые тюки женских волос. Все это деловито собирали, в железнодорожных составах отправляли в Германию.
Попавшие в один из ста сорока четырех бараков живыми не возвращались. Одних сразу ждала смерть, другие проходили путь мучений. По мере того, как покидали узников силы, их перевозили из блока в блок, продвигая все ближе к крематорию.
Молча осмотрели летчики последний барак, примыкавший к дьявольским печам, которые дымили день и ночь. Провожатый сказал, что, когда ветер из лагеря нес дым на город, там невозможно было дышать.
Как потемнели лица однополчан! Возвращались молча. За все фашисты должны ответить сполна. За все!
Кочующая батарея.
Несколько дней вылетали на Сандомирский плацдарм, охотясь за кочующей тяжелой батареей немцев на левом берегу Вислы. Предполагали, что она установлена на железнодорожных платформах и совершает маневр по дороге, проходящей параллельно реке. С наступлением ночи или плохой погоды батарея подтягивалась к линии соприкосновения и методически обстреливала не только наши наземные войска, но даже близко расположенные к линии фронта полевые аэродромы. Отстрелявшись, фашисты поспешно увозили орудия в тыл и тщательно маскировали.
Огневыми налетами вражеская батарея не давала никому покоя. Она, казалось, была неуязвима с воздуха. В который раз посылались на эту цель штурмовики, но все безуспешно – та ускользала, точно невидимка.
Отправляя летчиков в разведывательный полет, командир полка напутствовал их: "Имейте в виду, вражеская батарея хорошо маскируется, быстро меняет свои позиции. Она надежно прикрыта зенитной артиллерией. Чтобы ее обнаружить, действовать надо хитро, решительно".
Просмотрены почти каждое ответвление и тупик, разбегающиеся по обе стороны от основной железнодорожной магистрали. Много раз противник встречал наши самолеты на малой высоте внезапным зенитным огнем, и тогда они возвращались на аэродром искромсанные осколками.
И вот однажды, вернувшись с разведки, капитан Игнатьев доложил:
– Батарею обнаружил. Прикрыта "эрликонами", маскируют в овраге.
Но контрольное фотографирование помогло разоблачить фашистов. Они организовали ложную батарею. P233]
И снова разведка. Все тот же Игнатьев обратил внимание на шесть крытых вагонов в железнодорожном тупике. Через день шесть крытых вагонов он обнаружил уже в другом месте, за двадцать километров, Пока на докладывал об этом командованию. Потребовался еще один вылет, чтобы обосновать предположение.
Эти крытые вагоны и были вражеской батареей.
На обнаруженную цель немедленно выслали большую группу штурмовиков.
Первая же атака Ил-2 доказала, что разведчик прав. Взрывной волной сорвало один вагон, и на платформе оказалось тяжелое орудие.
Фашистские зенитки пытались защитить батарею, но бессильны были помешать атакующим штурмовикам и истребителям.
Артиллерийские налеты сразу прекратились.
Пришел приказ откомандировать заместителя командира полка гвардии майора Лавейкина в Москву. Все знали, что его ждет новая интересная работа, но жалко было расставаться. Загрустил и он сам. Привык к однополчанам, сроднился с ними. Ведь фронтовая дружба особенная. Крепче ее не бывает.
VIII. В небе Германии
Приближался 1945 год. Декабрьской морозной ночью встретил полк наступающий Новый год. У всех было радостное настроение, каждый знал, что фашистская Германия долго не продержится. Но предстояла еще упорная рхватка за овладение последним бастионом противника – Берлином.
Встречали Новый год в полковой землянке.
Саша Мастерков принес из леса елку, ребята столпились вокруг, Сергей Глинкин глянул в добрые глаза Саши и рассмеялся:
– Быть тебе Дедом-Морозом!
Подняли шум, возню. Раздобыли паклю для бороды, побежали в БАО за новым маскировочным халатом.
– Да ну вас к бесу! – отмахивался Саша. – Почему я? Пусть Пчелкин... Он и плясать умеет и загадки загадывать.
– Нет уж. Раз принес елку из леса – наряжайся! Пчелкин вертелся возле Мастеркова:
– Саня, я тебе валенки новые достал, белые. На сорок пятый размер. Дед-Мороз в больших валенках должен быть.
Сдвинули столы, поставили елку, украсили чем могли. На макушку звезду из бумаги прикрепили, из лампочек от переносок сделали гирлянды. В землянке пахло хвоей, смолой. Потрескивали в железной печке сосновые дрова.
Пришло командование полка, техники трех эскадрилий вместе со своими командирами Попковым, Штоколовым и Шардаковым. За столом было тесно.
Комиссар полка спокойно окинул всех смеющимися глазами:
– Ничего! В тесноте, да не в обиде! – Говорил он немного, подвел итоги минувшего 1944 года. – Новый год вселяет в наши сердца светлые надежды, но перед нами еще сильный и коварный противник. Предстоят бои в логове фашистов.
Минутным молчанием почтили память однополчан, погибших в 1944 году: Владимира Барабанова, Адама Концевого, Владимира Ивашкевича, Василия Федорова, Николая Киселева, Сергея Середу и других.
После официальной части вечера состоялся ужин.
Когда на штурманских часах Петра Рожка стрелки подошли к цифре двенадцать, все встали, чокнулись кружками и выпили под звуки аккордеона.
Так пустим вкруговую
Чарку боевую.
За Дунай – советскую реку,
За любовь и дружбу,
За родную службу
В нашем истребительном полку!
Дед-Мороз всем пришелся по душе. Плечистый, с молодым лицом, в огромных валенках он так лихо отплясывал барыню, что лампочки на елке вздрагивали.
Потом Мастерков, Глинкин и Пчелкин вышли из землянки. Саша не успел снять с себя белый маскировочный халат – все еще был Дедом-Морозом. Только бороду из пакли снял.
Блестели в далеком небе неяркие зимние звезды. Большая Медведица опрокинулась над лесом. Сосны вонзались в небо, и где-то там, вверху, ходил ветер по обледеневшим макушкам.
Набрав з горячие ладони снегу, Саша стоял и смотрел в небо... На сугроб ложилась его тень: широкие плечи, ноги в больших валенках, откинутая назад голова в спутанных, мальчишеских вихрах.
Наступил новый 1945 год – год нашей победы.
Стало ясно, что оперативной паузе приходит конец. 11 января был получен боевой приказ командующего 1-м Украинским фронтом Маршала Советского Союза И. С. Конева о переходе войск фронта в наступление на врага.
Авиацию намечалось использовать для прикрытия сосредоточения главных сил фронта на Сандомирском плацдарме, для поддержки наших войск при прорыве вражеской обороны и развития успеха, для прикрытия переправ на Висле, нанесении ударов по переправам противника на реках Нида и Пилица и по аэродромам противника.
Утром 12 января войска 1-го Украинского фронта после мощной артиллерийской подготовки развернули стремительное наступление.
В тот день погода выдалась плохая: низкая облачность, хлопьями валил снег, видимость была ограниченная. И все же гвардейцы мелкими группами, парами, четверками по нескольку раз в день вылетали на "свободную охоту", брали бомбы и наносили штурмовые удары по колоннам противника.
Все светлое время следующего дня летчики трех эскадрилий сопровождали штурмовиков, поддерживающих наступление наших войск, подавляли огонь артиллерии и минометов, уничтожали войска противника. Непрерывным патрулированием пилоты нашего, 106-го и 107-го гвардейских истребительных авиаполков прикрывали танкистов 4-й гвардейской армии генерала Д. Д. Лелюшенко при преодолении ими рубежа обороны противника на реке Нида.
Ни одна группа вражеских самолетов не смогла нанести удар по нашим войскам, ни один самолет не был допущен в район действия подвижных групп. Особенно успешно действовали гвардейцы первой эскадрильи под командованием гвардии капитана Попкова.
17 января войска фронта овладели городами Ченстохов, Радомск. Полк вместе с дивизией перебазировался на полевой аэродром Житно, в восьмидесяти километрах западнее города Кельце. Здесь авиаторов ожидали большие неприятности.
Передовые части, прорвавшие фронт, ушли вперед, и местность не была очищена от врага. Группировка немцев, действовавшая севернее Кельце, начала отход на запад, используя леса. Солдаты противника, гонимые голодом и страхом, выходили из леса прямо на аэродром. Но если авиация сильна своим вооружением в воздухе, то на земле это оружие не приспособлено для боя, а, кроме него, у офицеров Имелись только пистолеты. Поэтому летчикам и техникам выдали ручные гранаты. Вооружили, так сказать.
Для охраны самолетов пришлось пойти на некоторую изобретательность: машины стягивали в плотные группы, разворачивали носами на наиболее угрожаемые направления. А чтобы можно было вести огонь из бортовых пушек по земле, хвосты самолетов устанавливались на козелки и закреплялись. В кабине каждой машины всю ночь дежурил оружейник, готовый по первому сигналу открыть стрельбу. Это был не прицельный огонь, но плотный, трассирующий, так что действовал на фашистов морально. Кроме того, в обороне аэродрома принимали участие и базировавшиеся здесь же Ил-2. Расставленные в определенных секторах, своими турельными пулеметными установками они могли вести прицельную стрельбу.
2 мая на аэродром Далгов нахлынула группа фашистов, около трех тысяч солдат и офицеров с танками и штурмовыми орудиями. Там в это время базировались полки 265-й истребительной авиадивизии, самолеты которых по тревоге были подняты в воздух.
Личный состав управления авиакорпуса, двух батальонов аэродромного обслуживания, техники и специалисты трех авиаполков вступили в бой с противником. Жаркая схватка продолжалась в течение дня до позднего вечера. Летчики штурмовыми атаками с воздуха поддерживали бой своих товарищей на земле. Пришлось немцам сдаваться.
Все чаще, предварительно нацепив грязную "белую" тряпку, немецкие солдаты выходили из лесу в надежде раздобыть что-нибудь из продовольствия. Это были уже не те вояки, которые нагло рвались к Москве. Чаще всего пожилые солдаты, а иногда совсем юные, безусые ребята. Но встречались и закоренелые фашисты. Те продолжали, как безумные, двигаться на запад.
20 января 1945 года истребители нашего полка впервые появились в небе фашистской Германии. Час возмездия настал!
Земной бросок
Войска фронта так стремительно продвигались вперед, что для авиации не успевали готовить аэродромы, и она оказалась далеко в тылу. 25 января передовые части фронта вышли на реку Одер в районе Бреславль, Глогау и заняли на ее западном берегу ряд плацдармов. Полки авиадивизии приземлились близ населенного пункта Гола. С этой площадки наши летчики вели напряженную боевую работу, оказывая содействие наземным войскам, непрерывно штурмовали автоколонны на дорогах, а главное, наносили удары по окруженной группировке немцев в районе Лешно. Истребители успевали прикрыть работу штурмовиков и наземные войска на плацдармах за Одером в районе города Глогау.
В начале февраля зима была неустойчивой. На смену морозам пришла оттепель, да такая, что не только согнала снег с полей, а и ослабила грунт. Намокла, разбухла взлетная полоса, наступила настоящая распутица. На нашем аэродроме всюду непролазная грязь. Сиротливо дремлют на стоянках истребители, укрытые брезентовыми чехлами. Колеса шасси самолетов глубоко провалились в раскисшую землю, увязли в ней по самую ось. Ни о каком взлете с такого аэродрома не только истребителя, но и самого легкого самолета По-2 не может быть речи. Включенный мотор воздушным винтом поднимает фонтаны воды и грязи, забивает масляный радиатор. И хотя мотор работает на всю мощность, самолет не трогается с места.
Все наши попытки как-то осушить взлетную полосу ни к чему не приводят. Что делать? Широких автомагистралей, которые можно использовать в качестве взлетно-посадочной полосы, поблизости нет. Ждать, когда наступят морозы, нельзя. Ведь и так немецкая авиация, базируясь на стационарных аэродромах, заметно активизировалась.
Над нашими наземными войсками, находящимися на передовой линии, непрерывно висели фашистские бомбардировщики, штурмовики и истребители. Интенсивно вели корректировку артогня Хе-126 и ФВ-189. Заметно увеличились потери на земле, и виной всему – отсутствие прикрытия с воздуха. Как помочь наземным войскам? Выход только один – перебазировать каким-то образом самолеты на другую площадку с более твердым грунтом. Начались поиски такой площадки. Ее нашли у местечка Прибыш. Но как туда перебраться? Взлететь невозможно. Наземные части ждут помощи с неба, а здесь – раскисший аэродром. Грустные летчики сидели в землянках, когда в эскадрилью Попкова пришел инженер полка Наум Каплуновский.
– Что вы головы повесили?
– Это болото скоро не высохнет, – кивнул Попков на взлетную полосу. Так без нас дойдут до Берлина.
– Теперь как в сказке Пушкина: "Ждите у моря погоды", – подытожил Мастерков.
– Волоком бы перетянуть самолеты, как в старину на Руси струги тянули, – шутя посоветовал Глинкин.
– Стоп! Да ведь это же, братцы, идея! – оживился инженер.
Все три комэска во главе с Каплуновским направились к командиру полка и предложили ему свой план. Тот не возражал. Решено было подтащить самолеты к проходящей рядом шоссейной дороге, отсоединить плоскости и погрузить на автомашины хвостовые части самолетов, укрепив их веревками.
Начали с первой эскадрильи, едва сгустились сумерки. Весь вечер и ночь летчики и техники буквально на собственных спинах подтаскивали самолеты к шоссейной дороге, утопая в черном мессиве грязи. Созданные бригады тут же, при свете фар, разбирали и готовили их к погрузке. Начальник штаба Калашников организовал из вооруженных мотористов и двух штабных офицеров контрольно-пропускной пост, который останавливал все идущие порожняком машины, направляя их к месту погрузки. Часть автомашин прибыла из Б АО и дивизии.