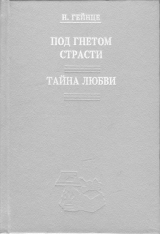
Текст книги "Тайна любви"
Автор книги: Николай Гейнце
сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 22 страниц)
XVII. Под бичом друга
Казалось, что случайно прибыли разом все приглашенные.
Их было двое мужчин и три дамы, при первом взгляде на которых не оставалось сомнения, что они принадлежали к петербургскому «полусвету». Кричащие наряды, вызывающие взгляды, слишком большое количество драгоценных камней, чтобы они могли быть куплены мужем или одним любовником.
Караулов вздрогнул.
По количеству приглашенных женщин он понял намерение хозяина.
В том кругу, где вращался граф, женщина считалась гастрономической принадлежностью обедов и ужинов, как и последний деликатес сезона в виде свежих огурцов и земляники в декабре.
Среди прибывших дам была, значит, и его, Федора Дмитриевича, порция.
Чувство невыносимой гадливости наполнило его душу.
Вопрос, что ему теперь делать, он обсуждал только одно мгновение.
Граф Белавин, уже радушно встретив гостей, начал представлять его.
– Позвольте вам представить, божественная Эстер, и всем вам, господа, – подвел силой Караулова Владимир Петрович к великолепной брюнетке, глаза которой были полны обещаний, – доктора Караулова, современную знаменитость, только что одержавшего блестящую победу над самой страшной и опасной при первом ее объятии женщиной – холерой… Но что для меня дороже всего – это мой лучший друг.
Шепот одобрения пронесся среди присутствующих при этом остроумном представлении.
– Это прелестно… Женщина, самая страшная и опасная при первом ее объятии… Это действительно так…
– Восхитительно!
– Остроумно!
Таковы были посыпавшиеся замечания, сопровождаемые веселым смехом.
Не до смеха было одному Караулову.
Он стоял возле хозяина, серьезный, бледный как полотно и до боли кусал себе нижнюю губу.
Вдруг он порывисто взял под руку графа и, отведя его в сторону, сказал с дрожью в голосе:
– Ты мне позволишь проститься с тобой и уехать, я теперь узнал твой укромный уголок.
Граф широко раскрыл глаза.
Группа гостей с хозяйкой стояли в стороне и перешептывались между собой, поняв, что случилось что-то неладное.
Не дожидаясь ответа, Федор Дмитриевич вышел из гостиной в зал.
Опомнившись от первого смущения, Владимир Петрович бросился за ним.
– Как? – сказал он. – Ты уходишь… Что это значит?
– Да, мой друг, с твоего позволения я ухожу.
– Что за мистификация! Я ничего не понимаю… Почему ты уходишь?..
– Да потому, что, получив твое приглашение, я думал провести время только с тобою, если не у тебя, то в ресторане, или в клубе…
– Но разве ты не у меня?
– Я этого не знаю… Твои гости совсем не гармонируют с моим представлением о твоем доме.
Краска бросилась в лицо графа.
– Послушай, Караулов, ты это делаешь нарочно, чтобы меня обидеть…
– Поверь мне, что я не имею этого намерения… Понимай как хочешь мои слова, но я тебе раз навсегда заявляю, что я твой друг, но не товарищ твоих забав и развлечений… Всякому своя роль и свое место… Я не могу тебя похвалить и потому удаляюсь, чтобы не порицать.
– Да-а… – протянул граф с деланной усмешкой, – ты боишься себя скомпрометировать в моем обществе…
Караулов пожал плечами.
– Нет, это не то… Везде, в другом месте, я буду с тобой, если ты пожелаешь… Здесь же мне нечего делать, да и оставаться я здесь не в силах, это противно моим жизненным принципам… Я нахожу неприличным доводить дружбу до соучастия… Я не знаю закона, который бы делал измену обязательной…
– Измена… – усмехнулся граф, – вот настоящее слово… Теперь я понимаю… Но я не сержусь на тебя… Ты имеешь право говорить мне все… Я отвечу тебе, впрочем, только одно на твои нравоучения «времен очаковских и покорения Крыма»… Ты находишь, что я злоупотребляю правом мужа?
– Неужели право мужа доходить до того, чтобы тратить деньги своей жены на обман ее же самой!
Это восклицание, невольно вырвавшееся у Федора Дмитриевича, было ужасно.
Честность иногда груба.
Караулов нехотя был грубым.
Граф Владимир Петрович отступил от него на один шаг.
Он был бледен как полотно.
Его голос дрожал, когда он отвечал Караулову:
– Я не понимаю, что с тобой сегодня, но я знаю, что даю тебе в эту самую минуту такое сильное доказательство дружбы, какое может дать человек. Умерь свои выражения.
Федор Дмитриевич и сам понял, что он зашел слишком далеко.
Это не могло быть средством удержать заблудшего.
– Прости, я тебя оскорбил… Но я не умею притворяться. Да и может ли настоящая дружба соединяться с необходимостью притворства… Дай мне высказать все, что у меня на душе.
– Хорошо… Но постарайся быть кратким… Мои гости ждут с нетерпением обеда… Они голодны…
– О, в таком случае ступай, я тебя не задерживаю… Иди угощать этих полудевиц и полулюдей. Друг, который осуждает, несносен… В тот день, когда тебе понадобится искренность, ты придешь ко мне… Я не теряю на это надежды…
Он быстро пошел по направлению к передней.
Владимир Петрович бросился за ним и загородил ему дорогу.
Было видно, что он страдал.
– Караулов, – воскликнул он, – ты не уйдешь таким образом.
Федор Дмитриевич оглядел его с ног до головы.
– Каким же образом ты хочешь чтобы я ушел? Изволь, я скажу тебе на прощанье, что я искренно тебя люблю, а потому искренно жалею.
– Если ты меня жалеешь, останься… Не покидай меня.
– Остаться… Да ты сошел с ума… Ты не понимаешь сам, что говоришь… Освятить своим присутствием всю эту гнусную профанацию твоего домашнего очага, твоей жены и ребенка… Оправдать участием твое прелюбодеяние… Пить вино твоего разврата, есть хлеб твоего преступления… И делать все это, когда, быть может, в этот самый час дивное созданье, женщина-совершенство, проливает горькие слезы над колыбелью твоего ребенка… Неужели ты считаешь меня на это способным?.. Ты только сейчас бросил мне упрек, что я нанес тебе обиду… А разве ты, предложением Мне остаться здесь, не наносишь мне обиду, еще более тяжелую?..
Граф стоял с опущенной долу головой, как преступник перед своим судьею.
Он молчал.
Слова Федора Дмитриевича бичевали его.
Караулов с радостью наблюдал смущение своего друга; он надеялся, что он сумел заронить в его душу угрызения совести.
– Однако, прощай, – сказал он, – твои гости действительно заждались… Постарайся быть веселым, заставь веселиться и их, забудь слезы твоей жены и упреки твоего друга.
– Это жестоко, Караулов, – произнес глухим голосом, не поднимая головы, граф. – Ты прав, я виноват… Но, быть может, если бы ты был мой действительный судья, я сумел бы тебе представить смягчающие мою вину обстоятельства…
– Я тебе не судья, Владимир, я только твой друг. Обязанность друга протянуть руку тому, кто падает в пропасть, помочь ему в нужде и даже пожертвовать жизнью для него. Твой судья – это Бог, это общество, которое тебя отвергнет… и более всех – это твоя совесть, ты не убежишь от нее и ты ее не обманешь…
Он взял руку графа Белавина, дружески пожал ее и почти бегом сбежал по лестнице в швейцарскую, где, одевшись, также быстро выскочил на улицу.
Все человеческое было в нем возмущено.
Между тем, после его ухода, граф Владимир Петрович присоединился к своим гостям, все продолжавшим перешептываться с загадочными улыбками.
Белавин понял, что эти шепот и улыбки были по его адресу и его ушедшего так внезапно друга.
Никто, впрочем, его не спросил о происшедшем инциденте.
Граф первый заговорил:
– Вы только что видели, господа, самого добродетельного человека XIX столетия… Этот застенчивый ученик Эскулапа испугался прелестей наших дам и предпочел убежать от соблазна, который, чувствовал, не мог победить…
– Это делает честь нашим дамам. Ваш друг сделал им верную оценку, – заметил, вбрасывая в глаз монокль, один из присутствовавших светских хлыщей, – и я отказываюсь обвинять тех, кто сторонится огня, особенно если обладает легко воспламеняющейся натурой.
Остальные согласились с этим и отправились в столовую.
Оргия началась.
Вино вскоре развязало еще более языки и усыпило человеческие чувства.
Впечатление, произведенное на графа Владимира поступком, а главное словами его друга, постепенно сгладилось.
Ему стала даже представляться смешной фигура Федора Дмитриевича в роли строгого моралиста.
– Я очень люблю этого Караулова, – между прочим заметил Белавин, так как разговор продолжал вертеться на убежавшем докторе, – но он не из тех, которым добродетель приятна… Это какой-то дикарь…
– Ба!.. – со смехом сказала одна из этих дам: – эти дикари делаются скоро ручными, и если остаются людоедами, то… едят только женщин…
– Браво, Клара! – воскликнули, аплодируя этой фразе, мужчины.
– Ты сегодня умна, – заметил один из них.
– А я за все время нашего долгого знакомства не имела дня, когда бы могла тебе сказать тоже самое, – отпарировала Клара.
Одна Фанни Викторовна не проронила ни слова в продолжение всего ужина.
Она сидела в глубокой задумчивости и почти не дотрагивалась до изысканных яств. Ее стаканы и рюмки стояли нетронутые перед ее прибором.
Граф Владимир Петрович, несмотря на то, что заметно захмелел, с беспокойством поглядывал на нее.
– Что с тобой, Фанни? – наконец спросил он. – Неужели доктор произвел на тебя такое впечатление?
– Нам редко приходится встречаться с такими людьми… – не смотря на графа, произнесла Фанни Викторовна.
– Что ты хочешь этим сказать?
– Ничего более того, что сказала…
– Ты, кажется, не на шутку в него влюбилась, – пошутил граф; – если бы он мог это предвидеть, он, наверное, бы остался, несмотря на свое пуританство.
Тем менее ему было причин оставаться, – со вздохом заметила молодая женщина.
– Я окончательно не понимаю тебя! – сделал Владимир Петрович большие глаза.
– Да меня нечего понимать… или, если хочешь, тебе меня и не надо понимать…
Граф раскрыл было рот, чтобы задать еще какой-то вопрос, но Фанни Викторовна с такой необычайной злобною строгостью взглянула на него, что он прикусил язык.
Она между тем схватила бокал с вином и деланно веселым тоном воскликнула:
– Да погибнет прошедшее, да не смущает нас будущее, попьем за настоящее!
Все гости шумно поддержали этот тост и потянулись чокаться с хозяйкой.
Протянул свой бокал к Фанни Викторовне и граф Владимир Петрович.
Она рассеянно чокнулась с ним и также рассеянно сказала, ни к кому, в сущности, не обращаясь:
– В жизни каждой из нас были переулки, из которых мы вышли на широкую людную улицу… Как знать, не лучше ли было бы, если бы мы и остались в переулках… – Что же вы не пьете, господа? – вдруг переменила она тон.
Лакеи стали разливать вино.
Оргия продолжалась.
Никто не обратил внимания на загадочную фразу хозяйки.
Все были слишком пьяны и слишком веселы, чтобы предаваться размышлениям.
Один граф Белавин некоторое время поглядывал с беспокойством на Фанни Викторовну, но стаканы взяли свое – он забыл странные слова своей содержанки.
Конец первой части.
Часть вторая. ПЕРЕУЛКАМИ НА УЛИЦУ
I. Непризнанный писатель
Мелкий газетный труженик Виктор Сергеевич Геркулесов, после десятилетней борьбы с нищетой и всяческими лишениями, женился на мастерице-золотошвейке Агнии Петровне в то время когда, судьба ему начала улыбаться и он пристроился в качестве постоянного сотрудника к одной, обеспеченной в завтрашнем дне газете. (Есть в Петербурге газеты, редакторы-издатели которых, выпуская номер сегодня, не знают, выпустят ли его завтра.)
Прежде всего он заказал себе визитные карточки: «Постоянный сотрудник газеты „Столичная Сплетница“ и многих периодических изданий» и затем женился на Агнии.
Жениться на Агнии, как он выражался в кругу своих товарищей и собутыльников, Виктор Сергеевич выпить был, как говорится, не дурак, – он считал своей обязанностью – он дал ей слово, и дал его при исключительных обстоятельствах.
Надо заметить, что Геркулесов жил с Агнией Петровной уже лет семь в одной комнате, снимаемой ими от съемщицы в одном из глухих переулков Петербургской стороны, жил, как муж с женой, но не женился.
– Жениться – связать себя. Литератору, художнику, артисту не следует жениться, они должны быть свободными; недаром их профессии называются свободными, – говаривал Виктор Петрович, сидя в компании таких же как он «литераторов уличных листков» в излюбленном ими ресторанчике на Малой Конюшенной.
Геркулесов мнил себя «литератором», и в первые годы его газетной работы перед ним даже витала надежда на известность, на славу.
В душе он был артист: немножко художник, немножко музыкант, немножко актер и очень немножко писатель.
Художество его не пошло дальше легких набросок карандашом; по музыке он преуспел лишь настолько, чтобы с трудом по слуху наигрывать на рояле мотивы из слышанных опереток; как актер он подвизался лишь на любительских сценах и сценах клуба Петербургской стороны, недалеко ушедшей от любительской, да и то во второстепенных ролях, а как писатель ограничивался сообщением полицейских отметок; впрочем, иногда появлялись его краткие заметки о художественных выставках и рецензии о концертах и спектаклях. В эти отделы, впрочем, редакторы газет пускали его, скрепя сердце, за неимением сведений от другого лица, по-военному правилу, когда за маркитанта сходит и блинник.
День помещения рецензий и отчетов для Геркулесова был днем праздничным.
Товарищи знали об этом по одному виду, с которым Виктор Сергеевич входил в ресторанчик на Конюшенной.
– Где помещено?.. – спрашивали они с иронической улыбкой. Геркулесов не замечал ни ее, ни тона и показывал газету.
– Читали?..
Обыкновенно оказывалось, что не читали, и Виктор Сергеевич требовал у лакея газету, где была напечатана его заметка, и тут же вслух прочитывал ее.
Товарищи слушали внимательно, тем более, что за этим чтением – они знали это – следовало угощенье на счет автора, скромное, но даровое.
При состоянии карманов «писателей уличных листков» последнее качество было главным.
– Молодец, Геркулесов, однако, как ты умеешь отделать…
– Буренину сорок очков вперед даст…
– Что твой Стасов об искусстве разговаривает…
– Иванова за пояс заткнет…
Такие замечания слышались по адресу автора, смотря по роду прочтенной заметки.
Геркулесов сиял и пропивал почти последние деньги.
Повторялась старая, но вечно новая басня о «Вороне и Лисице».
Напиваясь, он делался мрачным, и те горькие мысли, которые у трезвого точили втихомолку его мозг, вырывались наружу…
Он говорил о людской несправедливости, о редакционном кумовстве, о неумении выбирать и ценить людей редакторами и издателями.
– Писатель, большой писатель во мне погибает! – восклицал он, потрясая кулаком в пространство.
Это уже считалось пределом для его опьянения, товарищи исчезали из-за стола один за другим и нетвердой походкой удалялись из ресторана.
Геркулесов некоторое время оставался погруженным в горькие думы.
Заботливый приказчик помогал ему рассчитаться и посылал одного из лакеев проводить его до извозчика.
В глазах этого приказчика он был все же нужный человек, да и опасный – «постоянный гость» и «газетчик».
Мнить себя непризнанным великим писателем Виктор Сергеевич стал с того дня, как в одном из еженедельных, на первых же номерах прекратившемся, журнале был напечатан его маленький рассказ: «Секрет».
Редактор-издатель – бывший судебный пристав, рассыпался в похвалах его таланту, предсказывал ему будущность, но гонорара не заплатил.
После этого, чисто литературного, дебюта Геркулесов исписал целый ворох бумаги, но, увы, бывших судебных приставов, ценителей изящной литературы не было более в среде редакторов петербургских газет и журналов, и писания Виктора Сергеевича не предавались тиснению.
Отсюда и происходила его мрачность после выпитой лишней рюмки вина.
В трезвом виде Геркулесов примирился с годами со своей судьбой и даже с иронией называл себя не литератором, а «специалистом по пожарам».
Действительно, Виктор Сергеевич – страстный охотник до пожаров, описывал их с необычайною точностью и даже не без таланта. Этим скромным дарованием и объясняется то, что он был принят постоянным сотрудником одной очень распространенной газеты.
Но повторяем, не эта сравнительная обеспеченность положения подвинула его решиться на брак с Агнией, для этого существовали другие причины.
В течение семилетнего совместного сожительства Агния Петровна несколько раз готовилась быть матерью, но всегда неблагополучно.
– Нет Божьего благословения! – говаривала она.
Виктор Сергеевич хотя был немножко вольнодумцем и вслух смеялся над Агнией за ее отсталость и глупые предрассудки, но после третьих досрочных и неблагополучных родов женщины, которую, если он и не любил в романтическом смысле, но привык видеть около себя в течение долгих лет, и которая все же часто выручала его и делила с ним и горе, и радость, стал задумываться.
Незадолго до получения Геркулесовым постоянных занятий в распространенной петербургской газете «Столичная Сплетница», именно в то время, когда он мечтал о сотрудничестве в ней, Агния Петровна снова почувствовала себя матерью.
– Одна болезнь и мука, – добавила она, сообщив своему сожителю о своем положении; – не доношу, как всегда, не доношу, нет Божьего благословения.
– Вот что, Агния, – после некоторой паузы, сказал Виктор Сергеевич, – если Бог даст, получу место в газете тут одной, тогда я на тебе женюсь… Ребенок будет законный…
– Милый!.. – воскликнула Агния Петровна. – Да неужто?
– Сказал, значит верно…
К чести Геркулесова, надо сказать, что он действительно умел держать слово.
Это знала Агния Петровна и усердно молилась, чтобы он получил желанное место.
Место было получено, и Виктор Сергеевич, как мы уже знаем, заказал визитные карточки и затем женился.
Свадьба была более чем скромная.
Присутствовали необходимые свидетели – товарищи по перу жениха, квартирная хозяйка и несколько подруг невесты по мастерской.
Невеста была в своем праздничном платье с блузкой, несколько скрывавшей ее положение, жених – в тщательно вычищенном сюртуке.
Некоторая полнота талии невесты не удержала, однако, шаферов приколоть к своим сюртукам цветы флер д'оранжа.
Квартирная хозяйка уступила на этот торжественный вечер свои комнаты, где гости с рюмками водки и стаканами пива в руках, то и дело кричали «горько» и желали счастья молодым.
Молодые целовались.
Жизнь после дня свадьбы пошла своей обычной колеей.
Нравственно успокоенная, Агния Петровна действительно родила девочку, но, по словам квартирной хозяйки, такого «заморыша», что глядеть было страшно.
Но «заморыш» был жив – благословение Божие оправдывалось.
Мать, озабоченная, чтобы ребенок остался в живых, чутко прислушивалась ко всем советам кумушек Петербургской стороны.
Одним из почти единогласных советов было окрестить ребенка именем святой, празднуемой в день ее рождения.
Девочка родилась 19 августа и к выбору предстояло два имени Агапии и Феклы.
Агния Петровна выбрала последнее, тем более что так звали ее бабушку.
Немножко вольнодумец Виктор Сергеевич, как и все вольнодумцы, был суеверен и, попротестовав несколько для проформы, согласился.
Девочку окрестили Феклой.
Ребенок, действительно, месяц от месяца стал поправляться, как бы оправдывая народную примету, на которой был основан совет кумушек Петербургской стороны.
К году уже это был совершенно крепкий, здоровый ребенок.
Время летело.
Постоянное сотрудничество в газете «Столичная Сплетница», хотя и не давало многого, но все-таки, некоторым образом, обеспечивало существование семьи Геркулесовых, так как Агния Петровна должна была расстаться с золотошвейной мастерской и брать лишь небольшую работу на дом.
Заработок ее, однако, все же служил некоторым подспорьем, и Геркулесовы жили сравнительно безбедно, хотя и остались в прежней комнате на Петербургской стороне.
Когда Феклуша подросла и ей пошел уже шестой год, Агния Петровна снова стала ходить в мастерскую, и заработок еще более увеличился.
Дома за девочкой, по просьбе матери, присматривала квартирная хозяйка.
Когда девочке минуло восемь лет, Виктор Сергеевич стал сам учить ее грамоте, и Феклуша оказалась чрезвычайно понятливой и прилежной.
– Вся в меня! – с гордостью говорил отец.
Они могли бы при заработках Геркулесова жить еще в большем довольстве, если бы не несчастная наклонность Виктора Сергеевича к рюмочке.
Его нельзя было назвать пьяницей, так как один он не пил ни вина, ни водки и даже забывал, порой, выпить рюмку перед обедом, но при всякой случайной даже компании не мог удержаться, чтобы не выпить лишнюю рюмку, а раз ему она попадала в голову, он, как мы видели, напивался почти до положения риз.
В таком-то виде однажды летом он возвращался с приятелями пешком из Лесного, попал под паровую конку, которая и отрезала ему обе ноги.
Несмотря на то, что это случилось невдалеке от клиники, Виктор Сергеевич истек по дороге кровью, и в клинику принесли один обезображенный труп.
Дочери Геркулесова – Феклуше шел в то время двенадцатый год.
Погоревав о потере мужа, Агния Петровна поместила дочь ученицей в ту же мастерскую, в которой работала сама, и стала жить на вдовьем положении в той же комнате на Петербургской стороне, в которой жила с мужем и куда теперь ее милая девочка, как она называла свою дочь, приходила только по воскресным и праздничным дням.
Жить стало, конечно, труднее, и Агния Петровна, из желания побаловать дочку на праздниках сладким кусочком и обновкой, работала не только в мастерской, но и дома, не разгибая спины.
Пять лет такой жизни окончательно подорвали ее силы; к этому присоединилась еще простуда, она заболела воспалением легких.
Отправленная в Обуховскую больницу, она через три недели отдала Богу душу от скоротечной чахотки, развившейся из воспаления.
Смерть любящей матери случилась именно в тот год, когда ее любимая дочь кончила ученье и стала в мастерской такой же мастерицей, как ее мать.
Обе они мечтали о совместной жизни и работе, но неумолимая коса смерти сделала Феклушу сиротой.
Квартирная хозяйка оставила молодую девушку в той же комнате, где жили ее родители, и даже сбавила ей цену. Девочка выросла на ее глазах, она привыкла к ней и любила ее как дочь.
Одиночество – это страшное ощущение окружающей пустоты и беспомощности, несмотря на отношение к Феклуше квартирной хозяйки, охватило молодую девушку.
Возвращаясь из мастерской, она, охваченная холодом пустой, неприютной комнаты, проворно ложилась в постель, пытаясь убить сном скуку долгих, особенно зимних, вечеров.
Феклуша была странная девушка.
В ней бушевали и смутно боролись и страстность, и отвращение к труду, и презрение к бедности, болезненная жажда неизведанного, неопределенное разочарование, страшное воспоминание тяжелых дней при жизни матери, а в особенности при жизни отца; злопамятное убеждение непризнанного писателя, что покровительство достигается низостью и подлостью; врожденное стремление к роскоши и блеску, нежная истома, наследованная от отца, нервозность и инстинктивная леность матери, которая делалась бодра и мужественна только в тяжелые минуты и опускалась, как только проходила беда – все это мучило и волновало ее.
К несчастью, мастерская, куда она ходила, не могла удержать ее, направить и пробудить ее добрые инстинкты.
Женская рабочая мастерская – это преддверие житейского омута.
Феклуша скоро свыклась с разговорами своих подруг.
Сгибаясь над своей кропотливой работой, они находили время болтать без умолку.
Их разговоры не отличались разнообразием – все они вертелись на мужчинах.
Такая-то жила с богачом, столько-то получала в месяц.
И все принимались восхищаться новым медальоном, кольцом или серьгами – подарками любовника.
Все завидовали счастливице и приставали к свои любовникам, чтобы в свою очередь похвастать обновкой.
Такова атмосфера всякой женской мастерской.








