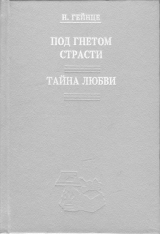
Текст книги "Тайна любви"
Автор книги: Николай Гейнце
сообщить о нарушении
Текущая страница: 15 (всего у книги 22 страниц)
– Положительно не могу…
– Он доктор, ты его еще несколько лет тому назад пригласил ко мне на обед, но он испугался нашего общества и сбежал.
– А Караулов… – догадался граф Владимир Петрович, – Федор Дмитриевич… Ты интересуешься Карауловым… Однако как долго.
– Я даже забыла его имя… Так вдруг пришла на память смешная сцена… Где же он?
– Он за границей… Все учится и, видимо, выучиться не может, – шутливо сказал граф. – Его имя, впрочем, часто теперь встречается в газетах, и если он соблаговолит, наконец, пожаловать в любезное отечество, то явится готовой знаменитостью.
– В каком же он городе?
– Вот этого я не могу сказать с точностью.
– Как, ты не имеешь никакого сведения о человеке, которого ты называл своим лучшим другом?
– Увы, не имею, мне стыдно в этом сознаться, но у меня столько было дел с тех пор.
Фанни Викторовна весело рассмеялась.
– Хорош друг…
Граф вздохнул и после некоторой паузы отвечал:
– Я имею слишком много причин его так называть. Я питал и питаю, что ни произошло между нами, к нему искреннюю, истинную любовь.
– Значит, этот господин обладает хорошими качествами, а не просто комедиант… – небрежно бросила Фанни Викторовна.
Граф Владимир Петрович вспыхнул.
– Моя милая, я признаю за тобой опыт в распознавании мужчин, но есть порода их тебе неизвестная, которая никогда не будет предметом наблюдения твоего и тебе подобных. К этой породе принадлежит и Федор Дмитриевич Караулов. Я, быть может, резок, но я говорю правду.
Она нисколько и не обиделась.
Это его поразило, так как он спохватился слишком поздно, что сказал ей дерзость.
Она возразила с веселой улыбкой и внутренно была, видимо, довольна этими пылкими возражениями:
– Это хорошо, Владимир! Ты единственный порядочный человек, которого я знаю. Ты храбро защищаешь твоих друзей. Только ты мог бы избавить меня от дерзости, которую сейчас мне сказал… И главное, без всякого основания…
– Извини меня, мой друг, – сказал граф Владимир Петрович нежно и вкрадчиво, – если я тебя обидел, то, право, я этого не хотел… Что же касается до основания, то ты возмутила меня тем, что назвала моего друга простым комедиантом.
Она расхохоталась, посмотрела прямо ему в глаза и положила свои изящные руки на его плечи.
Они сидели рядом на маленьком диванчике в ее будуаре.
– Я думала далеко не то, что говорила… Но довольно, не будем возвращаться к этому разговору… Я тебе повторяю, что ты не имеешь никакого основания сердиться за твоего друга именно на меня, и если я тебя спросила о нем, то совсем не из желания его обидеть, или над ним насмеяться, далеко нет, напротив…
– Вот как… Но в таком случае, почему ты спросила о нем?
– Я могу сказать одно, что этот Караулов оставил во мне глубокое впечатление.
– Как же это? Ты его видела не более пяти минут.
– Больше и не надо, чтобы получить удар грома.
Настала очередь засмеяться графу.
– Пощади, Фанни, и не говори этого, по крайней мере, мне… Для тебя… удар грома…
Граф продолжал хохотать.
Фанни Викторовна рассердилась на эту выходку более, чем на сказанную им дерзость.
– Но почему же нет? – спросила она строго. – Чем я гарантирована от этого?
– Если ты хочешь знать, изволь… Но не обижайся, я буду говорить правду…
– Говори.
– Первое условие удара грома то, что молния должна найти место, куда ударить, т. е. сердце… Но ты согласись, Фанни, ты хороша, как богиня, ты умна, как демон, зла, как пантера. Но…
Он остановился.
– Что же «но»?.. – спросила молодая женщина.
– Но сердца у тебя нет, никогда не было и не будет.
Вдруг в этой флегматичной и равнодушной женщине произошла положительная метаморфоза.
Она встала, скрестила руки и посмотрела гордо на графа.
Ее голос был как-то особенно чист.
Гнев придал ему металлические ноты.
Она заговорила.
XIV. Любовь женщины
– А! – воскликнула она. – Нет сердца! Ты думаешь это? Как это просто сказано! Нет сердца! Обманутая, оскорбленная преимущественно первым любовником, женщина 524 мстит на других, потому что делается практичнее, умнее и расчетливее, потому что общество навсегда ей отказывает в возможности раскаяния и восстановления, она обречена бывает на страшную роль продавщицы удовольствий. Нет сердца! Не скажешь ли ты, что вы, мужчины, сами по себе имеете право нам делать этот упрек? Разве у вас есть сердце? Ни несчастье, ни унижение, ни вечный стыд бедной девушки вас не остановят. Разве ты имеешь сердце, ты, граф Белавин, ты, женившийся на деньгах и не поколебавшийся их бросать по всем углам разврата.
– Фанни! – крикнул граф Владимир Петрович, у которого вся кровь бросилась в голову при этой тираде его содержанки.
Но Фанни Викторовна продолжала:
– Но, милый друг, не можешь же ты требовать себе преимущество оскорблять только меня… Я тебе отплатила… Может быть, я не совсем права, так как, по правде, ты лучше многих других… Нет сердца! Всякая женщина, к несчастью, имеет его, но не встречает вокруг себя человека, которому стоит отдать это сокровище… Она хранит его при себе и никого не любит… Этот призрак любви, которым вы довольствуетесь – не любовь… Где и когда любовь покупалась?.. Если ты веришь этому, ты сумасшедший… Но ты не веришь, нет человека, который этому верил бы. Да вы и не ищете любви… Притворства для вас достаточно, оно вас удовлетворяет вполне, любовь обязывает отвечать любовью, за притворство же, за комедию вы только платите… Большего вы не требуете, да большего вы и не стоите…
Раздражение графа Белавина прошло.
Он восторженно смотрел на молодую женщину, с глубоким почтением прислушиваясь к ее словам.
Она была действительно в эту минуту особенно хороша, а главное, искренна и права.
– Черт возьми, – не выдержал он, – я тобой восхищаюсь, ты красноречива. Я не знал за тобой этого таланта. Право, интересно и поучительно слышать женщину, говорящую громко, что она всю жизнь играла комедию.
– Мы эту комедию играем после, – холодно возразила она, – вы же мужчины, играете ее раньше. Любовь, клятвы в верности, вот ваши вечные слова, слова обмана; фразы, взгляды, жесты, все деланно, а мы бываем настолько глупы, что поддаемся. Но долг платежом красен – мы вам впоследствии платим тою же монетою. Часто тот же мужчина, который заставлял нас проливать кровавые слезы, приходит плакать как ребенок у наших дверей. Не всегда, конечно, так как иначе справедливость торжествовала бы на земле, а этого нет… Но мы имеем утешение отыскать других…
Она остановилась и вдруг переменила тон:
– А ты, мой милый графчик, ты всегда верил, что я была честной девушкой, когда ты меня взял, или по крайней мере, совсем новичком в любви, девушкой с маленьким пятнышком на прошлом, пятнышком, очень удобным для вас, мужчин, потому что оно облегчает как победу, так и разлуку. Успокойся, я прошла огонь и воду и медные трубы раньше, нежели на сцене опереточного театра стала разыгрывать неприступность… Вот тогда ты меня и узнал, мой милый графчик… Ты должен отдать мне справедливость, что я хорошая актриса.
Каждое слово молодой женщины было ударом бича по самолюбию графа Белавина.
Добившись взаимности, на самом деле казавшейся, неприступной m-lle Фанни, он действительно торжествовал победу.
Он с горечью теперь припомнил это, как припомнил и даже почти мгновенно высчитал все произведенные им на нее расходы, доходившие до внушительной цифры.
Фанни Викторовна читала на его лице, как в открытой книге.
Она наслаждалась смущением разоренного ею любовника.
Это была превосходная актриса, которая давно уже и твердо изучила свои жизненные роли.
Она решила, наконец, нанести ему последний удар.
– Таким образом, мой милый, ты не удивишься, если обеспечив себя материально, я решилась теперь уделить нечто и своим чувствам. Я люблю твоего друга Караулова, и эта любовь продолжается уже несколько лет – одно из доказательств, что я серьезно влюблена. Настал и для меня час воскликнуть: Да здравствует любовь!
Граф Владимир Петрович пожал плечами.
– Я тебя отлично понимаю и даже очень тебе сочувствую, но мне тебя жаль.
– Жаль?..
– Жаль, потому что твои мечты ни на чем не основаны, у них нет почвы для успеха.
– Почему это?
– Потому что в любви прежде всего должны быть двое.
– Ну что же, мы, кажется, двое, я и тот, кого я люблю.
– Вот тут-то и запятая… Ты мне еще не доказала, чтобы тот, кого ты любишь, платил бы тебе той же монетою…
– Почему бы ему меня не полюбить… Разве я не стою этого?
Она выпрямилась, как бы выставляя на оценку всю себя, все сокровища своего бюста и все богатства своего тела.
Граф засмеялся.
– Ты ничего не утратила из своей красоты, – подтверждаю это, напротив, ты все хорошеешь… К несчастью, все это решило бы участь другого, но не Караулова.
– Да разве он не человек, не мужчина?
– Почти что нет, он Иосиф прекрасный.
Фанни Викторовна расхохоталась.
– Я не особенно верю в существование современных Иосифов. Но если это так, то я еще более довольна… Я имела бы в муже то, что обыкновенно мужья требуют от жен.
– От твоего мужа?.. – воскликнул удивленно граф Владимир Петрович. – Так ты ищешь в Караулове мужа?
Она спокойно смерила его с головы до ног.
– Разве это уже так невозможно?
– Положительно… Я думал о легкой интрижке и первый бы назвал дураком Караулова, если бы он оттолкнул такую женщину, как ты… Но если дело идет о браке, то я тебе могу положительно предсказать заранее полнейшую неудачу.
– Посмотрим! – бросила небрежно Фанни Викторовна. – Будем говорить о другом.
Он повиновался, она заговорила о каких-то петербургских сплетнях, но в уме графа Белавина нет-нет, да и восставала картина, заставлявшая его невольно улыбаться: Фанни и Караулов, стоящие под венцом.
– Ты, говорят, нуждаешься в деньгах? – спросила, между прочим, Фанни Викторовна.
– Я? – отвечал граф. – То есть как тебе сказать, и да, и нет…
– Я вот что придумала… Я живу в доме, принадлежащем тебе…
– Ну, так что же?
– Наши отношения изменились, и это мне неприятно…
– Какой вздор…
– Не вздор, если я говорю неприятно, значит неприятно. Я решила выехать, если ты не продашь мне этого дома… Сколько ты за него хотел бы?
– Перестань говорить глупости…
– Я говорю серьезно… Отвечай…
– Этот дом стоит триста тысяч…
– Он заложен?..
– Ну само собой разумеется…
– За сколько?
– За двести двадцать тысяч…
– Значит доплатить восемьдесят… Может быть, мне ты уступишь за семьдесят, потому что все равно тебе пришлось бы заплатить комиссии при продаже другому лицу.
– Конечно, я охотно уступлю….
– Значит, это дело решено… Завтра мы совершим купчую крепость.
– Ты не шутишь?
– Ни на одну йоту…
Она подала ему руку, он протянул свою.
Сделка совершилась.
На другой день действительно была совершена купчая крепость у младшего нотариуса, и Фанни Викторовна стала петербургской домовладелицей.
Таким образом, она еще более упрочила свое положение, рассчитывая приобрести этим более шансов выиграть затеянную ею игру.
Предмет этой игры был Федор Дмитриевич Караулов, ухаживания которого она отвергла еще будучи непорочной девушкой, вдруг возбудивший в ее сердце, знавшем только фикцию любви, настоящую, истинную любовь в те немногие минуты, которые он провел под кровлей этого дома, принадлежащего теперь всецело ей несколько лет тому назад.
С момента этой последней встречи образ доктора Караулова не покидал сердца и ума молодой женщины.
Она узнала из газет, что он возвратился в Петербург.
Федор Дмитриевич действительно возвратился из заграницы и поселился в гостинице «Гранд-Отель» по Малой Морской улице.
Он приехал чуть не крадучись, не желая никому напоминать о себе, зная, что газеты уже раздули в Петербурге его имя.
Но его затворничество не могло продолжаться долго.
На третий день его приезда он, развернув газету, уже прочел об этом известии, а остальные дни он не мог скрыться от «интервьюеров», расплодившихся в Петербурге за последнее время, как грибы в дождливую осень.
Таковы шипы роз, венками которых венчает людей слава.
Он между тем жил только одной мыслью увидать дорогое для него существо, которое не видал столько лет и даже не имел о нем известий, благодаря редким письмам графа Белавина, молчание которого он и теперь не мог объяснить себе, так как его одного он известил о своем прибытии в Петербург.
Однажды вечером, возвратившись домой, Федор Дмитриевич нашел у себя на столе письмо, положенное лакеем гостиницы.
Прочитав его, он вздрогнул.
Оно было анонимное.
В нем говорилось, пожалуй, слишком много, но все-таки недостаточно.
Письмо гласило следующее:
«Если вы еще интересуетесь существованием вашего друга, графа Белавина, приходите в 9 часов вечера в его дом, на Фурштадтской. Вас там будут ждать».
Федор Дмитриевич был положительно удивлен этим письмом и даже несколько раз с недоверием перечитал его.
Он не мог объяснить себе ни страшной уловки, ни загадочной формы.
Письмо это было положительной загадкой, решить которую было очень трудно, если не невозможно.
Почему же граф Владимир не мог ему написать сам?
Письмо, которое он держал в руках, было с начала до конца написано женской рукой.
Адрес был написан тем же почерком.
Неужели графиня Конкордия Васильевна?
Он не мог этому поверить.
Внутреннее чувство говорило ему, что это не была ее рука.
С ее прямым, честным характером она не способна написать анонимное письмо.
Если она хотела жаловаться ему на мужа, она написала бы открыто и подписала письмо.
Да и кроме того, она с мужем живет на Литейной, а в доме графа на Фурштадтской живет, или, по крайней мере, жила, несколько лет тому назад, его содержанка…
Не перевез же граф туда теперь свою жену?
Все эти вопросы так и оставались нерешенными, но они же налагали на него обязанность предпринять что-нибудь.
Он решил отправиться на другой день утром к графу Белавину.
XV. Перед разгадкой
На другой день в первом часу Федор Дмитриевич Караулов отправился к Белавиным.
Всю дорогу он волновался.
Воспоминания одно за другим сменялись в его уме.
Он вспомнил откровенность графини Конкордии относительно поведения ее мужа и ожидающего ее неминуемого разорения.
Он вспомнил обещание, данное им молодой женщине, возвратить ей мужа.
Исполнил ли он?
Что он пытался для того сделать?
Мог ли он сказать по совести, что все?
Отказ от участия в оргии графа и несколько резких упреков по адресу последнего, сделанных им в том самом доме, куда его сегодня вечером вызывают на свидание, составляют ли то, что на его месте друг обязан был сделать?
Федор Дмитриевич поник головой.
Как человек справедливый и строгий к самому себе, он почувствовал угрызение совести.
Он обвинял себя, что он не оправдал доверия, оказанного ему графиней Конкордией.
Это и было причиной молчания с ее стороны при его возвращении в Петербург; он начал понимать теперь значение этого анонимного письма, брошенного с презрением рукой обманутой женщины, видящей в нем сообщника ее мужа, а не человека, способного спасти его, как она рассчитывала.
Удрученный этими тяжелыми мыслями, он прошел Малую Морскую, Невский и незаметно очутился у угла Литейного проспекта.
Повернув в эту улицу, он скоро дошел до дома, где жили Белавины.
Первое, что бросилось ему в глаза, это новый швейцар.
– Граф Белавин-с… – повторил швейцар на вопрос Караулова, дома ли граф Белавин, – они-с у нас не живут-с.
– Не живут… Как давно?
– Не могу знать-с… Я всего здесь третий месяц.
Федор Дмитриевич повернулся, чтобы выйти, но в это время с лестницы спустилась франтоватая горничная.
– Анна Сидоровна, – обратился к ней швейцар, – вот-с господин спрашивают графа Белавина… Вы давно здесь живете… Жили здесь такие-с?
– Как же, конечно, жили… Я даже могу вам сообщить о них, – обратилась она к остановившемуся Федору Дмитриевичу. – Графиня с дочкой уже с полгода уехала в свое имение в Финляндию, а граф переехал на другую квартиру, но куда именно, не знаю…
Караулов должен был удовольствоваться этими сведениями.
Он поблагодарил девушку, вышел и машинально пошел далее по Литейному проспекту, прошел его весь и повернул на набережную.
Он очнулся только у решетки Летнего сада, у той знаменитой решетки, посмотреть которую один англичанин приезжал нарочно из Лондона.
Была прекрасная ясная осень.
Деревья стояли еще в своих зеленых уборах.
Он вошел, прошел в одну из боковых аллей и сел на скамью, под тень густых ветвей старого дуба, вдыхая в себя свежий воздух и убаюкиваемый шелестом листьев.
Сердце его усиленно билось.
Такое множество воспоминаний обуревало его ум, и так сильно вдыхаемый им свежий сентябрьский воздух расширял его легкие.
Он задумался над его собственной жизнью, над его молодостью, лишенной радости, и приближением зрелых лет.
Ему было 33 года, и он провел несколько лет за границей, где, кроме научных занятий, его окружала масса соблазнов, в форме удовольствий, красивых женщин, но он был охраняем от всего этим дорогим образом, который наполнял все минуты его досуга.
Он вернулся в Петербург, полный к графине Конкордии Васильевне той же чистой возвышенной любовью, какую питал к ней с первого мгновения их знакомства.
И теперь при возвращении он не только не встретил ее, не увидал ее приветливой улыбки, но даже не нашел ее в городе.
Она уехала.
Он был одинок, жаждал любви и под ласками родного воздуха чувствовал непреодолимую потребность нежности той, о которой он сам сказал, что вся его слава для него – она.
Он был, повторяем, более одинок, чем графиня Конкордия Васильевна Белавина.
Молодая женщина жила с сердцем, полным любовью, самой чистой, самой нежной, любовью, поцелуи которой освежают все существо человека, любовью к ребенку, любовью матери.
И затем что, собственно говоря, он знал?
Сказала ли ему эта девушка правду, а если и так, то не следовало ли бы, быть может, иначе понять ее?
Не с согласия ли мужа после честного перемирия молодая женщина оставила Петербург.
Разве не возможно, что граф Владимир, утомленный, излечившийся, наконец, от своей пагубной страсти, устроил для своей законной жены такое же гнездышко любви, какие до сих пор создавал для своих любовниц.
Такие мысли, невольно шедшие ему на ум, конечно, его не успокаивали.
Он встал, прошел Летний сад, вышел в другие ворота и отправился к себе пешком.
Петербург – эта огромная, великолепная столица, собственно говоря, населенная пустыня.
Ничего нет печальнее для одинокого человека, как пребывание в этом грандиозном городе, где на всех лицах написано полное безучастие.
По улицам снуют прохожие торопливо с угрюмым, озабоченным видом, и ни в одном взгляде не встретишь привета, как будто задачей их жизни показать, что все и все, кроме них самих, для них чуждо и неинтересно. В этом центре ума и просвещения, в этом горниле государственной и общественной деятельности личность пропадает, расплавляется, уничтожается.
Сама слава не спасает от того томительного одиночества, которое чувствовал за последний свой приезд Федор Дмитриевич Караулов.
Он обвинял, впрочем, в этом отчасти самого себя, он сожалел, что природа не наградила его более легким, веселым характером. Тогда бы он мог, по крайней мере, помириться с жизнью, какова она есть, находить хорошее во всех ее проявлениях, не требовать, быть может, невозможного, не мечтать об идеалах, так как эти мечты приносят одни страдания.
Вернувшись домой и ходя из угла в угол своей комнаты, Федор Дмитриевич предавался этим размышлениям, с нетерпением ожидая вечера. День казался ему необыкновенно длинным.
Причиной последнего было назначенное ему анонимное свидание.
Он решил идти.
Это было теперь единственное средство узнать, что сделалось с его друзьями, иметь известие о графине Белавиной, выяснить, что случилось с супругами, которых он несколько лет тому назад оставил в таких обостренных отношениях.
Почти в первый раз в жизни он был без работы, да и первый раз в жизни работа теперь была бы для него утомительной.
Наконец желанный вечер настал, и Федор Дмитриевич приготовился идти навстречу сюрпризу, который он, как ему, по крайней мере, думалось, отчасти уже предугадывал.
Он вышел в общую залу ресторана гостиницы, ел мало и без аппетита, как человек, занятый исключительно одной мыслью.
Обед он кончил в восемь часов и решился идти на Фурштадтскую пешком.
Он шел тихо, не торопясь, полагая, что в подобных свиданиях можно опоздать без церемонии.
Было, однако, ровно девять часов вечера, когда он подошел к шикарному подъезду дома, на пороге которого он несколько лет тому назад отряс прах от ног своих.
– Граф Белавин дома? – спросил он у того же, как казалось ему, величественного швейцара, который был здесь в первое его посещение.
Швейцар, видимо, получивший инструкции, почтительно ответил:
– Графа здесь нет, но быть может вы желаете видеть барыню?
Федор Дмитриевич не обратил внимания на то, что швейцар не сказал «графиня», а «барыня».
Кого он мог подозревать, под словом «барыня», как не графиню, раз его, Караулова, пригласили сюда? – решил он.
– Хорошо, – ответил он, – куда пройти?
– Пожалуйте наверх… – заторопился швейцар, снимая пальто с Караулова.
Федор Дмитриевич поднялся по раззолоченной лестнице.
По звонку, данному швейцаром, ему отворила дверь хорошенькая горничная.
– Барыня вас ожидает, пожалуйте в гостиную… – сказала она и скрылась.
Вид горничной поразил Федора Дмитриевича.
Поистине, это была странная прислуга для графини Белавиной.
Или она так изменилась и характером, и привычками? Караулов не понимал ничего из того, что происходило, но по приглашению служанки прошел залу, где несколько лет тому назад имел объяснение с графом Владимиром Петровичем, и вступил в гостиную.
Войдя в эту комнату, он остановился в изумлении.
Кто участвовал в убранстве этой гостиной? Кто выбирал мебель?
Смутные мысли волновали ум Федора Дмитриевича, и даже одну минуту он подумал, что он жертва галлюцинаций.
Голова его кружилась.
Причиной последнего, впрочем, был запах, царивший в этой комнате.
От всех этих восточных материй, от всех этих низких и мягких диванов с массою прелестных подушек, от всех подставок из черного дерева с инкрустацией из перламутра и слоновой кости и бронзы, от этих пушистых ковров, в которых тонула нога, от всех стен, задрапированных бархатистой шерстяной материей, от всего, казалось, распространялся тонкий аромат, который проникал во все существо человека и производил род опьянения: сладострастная дрожь охватывала тело, кровь горела огнем, ум мутился, всецело побежденный желаниями тела.
Федор Дмитриевич собрал всю силу своей воли, чтобы не поддаться этому впечатлению.
Он ни разу в жизни не испытывал такого волнения и такого искушения. Образ графини Конкордии стал носиться перед ним в самых соблазнительных формах.
В то же время он с любопытством осматривал окружающую его обстановку.
Он открыл, что одуряющий аромат несся из зажженной курильницы, стоявшей на высокой тумбе черного дерева. Курильница имела вид древней урны.
Вся гостиная освещалась огромным, спускавшимся с потолка чугунным фонарем с разноцветными стеклами, и это освещение придавало еще более фантастический вид.
Он вдруг догадался.
– Нет, конечно нет! – воскликнул он почти вслух. – Эта турецкая гостиная скорее будуар одалиски, чем приемная графини Белавиной.
Это не она писала ему письмо.
Но тогда кто же автор?
Единственное предположение, на котором мог остановиться Караулов, было то, что это был сам граф Владимир Петрович, т. е. это он попросил написать ему это письмо, чтобы заинтересовать его и помучить.
Только с какой целью граф это сделал?
Как человек серьезный, Федор Дмитриевич имел склонность искать серьезные причины всех человеческих действий.
Но таких причин он, конечно, придумать не мог.
Граф просто пошутил с ним.
Это было простое ребячество!
А быть может, граф Владимир Петрович помнил слова упрека, которые он, Караулов, бросил ему в лицо в этом же самом доме несколько лет тому назад, за его слабость к жизненным искушениям, и хотел наглядно этой обстановкой показать ему, заставивши испытать их на себе, как трудно противостоять этим искушениям, которые сбивают человека с дороги совести и бросают в водовороте страстей.
Федор Дмитриевич чувствовал, что граф, пожалуй, достиг своей цели.
Внутренний жар его увеличивался, он прямо изнемогал.
Он решился, наконец, отворить дверь, которая как-то сама собою беззвучно закрылась за ним, когда он вошел, и уйти.
Ему показалось, что он уже слишком долго был тут – ничто так не способствует обману во времени, как волнение.
Караулов круто повернулся и уже взялся за ручку двери, когда послышался шорох откинутой портьеры и легких шагов по мягкому ковру.
Федор Дмитриевич обернулся и остолбенел.
Перед ним стояла женщина и с улыбкою приветствовала его.
Караулов был добродетельный, даже целомудренный человек. Караулов любил графиню Конкордию, но Караулов был мужчина.
Создание, которое стояло перед ним, было так прекрасно, что голова доктора закружилась еще сильнее, и все стало вертеться вокруг него.
Он должен был удержаться, чтобы не вскрикнуть.
Он узнал Фанни Викторовну Геркулесову.
Она ничего не пожалела для этой сцены. Это была роль, которую она приготовила заранее.
Самые оттенки света были заботливо рассчитаны и размерены.
Она была одета в бархатный черный пеньюар, тяжелые шнурки белого цвета стягивали ее талию, руки, плечи и шея были открыты.
Ничего нельзя лучше придумать, чтобы вызвать страсть, как этот контраст тяжелой и темной материи с атласно-белоснежной кожей.








