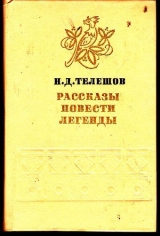
Текст книги "Рассказы. Повести. Легенды"
Автор книги: Николай Телешов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 15 страниц) [доступный отрывок для чтения: 6 страниц]
– А! Старый приятель! – ласково останавливал его кабатчик, когда видел, что Максимка то и дело бегает к соседу менять пустые бутылки на свежие. Заходил бы ко мне, приятель, за покупочкой!
– Ладно! – подмигивал ему Максимка. – Какой я тебе приятель? – и пробегал мимо.
Благодаря наступившей ярмарке Максимка и теперь был в таком же почете по соседним кабакам, а приезд Афанасия Львовича, ожидавшийся со дня на день, его веселил и радовал, как праздник: опять у него будут и деньги в кармане, и, главное, ненавистная Емельяниха, гроза и бич Максимки, будет гнуться перед Кургановым, говорить тихим и сладким голосом; да и мало ли удовольствий ожидалось от этих дней!
Емельяниха, у которой служил Максимка, была известна всему городу под именем "ведьмы", и это прозвище не раз смущало суеверную душу Максимки. Емельяниха была старая, злая и ворчливая женщина, с лицом желтым и сморщенным, как печеное яблоко. Сначала она жила бедно, а потом выписала откуда-то племянницу, Степаниду Егоровну, молодую вдову с черными глазами, и жизнь потекла у них сытая, довольная; потом обзавелись они домиком, который на ярмарку сдавали приезжим; затем на подмогу выписали Феню, белокурую худенькую сиротку, кормили и растили ее четыре года, одевали, как барышню, но только из Фени не вышло того, что вышло из Степаниды Егоровны: вместо того чтобы петь под гитару, Феня читала библию; от гостей, к которым ее выводили, она убегала; от их шуток, вместо того чтобы покраснеть и опустить глаза, она бледнела и сверкала глазами так сердито, что подгулявшему гостю не было никакого удовольствия.
Не предвидя от нее проку, на Феню безнадежно махнули рукой, прогнали на кухню и взвалили на нее всю черную работу.
– Наплевать! – сказала Емельяниха. – Ежели дура настоящего счастия не понимает, так пускай с своим лешим зубы точит. Туда и дорога!
"Лешим" был не кто иной, как Максимка, которого Феня всегда утешала, а когда самой приходилось жутко, горевала с ним вместе. Раннее детство ее прошло в ином кругу, она жила в губернском городе у своего дяди, камердинера старого одинокого антиквария, собиравшего монеты, иконы, медали. Уже четыре года прошло, как умерли в один день и дядя и антикварий от какой-то заразы; уже третью ярмарку проводит здесь Феня, но примириться с новою жизнью она не могла; здесь все для нее было чуждо и враждебно, все не согласовалось с последним заветом дяди, который, умирая, говорил ей:
– Ни в горе, ни в радости загнанными людьми не гнушайся: в них много сердца и правды много. Запомни мое последнее слово: береги себя. Не надейся на свою красоту.
Вырастешь – тогда поймешь, о чем я говорю, а сейчас только запомни.
– Запомню, запомню! – шептала девочка, стоя перед ним на коленях.
– Честно живи, Фенюша, – говорил умирающий, – темных людей полюби, утешай скорбящих...
С этим заветом и умер дядя, когда Феня была еще подростком. Долго старалась она понять эти последние слова, она знала их наизусть, но многое стало ей ясно только теперь, когда она выросла. Она с удовольствием променяла роль хозяйской родственницы на роль прислуги, терпеливо работала на Емельяниху, безропотно переносила попреки куском хлеба, но когда становилось уже не под силу терпеть, приходила к Максимке и отводила с ним душу.
– Что мне делать, Максим? – жаловалась иногда Феня. – С бабушкой просто житья нет...
– У, йомзя! – сердито ворчал Максимка, браня посвоему ненавистную Емельяниху.
– Я убегу от них.
– А куда?
– Куда глаза глядят.
Максимка с беспокойством глядел на ее свежее, почти детское лицо с ясными голубыми глазами и чувствовал в это время, как в груди у него переворачивается что-то. Он никогда не мог равнодушно слышать, если Феня начинала при нем мечтать о побеге, о том, как она уйдет куда-нибудь в монастырь и будет там работать до самой смерти.
– А то какая моя жизнь? – пригорюнивалась Феня, складывая на коленях руки и глядя задумчиво вдаль. – Там лучше будет: стану поститься, петь на клиросе... Я и за тебя, Максим, буду молиться, чтоб и ты тоже в рай попал, а то ведь ты – нехристь! Тебя за это в аду станут мучить...
От таких предположений оба они задумчиво вздыхали; потом Феня добавляла:
– Ходи, Максим, в церковь да богу молись; тогда, может, мы вместе с тобой в раю будем жить...
– А чего ж делать там будем? – с живым интересом спрашивал Максимка, не имевший никакого понятия о религии, хотя был крещеным и очень гордился этим.
– Как – что делать? – удивлялась Феня. – Будем праведными... с богом будем беседовать, видеть его будем всегда!
Максимка разочарованно вздыхал, либо говорил на это:
"Гм!..", либо молча чесал затылок, а то спрашивал:
– Только и делов там будет?
В церковь он не ходил, во-первых, потому, что не понимал, по-каковски там поют и читают; об евангелии слыхал только от Фени и интересовался одними чудесами; о боге он знал лишь одно, что где-то на небесах живет "русский бог" – такой добрый и милостивый, что перестал не только бояться его, но даже о нем и помнить.
Страшнее всего на свете была для Максимки полиция, поэтому, когда Феня упрекала его в чем-нибудь и говорила: "Побойся ты бога, Максим!" – тот возражал беспечно:
– Чего бога бояться? Бог небось не исправник.
Между ним и Феней общего не было ничего, но сдружила их печальная участь. Вечно обруганный и озлобленный, одичалый в одиночестве, Максимка вызывал к себе жалость. Глядя на него, она вспоминала всегда завет дяди полюбить и утешить темного человека, и, как умела, утешала Максимку, а когда приходилось самой искать утешения, то Максимка делался ей незаменимым другом.
II
Город, о котором идет речь, был маленький, уездный.
Стоял он далеко на Севере, за Уралом, в стороне от железной дороги и от больших путей. Судьба закинула его в таксе захолустье, что ни через него, ни мимо него ехать было некуда.
В обыкновенное время здесь все было спокойно, власти не знавали ни тревог, ни сомнений, а городской голова, простяк и труженик, не брезговал иногда нарубить собственноручно вязанку дров и делал это не ради моциона или принципа, а больше по простоте душевной; по моде не одевался, ходил в рубахе с высоким жилетом, в простых шароварах и в валенках. Однако не всегда бывало так просто и пусто в городе, иначе про него не знал бы никто, что он существует на свете, а он был не только известен, но даже знаменит в своем роде: ежегодно зимою здесь открывалась ярмарка на целый месяц, на которую съезжалось так много всяких людей из столиц, с Волги и Сибири, что становилось тесно, съезжались купцы, доктора, фотографы и артисты, съезжались губернские жулики и столичные шулера... Каких только имен и профессий не красовалось тогда на вывесках, каких не привозилось товаров! Но, помимо товаров и денег, приезжие завозили с собою необыкновенный шум и веселье: открывались трактиры на всевозможные вкусы, с арфистками и без арфисток, с музыкой и без музыки, до кабака включительно; открывался театр для более взыскательной публики, где исполняли "Гамлета" и "Дон-Карлоса" вперемежку с такими комедиями, о каких в столице не всякий имеет понятие, открывался цирк с забавными пантомимами и свыше десятка бань, которые считались здесь почему-то тоже за места увеселительные...
Для города ярмарка была – все: она прославила его имя на тысячи верст, кормила и поила всех жителей, поэтому и готовились к ней, как к великому празднику, и все горожане менялись перед нею, точно по мановению волшебства; они бросали обычные дела, отколачивали забитые квартиры, готовили лучшие платья, и многие уже заблаговременно ходили с красными носами и опухшими глазами, уверяя, что это будто от хлопот и бессонных ночей. Городской голова на время ярмарки облекался в черный сюртук, надевал крахмальную манишку, немецкие сапоги и разъезжал по почетным купцам, отдавая визиты. Нередко, впрочем, случалось, что, явившись во всем параде к приезжему, представитель города важно входил в переднюю и здоровался сначала с лакеем за руку, расспрашивал, как он поживает, все ли в добром здоровье, а затем уже позволял ему снять с себя шубу и ботики. Происходи то это по очень простой причине: наниматься в лакеи к ярмарочным гостям имели большую склонность местные мещане, не считавшие никакую работу унизительной, была бы лишь доходна, а с ними со всеми городской голова был круглый год в наилучших отношениях, с иными даже приятель и кум.
В один из морозных февральских дней, когда ярмарка была в полном разгаре, в городскую заставу въехала старомодная повозка с большим лубочным чепчиком, запряженная тройкой потных коней, и, звеня колокольчиками, не спеша поплелась по дороге.
– Куда прикажете? – оборачиваясь к ссдолу, спросил ямщик.
Из повозки выглянула на минуту голова в сибирской оленьей шапке, закутанная по уши в доху, и прозвучал в ответ резкий молодой голос:
– Сказано, к Емельянихе!
На улице было людно. Везде кипела деятельность и спешка; озабоченные лица людей и торопливая походка – все свидетельствовало о делах и недосуге.
Вот, выйдя из двери магазина, ловкий торгаш встряхивает мех перед покупателем; вон двое горячо спорят, очевидно из-за цены, и взмахивают уже руками, как бы готовясь закрепить рукобитьем сделку; тут соблазнили кого-то сверкающие за окном брильянты, там – вывешивают напоказ цветные материи. Все спешат, суетятся, волнуются...
Эта лихорадочная жизнь сразу охватила приезжего.
– Да ну, живей! – крикнул он ямщику и при этом толкнул его в спину.
Должно быть, и ямщик успел проникнуться общим настроением поспешности; не обидясь за толчок, он подобрал вожжи и, лихо загикав на коней, погнал усталую тройку так быстро, что снежная пыль залепила ему бороду, лицо и одежду.
Дом Емельянихи стоял вдалеке от центра. Это было небольшое строение с мезонином в три окошка, с серым дощатым забором и зелеными воротами, на которых была прибита железка с лаконической надписью: Пряники. Ворота всегда были заперты, и, чтобы проникнуть во двор, нужно было долго звонить; на звонок обыкновенно выходил Максимка, развалистой, неторопливой походкой, а иногда выбегала Феня. Осадив лошадей перед этими воротами, ямщик не успел еще соскочить с облучка, гак из повозки, распахнув шубу, вылез молодой человек лет двадцати восьми и направился прямо к калитке.
Оттуда навстречу ему уже выбежали из дома две женщины, Емельяниха и Степанида Егоровна, обе в накинутых наскоро шубенках; за ними опрометью бежал Максимка, а в верхнем окне, чего приезжий уже вовсе не поспел заметить, прислонясь щекой к стеклу, глядела на него белокурая головка, что называется, "во все глаза", точно желая его разглядеть раньше, чем другие.
– С приездом, Афанасий Львович! Добро пожаловать! Милости просим, гость дорогой! – почти вырывая из рук поклажу, говорила ему старуха, стараясь кланяться ниже.
Кивнув ей головой, Курганов подошел прямо к Степаниде Егоровне и, сняв перед нею шапку, протянул руку.
– Здравствуйте, Степанида Егоровна! – проговорил он с улыбкой, слегка заигрывающим тоном. – Вы на меня и взглянуть не хотите?
Действительно, Степанида потупила перед ним глаза, но, услышав упрек, быстро окинула его взглядом, улыбнулась и опять опустила голову.
Через минуту они все трое входили уже по лестнице в мезонин, а следом за ними тащил на спине чемодан Максимка, чуть не плясавший от радости под своей ношей. Он был чрезвычайно доволен, что дождался, наконец, человека, который, точно красное солнышко, обогревает всех живущих здесь в доме, перед которым молчит и ежится даже сама Емельяниха.
Афанасий Львович имел вид молодцеватый; голос у него был громкий, взгляд упорный и смелый. Приезжая к Емельянихе, он распоряжался у нее, как у себя дома, и все его здесь слушались и любили, потому что он ни на что не скупился, был всегда весел, денег не считал и обладал удивительной способностью подчинять себе всех окружающих.
Он был из числа людей, которым жизнь – грош, но, пока они живы, им подавай всего, чем жизнь красна. Ничем не стесняясь, всего требуя, за все щедро платя, Курганов любил жить на широкую ногу и любил, чтобы все кругом него кипело, двигалось и жило. Бывало, крикнет во весь дух:
"Максимка!", и Максимка являлся перед ним свежий, бодрый, смотрящий во все глаза в ожидании приказаний. "На почту! – скажет Курганов, подавая пакет. – Да живо!" Или крикнет внезапно: "Беги, разменяй!.." Давая Максимке сторублевую бумажку, а иногда две и три, – он подкупал его доверием, какого тот отродясь не видывал ни от кого даже на двугривенный.
Когда Афанасий Львович, войдя в свою комнату, помещавшуюся наверху, рядом с комнатой Степаниды, умылся и переоделся, молодая хозяйка пригласила его к чаю. На столе, кроме самовара, стояла водка, закуска и на черной сковороде шипела яичница.
– Прошу покорно, Афанасий Львович!
Курганов вошел, неся в руках большой сверток.
– Сначала возьмите гостинец, Степанида Егоровна, – сказал он, передавая подарок. – Недавно ездил в Москву...
Какие материи стали там вырабатывать, что твоя заграница!
Степанида раскраснелась от удовольствия, притворно смутилась и, принимая сверток, молча улыбалась, не зная, что сказать.
– Что вы это, Афанасий Львович... Вы совсем меня избалуете.
– Ну-ну, – возразил тот, ласково махнувши рукою. – За кем другим, а за вами не пропадет.
Он пододвинул стул и сел к самовару.
– Чайку не угодно ли? Или, может, позавтракать?
Небось проголодались в дороге.
Курганов оглядел быстрым взглядом бутылки и, потирая руки, ответил:
– От чая откажусь, а вот водочки выпью. Удивительно вы понимаете мой характер, Степанида Егоровна! Что дорожному человеку требуется? Чарка водки да поцелуй на закуску!
Он не спеша открыл бутылку, налил две рюмки и предложил чокнуться.
– За счастливый приезд, Степанида Егоровна!
– Кушайте на здоровье!
Он выпил, крякнул и, притянув свободной рукой к себе Степаниду, поцеловал ее в губы, потом начал закусывать и расспрашивать про нынешнюю ярмарку – много ли приезжих, хорошо ли торгуют и в каком трактире поют лучшие арфистки.
Степаниде было на вид около тридцати лет. Высокая, дородная, с крупными черными глазами и с непонятной улыбкой, не то застенчивой, не то задорной, она производила загадочное впечатление на свежего человека, но Курганов был не из тех, которые задумываются над чем-нибудь в жизни, а тем более над женскими взорами и улыбками.
Степанида считалась вдовою, но о вдовстве своем, кажется, не печалилась; для развлечения у нее имелась гитара, на которой ее выучил кто-то играть "За рекой, на горе", а в шкафчике стояла наливка для хороших знакомых, и покойный пристав, не тем будь помянут, в долгие зимние вечера нередко засиживался здесь до рассвета. Да и не одному приставу знакома была "вдовья" наливка...
Наскоро позавтракал, Афанасий Львович спросил вина.
– Ну, выпейте, Степанида Егоровна! Говорят, старый друг лучше новых двух... Много новых-то друзей завели за зиму?
Он поднял стакан и молча улыбался, ожидая ответа.
Степанида чуть было не смутилась под его взглядом; она хотела ответить упреком, но раздумала и сказала игриво:
– А хошь бы и много, Афанасий Львович?
Однако сейчас же раскаялась в таком ответе и печально вздохнула, словно желая сказать, что никакие друзья не могут заменить ей одного человека, а какого – поди угадай!
Выпив залпом стакан, Курганов лукаво погрозил ей пальцем и, поклонившись, вышел из комнаты, а затем уехал на ярмарку.
III
Когда свечерело и деловая ярмарка затихла до утра, то до утра же зашумела веселая ярмарка. Магазины давно уже заперты, но по трактирам песни, хохот и музыка; всюду набилось народу, что мух на мед, и некуда присесть запоздавшему посетителю.
У Емельянихи хотя и не трактир, но гостей набралось немало; хлопают пробки, льется вино, а табачный дым, словно туман, висит в комнате и щиплет глаза. Это деловая компания празднует приезд Афанасия Львовича. Степанида Егоровна, улыбаясь и отшучиваясь, сама подносит гостям стаканы, и все с нею чокаются, все кричат и глядят на нее полупьяными полувлюбленными глазами; всем нравится ее пышный, колыхающийся стан, ее сочные, розовые губы, звенящий, увлекательный смех и маслянистые черные, как вишни, глаза; но никому она не отдает предпочтения, и напрасно стараются гости закручивать стрелкой усы, приглаживать бороды, капули и проборы – все для нее одинаковы; только к Курганову, сидящему на диване поодаль от компании, подходит она чаще, да и то по делу, потому что он настраивает ее гитару.
– Знать, попортилась, Афанасий Львович, давно уж в руки не брала, говорит она и снова отходит к столу.
То поднося вина, то рассказывая о гитаре, то жалуясь, что разучилась играть, Степанида Егоровна все время, пока Курганов подвязывал и пробовал струны, переговаривалась с ним, возбуждая зависть в гостях, а когда тот и сам подошел к столу и, настроив гитару, предложил спеть, то хозяйка, а за ней и гости хором затянули "Милую", но сбились, расхохотались и запели "Крамбамбули", продолжая чокаться и подливать в стаканы. Заглушая нестройный хор, кто-то громко запел, указывая обеими руками на Курганова:
Приехал на ярмарку ухарь-купец,
Ухарь-купец, удалой молодец...
Феня, притаившись за дверью, не спускала глаз с Афанасия Львовича. Ей было приятно смотреть, как он иногда развалится на диване, как неожиданно встанет, чокнется и выпьет вина, или проведет рукой по струнам, или запоет...
Какие у него добрые глаза, и как он весел! Другие тоже сидят и пьют, хохочут, кричат, но видно, что они все пьяны и грубы, а он такой добрый-добрый... Фене нравился больше всего голос Курганова; в нем было ч го-то душевное и простое. Но отчего же голос его такой грустный, когда он поет? Все радуются и кричат, а у Фени от этого голоса щемит на сердце и хочется заплакать...
...Всю ночь не смыкал я, бывало, очей,
Томился и думал я только о ней.
Теперь все прошло Пролетела весна,
И молодость жизни далеко ушла ..
раздавался голос Курганова, и Фене казалось, что Афанасий Львович действительно о чем-то горюет, и, улыбаясь, она думала: «Хороший... добрый человек!..»
.. А старость все ближе и ближе подходит,
Готовлюсь я в вечность совсем перейти,
А счастье все дальше.. да дальше уходит...
Гостей веселило пение Курганова, и когда он кончил, все зашумели, полезли с ним чокаться, а Фене казалось, что он, может быть, плачет и ему не до вина.
– Эй! Кто там!.. Максимка!.. – закричал неожиданно Курганов, хлопая в ладоши. – Максимка!.. Шампанского сюда!
У Фени екнуло сердце. Она хотела было убежать, но заколебалась и, наконец, сделала шаг вперед и вошла в эту дымную комнату, куда ей было запрещено показываться.
– Что прикажете, Афанасий Львович? – проговорила Феня, останавливаясь на пороге.
Но вместо приказания Курганов протянул вперед руки и весело воскликнул:
– А, Фенюша! Иди! Иди сюда! Я уж давно про тебя спрашиваю.
Степанида Егоровна молча положила гитару и, пожав плечами, недовольная, вышла из комнаты.
– Что прикажете, Афанасий Львович? – снова повторила Феня, опуская глаза и не двигаясь с места.
Ее появление заинтересовало гостей. Начали переглядываться, подмигивать в сторону Курганова и улыбаться, а находившийся тут же в компании татарин в цветной тюбетейке, пивший пиво, грузно поднялся из-за стола и, подойдя к Фене, начал ее рассматривать, повторяя вполголоса – "Хор-руш товар! хоруш товар!"
Курганов взял его за плечи, молча повернул и посадил снова за стол.
– Пей, Хасан, за мое здоровье, а за товарами завтра придешь.
Все захохотали, и смущенный татарин, взявшись снова за пиво, проговорил с усмешкой:
– Скупой караванбаш, аи, бачка, скупой! Все себе берет, гостям ничего не дает...
Феня не обратила внимания на улыбки и шутки гостей и молча дожидалась приказаний Курганова.
– Вот чго, Феня, – сказал Афанасий Львович: – вели Максиму подать шампанское... все давай!., весь кулек!..
А ты позови бабушку да скажи, чтоб непременно пришла.
И сама приходи. Слышишь?
– Я не могу, Афанасий Львович, – прошептала Феня. – Я лучше здесь, в коридоре, побуду.
– Говорю, приходи! Не придешь, так приведу сам. Да Емельяниха пусть тоже приходит. Никаких отговорок чтоб не было. Понимаешь?
– Тащи сюда всех! – послышались голоса. – Хозяйку сюда! Шампанского!
Поднялся веселый крик и смех.
– Ну, живо, Феня! – командовал между тем Афанасий Львович, беря ее за руку. – Скажи Степаниде Егоровне, что гости, мол, сердятся. Присылай их обеих!
Не успела Феня повернуться и выйти в коридор, как чья-то холодная костлявая рука схватила ее за волосы и поволокла вперед в темноту. Потом раздалась пощечина. Затем застучали быстрые шаги Фени, молча сбегавшей по лестнице с мокрым от слез и закрытым ладонью лицом.
Поданное шампанское еще больше развеселило гостей; к тому же вернулась Степанида Егоровна, а за нею вошла и сама Емельяниха, надевшая для парада чепец и на плечи большой персидский платок. Она всем приветливо улыбалась и, когда ей наливали вина, отодвигала стакан и говорила.
– Сами кушайте на здоровье, дорогие гости! Благодарю покорно.
– Ну, выпей, бабушка! – приставал к ней Курганов, пододвигая стакан.
Емельяниха его отодвигала и говорила:
– Сами кушайте, Афанасий Львович!
Курганов снова придвигал стакан:
– Ну, выпей, Емельяновна!
И они продолжали двигать друг к другу стакан до тех пор, пока Курганов не зацепил его рукавом и вино пролилось на скатерть.
– Эх, старая! – весело воскликнул он и потянулся за новым стаканом.
– Говорю, батюшка: угощать меня – только добро портить.
– Ну, уж теперь не уйдешь! Пей, Емельяновна.
Начались тосты: сперва за Курганова, потом за хозяек, потом за каждого из гостей. Пир разыгрывался не на шутку. Пили уже без разбора – и коньяк и шампанское; окурки бросали куда попало; под столом катались пустые бутылки, вино проливалось на скатерть, и у гитары, переходившей из рук в руки, оборвали струну.
– Да где же, наконец, Феня? – вспомнил вдруг Курганов. – Отчего она не пришла? Емельяновна, приведи Феню!
– Ну вот, батюшка, очень она тебе нужна! Знаешь, какая гордячка... На что такая потребовалась?
– Еще расплачется на людях-то, – с неудовольствием добавила Степанида Егоровна. – Оставьте ее, Афанасий Львович... Вот лучше я вам винца холодненького подолью.
Чарочка моя серебряная,
На златом-то блюдечке постав темная!
вдруг запела Степанида Егоровна, с улыбкой предлагая Курганову чокнуться.
Эх, кому чару пить,
Кому выпивать?
грянули вслед за нею дружные голоса гостей.
Пить чару, пить чару
Степаниде да Егоровне
На здоровье, на здоровье,
На здоровьице!
Все потянулись к ней со стаканами и рюмками, а она, кокетливо потряхивая головой и подергивая плечами, продолжала петь, поддразнивая разгулявшихся гостей:
Аи, жги, жги, жги,
Говори да разговаривай!
В Степаниду Егоровну точно вселился бес: она не то что ходила, а как будто плыла по комнате с поднятыми для объятий руками, дразня всех своим пышным бюстом, и задорно припевала:
За-х-хочу – пол-л-л-люблю!
Захочу – раз-люб-лю!
Я над сердцем вольна,
Жизнь на радость нам дана!
– Эх-ма! Ах ты! да ах ты, ну!! – вскрикнул кто-то весело и задорно, и сразу несколько голосов подхватили мотив, застучали по полу каблуки, захлопали в такт ладоши, и залихватская плясовая песня завладела общим настроением. Кто-то, загремев стульями и пустыми бутылками, выскочил на средину комнаты и под гам и крики прошелся «колесом», разводя руками и откидывая во все стороны ноги, изредка притопывая и приседая.
– Браво, браво! – кричали гости.
Одни кричали "браво", другие пели, поддерживая плясовой мотив.
Курганов пел и играл на гитаре, татарин звонил стаканами по бутылкам, и от топанья всей компании дрожали пол и стены.
Максимка, с разинутым ртом и опущенными руками, наблюдал из темного коридора в полуотворенную дверь, испытывая полное удовольствие. Крики, пение и дикий хохот производили на него впечатление не чужого веселья, а своей личной радости. Он видел, как Курганов наливал вино, как пил, как заставлял пить Емельяниху, и та, низко кланяясь, пила. Он с торжеством замечал, что хозяйка пьянеет, и когда она, выпив последнюю рюмку, замотала головой, Максимка не выдержал.
– Х-хы, хы!.. – радостно и искренне воскликнул он и даже присел, обнимая живот.
Чем дальше, тем веселее кричали гости. Пляска не унималась.
Максимка ликовал, особенно когда увидел, что и Курганов пустился вприсядку. За ним выбежала Степанида и плавно закружилась с поднятыми руками, колыхаясь и подергивая плечом, а Курганов возле нее так и выбрасывал из-под себя ноги вправо да влево. Максимка был в восторге, глядя на них; лучшего удовольствия ему никто в мире не мог бы доставить. Наконец, восторг его превзошел всякие ожидания; от радости он чуть не подавился, когда увидал, что сама Емельяниха, растопырив руки и махая над головою платком, кружится среди комнаты под общий крик и хохот; клок седых волос выбился наружу, щеки ее были красны, глаза мутны, и широкая улыбка делала лицо ее до того безобразным, что Максимка потешался над нею от всей души.
– Гляди, гляди! – шептал он Фене, толкая ее локтем.
– Господи! – прошептала Феня, качая головой. – Бабушка-то... бабушка... Стыд-то какой!..
Гам, смех и песни, а порой и неосторожное словечко, сорвавшееся с языка, еще долго оглашали весь дом. Наконец, гости стали целоваться с Кургановым и, пошатываясь, выходить к шубам.
Было уже под утро.
IV
Со следующего дня Курганов горячо принялся за дело и бывал иногда занят так, что не успевал пообедать. Домой он заезжал, чтобы достать или убрать какие-нибудь бумаги, затем опять уезжал и возвращался поздно ночью совершенно усталый. Максимка бегал по его поручениям тоже целые дни, то с письмом, то со свертком, и вовсе отбился от Емельянихи, говоря, что идет по приказу Афанасия Львовича, а сам в это время успевал завернуть на часок в трактир, где и блаженствовал без всяких опасений, благо водилось у него немало кургановских денег.
Лихорадочная жизнь ярмарки разгоралась день ото дня.
Дела и веселье, работа и удовольствия перепутались и сплелись настолько между собою, что посторонний человек не решил бы, где кончалось одно, где начиналось другое. Без угощения ничего нельзя было поделать; с иными бились по нескольку дней, кормя обедами, напаивая вином, возя по театрам; случалось, что пропивали больше, чем наживали, но, спасая честь и достоинство фирмы, на это не обращали особенного внимания.
Не дремал за это время и городской голова. "Вот-с, батенька, сударь вы мой, – говорил он, объезжая знакомых, – по заведенному порядку подписочка махонькая... в пользу городских бедных... Может, наличными соблаговолите, а ю и товарцем: всяко деяние благо".
Одни давали денег, другие жертвовали вещи в аллегри, театры обещали отпустить лучших певцов, а трактиры – арфисток, и в назначенный день вся ярмарка, от мала до велика, справляла благотворительный праздник.
В этот день Афанасий Львович был особенно озабочен.
Он приезжал домой и перебирал бумаги, считал на счетах, опять уезжал и, наконец, призвал Максимку:
– Вот тебе письмо... Понимаешь? Беги сейчас на почту, бери тройку и поезжай во весь дух на ту станцию... Понял?
– Понял, – весело подмигнул Максимка, очень любивший, когда ему поручали важное дело.
– Во что бы то ни стало нужно догнать Климентовича! Понимаешь, Климентовича! Спроси смотрителя, проехал Климентович или нет; если проехал, гони еще станцию, две, три – все равно! Понимаешь? Нужно догнать и передать вот это письмо.
Максимка почувствовал прилив такой нежности к Курганову, что ему захотелось поцеловать его фалду, которую тот небрежно откинул, держа руку в кармане.
– Вот тебе письмо, – сказал Курганов, передавая пакет. – Вот тебе деньги на дорогу... Обратно скачи во весь мах и к утру привези ответ. Двадцать рублей на чай получишь. Но если ты его не догонишь...
– Кереметь [Кераметь – свирепое божество чувашей. (Примеч. автора).], догоню! – воскликнул в азарте Максимка. – Чего не догнать?
– Ну, так марш! Бегом! Живо!
Афанасий Львович даже топнул и ударил в ладоши, а Максимка, сунув письмо и деньги за пазуху, бросился опрометью вниз, так что задрожала и затрещала под ним вся лестница. Его душа переполнилась уважением и любовью к Курганову: катить на тройке, исполнить важное дело и получить двадцать рублей было для него таким удовольствием, какого еще – умрешь, не увидишь...
Уже с обеда в пассаже гремела музыка. Городские дамы, расфранченные и разодетые, заседали за лотерейными колесами; у супруги городского головы еще со вчерашнего вечера ожесточилось сердце на чужие карманы; жена исправника и жена лесничего сперва стесняясь исполняли свои обязанности, но мало-помалу начинали тоже входить в азарт. А народа прибывало и прибывало. По старинным традициям, в этот день вся ярмарка должна была посетить базар, и в пассаже поэтому набиралось такое множество публики, любящей потолкаться, позевать, послушать оркестр и певцов, что выходила вместо гулянья толкотня, дававшая возможность хорошо поживиться не только городским беднякам, но и заезжим карманникам. Развлечения не прекращались до вечера. Всюду пахло свежими елками, лисьим мехом, кофеем, овчиной; от дам благоухало духами, от мужчин – табаком и спиртом.
Вдоволь намявши бока и туго наколотив карманы всевозможными безделушками из аллегри, к вечеру усталая публика разбредалась опять-таки по трактирам доканчивать благотворительный день.
У Курганова знакомых было полгорода. Куда ни придет, куда ни повернется, отовсюду слышно одно и то же: – Афанасий Львович! К нам на минугку!
И Курганов подходил, присаживался и выпивал, переходя от одних знакомых к другим. Один говорил:
"Уважь!" – и Афанасий Львович из уважения выпивал шампанского; другой говорил: "Не обидь!" – выпивал и с этим; третий приставал: "Удостой!" Наконец, у Афанасия Львовича зарябило в глазах. Потеряв меру, он уже сам начал спрашивать шампанское и приставать к знакомым, требуя "уважить", "не обидеть" и "удостоить". Потом с компанией арфисток переселился в кабинет, где ему пели романсы, гладили его по волосам и шутя вынимали из карманов выигранные безделушки...
Стояла глухая ночь, когда он подъехал к своим воротам. На душе у него было пусто, в голове шумело. Прежде чем позвонить, он огляделся кругом; левая сторона улицы была черна как уголь, а правая сияла серебром; серые домики, снежная дорога, крест на колокольне – все блестело и сверкало, и на Курганова напало раздумье. Он стоял возле калитки и не мог налюбоваться картиной, развернувшейся перед ним, словно в первый раз в жизни. Чувство не то раскаяния, не то одиночества грызло его сердце, и ему становилось жаль своей молодости, уходившей на кутежи.








