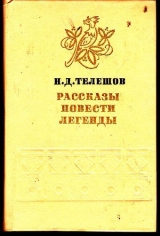
Текст книги "Рассказы. Повести. Легенды"
Автор книги: Николай Телешов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 15 страниц) [доступный отрывок для чтения: 6 страниц]
При этих словах Кротов машинально ощупал в кармане револьвер... Положение было тягостное, натянутое, и молчание долго не прерывалось, пока сучковский приказчик, перетрусивший еще на той станции при первом ветре, осмелился проговорить, запинаясь на каждом слове:
– Помилуйте-с .. куда же ехать?.. Изволите ли видеть, вьюга очень сильная... с дороги собьешься...
Все в душе с ним были согласны.
– А там, говорят... волки-с голодные...
– Конечно... конечно!.. – в раздумье соглашался Панфилов, после чего приказчик, видя, что дело идет на лад, продолжал уже с большею уверенностью:
– Что за беда! И всего-то потеряли бы какие-нибудь сутки-с!
Это неосторожное слово сразу испортило все, и Панфилов вскочил.
– Сутки? – ужаснулся он и даже попятился от приказчика, точно тот поднял вопрос об его чести. – Чтоб я потерял сутки? Да вы с ума сошли!.. Лошадей, пожалуйста! – решительно заявил он смотрителю и затем обратился к Сучкову.
– Вам как угодно, а мы поехали!
Поднялся шумный говор. Все встали, все говорили.
Смотритель пробовал успокоить, но принужден был в конце концов распорядиться о лошадях.
– Я тридцать лет езжу, бог милостив! – возвышался над всеми голосами голос Панфилова. – -Не первую метель выносить! Едем, господа, нечего медлить-то! С богом, в дорогу!
И первый решительными шагами направился к выходу. Его воодушевление сломило и разогнало общую робость Все перекрестились и последовали за ним; только смотритель, провожая их, неодобрительно покачал токовой.
На дворе был сущий ад. Ветер с визгом к ревом пригибал чуть не до земли молодые деревья; в мглистом воздухе крутился снег, шарахаясь летучими массами вправо и влево.
– Доедем, ямщик? – твердым голосом спросил Панфилов.
Тот отвечал, не смущаясь:
– С этакими седоками – бог милостив!
Все уселись, крепко запахнувшись. Прокричали голоса, зазвонили колокольчики, и повозки, едва отделившись от станции, погрузились во мрак.
Часа уже два прошло, как покинули станцию.
Лошади бежали, часто спотыкаясь. Ямщик гикал на них и взмахивал рукавицей. За чепчиком повозки злилась непогода, и тоскующий ветер неотвязчиво лез под фартук с нытьем и нетерпением; то справа, то слева забегал он и, казалось, вот-вот ворвется, но отставал и силился вновь догнать и, догоняя, хлестал сзади по крышке или опять скучал где-нибудь около. Мрак и вьюга были кругом; ни неба, ни пути, ни бугров – все смешалось в муть, которая бестолково крутилась... Сиротливо делалось на душе. Колокольчик звонил неугомонно, точно плакал, как голодный младенец, и все вокруг плакало на разные голоса. Было похоже, что в природе пропало что-то очень нужное и дорогое, за которым во все стороны полетели гонцы, под страхом смерти старавшиеся найти пропажу по чьему-то велению. Рыскали понизу, взлетали высоко к небу, кружились на одном месте, аукались и, очумев со страха, оплакивали свою горькую участь. И где-то тут же открылся над ними палевой суд: миллион писцов бойко шуршали перьями по бумаге, а гонцы разносили экстренные приказы и тащили кого-то на казнь. Глухо звучала с одной стороны победная музыка, а с другой – доносилось тихое похоронное пение...
Еще тоскливее делалось на сердце... Живая сила разгулялась в поле; все жило своей особенною, непонятною жизнью – и вьюга, и поле, и взбаламученные хлопья снега, и только кони, люди да колокольчики замешались сюда ни к чему, как лишние гости на чужой праздник.
Ехали все тише и тише. Колокольчик вздрагивал и стонал, но не заливался, как раньше, беззаботною песней.
Лошади пошли шагом.
– Да, ну! Дьяволы! – раздался сердитый окрик, точно сквозь стиснутые зубы, и следом за тем щелкнули резкие удары кнута. – Вытягивай!..
Лошади потянули недолго изо всей силы и вскоре остановились, тяжело дыша. Слышно было, как кнут много раз врезывался в их спины, но повозка стояла на одном месте.
– Что такое? – спросил Бородатов, высунувши голову.
Однако ничего не мог разглядеть, кроме мутного вихря, который тотчас же влепился ему в лицо и хлестнул по глазам. Лошади стояли, понурив головы, и вздрагивали от беспощадных ударов. Ветер свистел в хвостах и гривах, шуршал по крышке и по оглоблям; с невероятною злостью он дул прямо в глаза; разыскивал малейшие лазейки и сквозь двойные шубы пробегал по груди и ногам. Все присмирели, все думали одну общую думу: как быть?.. В темноте перед глазами прыгали и носились снежные призраки, и ужас бессилия охватывал душу.
– Что, ямщик? – спросил заискивающим голосом Панфилов.
Ямщик, который с кнутом в руках ходил отыскивать дорогу, вырос вдруг из мрака как привидение и, подойдя к повозке, сказал, не слыхав вопроса:
– Нету пути.
– Да ты поезжай, голубчик, как-нибудь; авось выберемся на дорогу.
– Где выбраться!.. Ишь темень-то, хоть глаз выколи!..
Да и буря разыгралась на диво.
– А ты все-таки поезжай, милый! Авось, как-нибудь...
Ямщик, что-то проворчавши, уселся покрепче и потом, хлопнув рукавицами, подобрал вожжи. Лошади рванули было вперед, но под полозьями намело кучи снега. Долго бились, напрягая все силы, чтобы стронуть с места повозку, и, наконец, поехали шагом.
А вьюга разыгрывалась все пуще. Какая-то сила с шумом и свистом мчалась поверху и вдруг упадала вниз и пробегала дальше понизу, кувыркаясь и жалуясь.
– И дернул нас черт поехать в этакую погоду! – удивлялся Кротов. Насмерть озяб!.. Даже лошади не идут.
Действительно, повозки опять стали. А ветер метался по полю, кидаясь в разные стороны; то вдруг он затихал и плакал, то вдруг набрасывался с бешенством на повозку и стучал по ней словно кулаками, желая выворотить наизнанку чепчик, который весь тресся под его напором.
Вдруг где-то вблизи послышался мрачный аккорд, резкий, звучный, постепенно переходивший в протяжный вой.
Лошади захрапели. Не было видно, однако, прыгали они или нет, но только колокольчики зазвонили часто, бестолково, тревожно, и повозки дернулись сильно назад, а ямщик, слезший было на землю, бросился как угорелый в повозку и закричал:
– Волки! Волки!
Кротов высунул голову. Сквозь мрак и вьюгу глядели на него зловещие точки, горевшие фосфорическим блеском.
Трудно было определить расстояние – не то они были около, не то вдалеке, но они вспыхивали тут и там и, казалось, росли и приближались. Порывы ветра, дергавшие повозки, на всех наводили ужас.
– Пошел!! – вдруг закричал Кротов, напрягши весь свой громовой голос, и вслед за криком раскатился неожиданно выстрел. – Трогай!.. Гони!.. кричал без устали Кротов, оглашая простор то голосом, то выстрелом.
Опасаясь беды, Сучков тоже пробовал кричать ему:
"В небо стрелять! Кверху! В волков не надо!" – но своего голоса он не слыхал даже сам.
Свист кнутов и крики слились с общим гулом. Обезумевшие от страха лошади напрягли последние силы, и повозки тронулись, ныряя по ухабам и разворачивая перед собою сугробы снега. Выстрелы между тем сыпались один за другим; их зловещий рокот прорезывался сквозь стоны вьюги, и страшная ночь становилась еще страшнее. Встревоженные тройки, храпя и косясь, бежали наудачу вперед, без пути, еле переводя дыхание, и зловещие огоньки отдалялись и многие потухали... Уже несколько верст отъехали повозки, уже давным-давно исчезли огоньки, а лошади все бежали, фыркая, спотыкаясь и насторожив уши. Они бежали без направления и от усталости чуть не падали; наконец, измученные, тяжело дыша, остановились сами.
Было черно вокруг. Вьюга не унималась.
– Взглянуть бы, Матвей Матвеевич, нет ли кабака близко: сами остановились! – посоветовал Бородатов. – Лошади на этот счет понятливы.
– Чего кабак! – сердито возразил ямщик. – Тут и кабаков нету.
Однако он слез и пошел куда-то.
– Поищи, нет ли дороги! – крикнули ему вслед.
Ямщик вскоре вернулся.
– Ни зги не видать, – сокрушенно сказал он, подходя к повозке. – Какие тут кабаки! От города далече, – кабаков не бывает.
– Так где же мы стоим?
– А кто знает, нету пути! Ишь какая метель, – разве что видно... Всю ночь плутали; чай, скоро светать начнет.
Бородатов полез за часами и, испортив десятка два спичек, наконец разглядел: было около пяти.
– Ночевать, что ли, будем? – спросил ямщик.
В его голосе слышалось раздражение. Он и сам не знал, что теперь лучше: ехать ли неизвестно куда, или остаться.
Кони еле дышали, измученные долгою, тяжелою ездой.
– Не далеко до света, – сказал на это Панфилов, тоже колеблясь: без пути и направления ехать казалось ему безрассудно, но было жутко и ночевать под метелью.
Ямщик несколько раз крякал, как крякает русский человек только в самые затруднительные минуты, когда бывает невыразимо досадно, но не знаешь, чем помочь горю, или за что приняться, или хоть кого обвинить в этом, и даже не находишь ни одного надлежащего слова, чтобы выразить им свою грусть. Покрякав, ямщик опять удалился и долго совещался с товарищами. Те так же, как и он, крякали и чмокали и ходили искать дорогу.
– Ин быть по-божьему! – сердито решил ямщик, возвращаясь к повозке. Значит, до света!
Он еще поворчал, хотя слов его уже не было слышно...
О чем-то громко спросили с другой повозки, но он прокричал в ответ что-то бранное. Опять раздался окрик... Ямщик только махнул рукой и сердито прошептал себе в бороду:
"Все одно! Что ж теперь будешь делать!.."
Выходил искать дорогу и Кротов, но возвращался ни с чем и на вопросы Матвея Матвеевича отвечал коротко: "Темнота!"
Наконец, все успокоились и замолчали. Прислушалась вьюжная песня, ухо привыкло к ее скучной музыке; завернувшись поглубже в доху, становилось уже безразлично, воет метель или нет. Ноги начали остывать. Усталая спина отдыхала после долгих ухабов. Клонила дремота... Снег порошил по повозке, улегаясь на крышку; под ноги лошадям наметал ветер целые кучи, которые все росли и возвышались, а крутящаяся муть все еще не светлела, продолжая ныть и напевать свои долгие похоронные песни, и ветер все метался по полю, задевая за верхушки повозок...
Долго царили мрак и вихрь, долго крутились снежные хлопья, пока, наконец, не засветлело в воздухе. Мало-помалу бледнела ночная мгла, и сумрак делался реже, и затихала вьюга, но небо было сплошь затянуто тучами и все еще порошило снегом. Начинало светать... Понемногу, сквозь сыпавшийся снег, очерчивались сначала ближайшие предметы, виден стал облучок, силуэты коней, потом стало можно различить и лицо ямщика и образовавшиеся за ночь снежные холмы, и, наконец, впереди стал виден забор, в который почти упирался коренник.
– Батюшки! Да ведь это станция! – воскликнул удивленный ямщик, хлопнув себя обеими руками по бедрам. – Ишь ты, лукавый попутал!..
И он пришел вдруг в такую ярость, что начал ругаться, оговариваясь на каждом слове: "Прости ты мое согрешение!"
– Ах ты, лукавый!.. Ах ты, сила нечистая, куда завела!.. Вот чтоб тебе ни дна, ни покрышки!
В бешенстве он много раз ударял изо всей силы кнутом по свежему снегу, и прежде чем разбудить седоков, он вволю отругал рассеявшийся мрак и насулил таких невзгод лукавому и всей его родне, что горькая обида отлегла, наконец, от души, и облегчилось его русское сердце.
– Я говорил, что кабак! – рассердился на него Бородатов. – Лошади остановились, значит кабак!
– Где ж он, кабак? – рассердился ямщик в свою очередь. – Станция нешто кабак?
– Как же ты станцию не знаешь!
– Где ж ее знать? Очень хорошо ее знаю, а разве видно? Вон она, теперь ее видно, а давеча разве можно!.. Ах ты, сила нечистая! Чтоб тебе...
В огорчении он опять начал браниться, стараясь припомнить, как было дело: наехал ли он на станционный задворок, или лошади сами дошли по памяти, когда все спали, но только нечистая сила была здесь больше всех виновата, и в этом он был твердо уверен.
Жалкие, продрогшие вошли путники в станционную залу. Раздевшись, все сели ч старались опомниться. Матвей Матвеевич молчал и не мог помириться с мыслью, что станцию в каких-нибудь двадцать верст ехали целую ночь.
Тут же в комнате, развалившись на кресле, спал бритый мужчина, а на диване маленькая худенькая дама; ее лицо от утреннего серого света казалось очень непривлекательным, со следами утраченной красоты. Голоса прибывших разбудили обоих. Сначала проснулся мужчина и взглянул на свет с таким страдальческим выражением, точно от этого взгляда у него заболели все нервы, протер глаза и откашлялся, а потом проговорил, ни к кому не обращаясь:
– Ну, ночка! Черт знает что за погода!
– Большая бура! – сказал на это староста, вышедший навстречу. – Всю ночь крутило.
– А дальше какова дорога? – спросил Матвей Матвеевич.
– Нырковата, сударь. Ямщики вчерась были, сказывают, очень нырковата, к тому же много обрезов намело за ночь.
После мучительной ночи всем хотелось отдохнуть, и сообщение старосты их огорчило.
"Нырковата..." Легко сказать, нырковата! когда опытный ездок заранее чувствует от этого слова боль в пояснице.
– Ох, уж эти мне деревянные станции! – вздохнул Матвей Матвеевич, называя так предстоявшие Кленово, Сосново, Дуброво, где всегда бывает отвратительная дорога, и, кроме того, начинаются опять Аракчеевские аллеи, с которыми не может помириться ни один путник и не может забыть их долгое время.
IX
Последний день!..
Впереди еще целые сутки, а все уже говорят: "Слава богу!" – и мечтают об отдыхе и спокойных вагонах. Однообразен и бесконечен кажется этот последний день, желание отдыха возрастает при виде каждой новой станции, и, несмотря на ухабы, все кричат в нетерпении: "Пошел! Пошел!"
Почти до полудня не переставало хмуриться; серые тучи обложили весь небосклон, и только там, где было солнце, они казались светлее и реже. Однако мало-помалу тучи начали двигаться, поплыли сперва нижние облака, легкие, как дым, а над ними поверху задвигались мохнатые седые клочья; местами делалось чернее от них, местами проглядывала синева; иногда прорезывался внезапный луч солнца и вдруг окрашивал огромную тучу в золотисто-грязный цвет и кидался скорее на дорогу, озаряя на минуту белоснежную окрестность ослепительным блеском... В небе творилось что-то неведомое: было тихо в воздухе, почти безветренно, но тучи, разорвавшись на множество кусков, целыми полчищами двинулись к северу; а с юга вслед за ними выплывали новые облака и тянулись дружными вереницами; за этими следовали еще новые, но уже не хмурые, а веселые и румяные, потом белые, которые серебрились на солнце, плывя врассыпную по голубому небу, – и день засиял во всей своей силе.
Впереди по дороге, так же, как первые вереницы туч, тянулся нескончаемый обоз, занимая собою целиком всю узкую дорогу, и тройкам нельзя было проехать. Шаг за шагом двигались нагроможденные воза, прикрытые брезентами и рогожами, затянутые веревками; около них шля один за одним мужики на большом расстоянии друг от друга и все почему-то глядели вниз на дорогу.
По совету Бородатова, никогда не терявшегося в затруднительных положениях, ямщик еще издали закричал обозникам:
– Свора-чи-вай!
Но те продолжали свой путь, нимало не заботясь.
– Свора-чи-вай!.. – кричал во весь голос ямщик, нагоняя обоз. Гу-бер-натор едет! Свора-чи-вай!
Ближние обозники оглянулись.
"Гу-бер-натор!.." – услыхали они и, не поняв, в чем дело, бросились к возам и замахали руками передним.
– Губернатор! Губернатор! – кричали они уже сами.
– Губернатор! – перекликались дальнейшие. – Гу-бернатор!
И по всему обозу, до самых передних погонщиков, которые виднелись отсюда серыми точками, мгновенно донеслось это магическое слово, передававшееся из уст в уста.
– Губернатор! – раздавалось все дальше и дальше на разные голоса, и все бросались к своим подводам и спихивали лошадей в придорожные сугробы, освобождая путь, по которому во весь дух мчались тройки, а задние мужики, поснимавшие было шапки, увидев обман, стали кричать передним:
– Держи! Держи их!
Но колокольчики громким звоном и ямщики своими кряками заглушали их голоса, и, когда передние обозники догадались в чем дело, повозки были уже далеко впереди, и только снежная пыль летела от них в обе стороны.
Чем ниже опускалось солнце, тем больше беспокоился Матвей Матвеевич; его нетерпение возрастало с каждой минутой: еще каких-нибудь три-четыре часа, и пермский поезд уйдет вместе с Тирманом... А до Перми еще целых три станции!
Пока в Оханске меняли лошадей, Сучков отведал вкусных пельменей и браги, а Панфилов все ходил около повозек и в волнении поглядывал на небо. Ему хотелось остановить время; вернуть бы четыре часа, только четыре часа!..
Часто вытаскивал он свой женевский хронометр и глядел почти с ненавистью, как маленькая проворная стрелка бежала по циферблату.
– Нет, не поспеешь!
Вихрем летели быстрые кони, дух занимался от скорой езды, а вечернее солнце давно уже закатилось, и сумерки вновь затемнили дорогу.
– Ура! Здесь Тирман! – воскликнули в один голос Сучков и Матвей Матвеевич, когда, подъехав к "Култаеву", они увидали знакомую повозку и, прежде чем войти на станцию, поторопились ее оглядеть.
– Она! Она! Это тирманская повозка! – ликовал Сучков. – Глядите, Матвей Матвеевич, – тирманская.
– Ну, теперь не ускачет! – сказал тот и, войдя в комнаты, торопливо осведомился у смотрителя:
– Где Тирман?
– Тирман? Давно уж проехали. Страсть как летят! Все боялись к поезду запоздать: их где-то очень метель задержала, да потом лошадь околела на дороге, так на паре и ехали и деньги за нее отдали ямщику.
– Да он здесь! – возразил Панфилов.
– Нет-с, уехали! – усмехнулся смотритель. – А насчет повозки – дело пустое. Очень уж они торопились: бросили и багаж и повозки, а сами взяли салазки, впрягли лошадей, да и были таковы. Не знаю, как только доедут. Страсть как спешили на поезд, а повозку вместе с багажом велели выслать в Ирбит.
Панфилов слушал смотрителя с нахмуренным челом и, вздохнувши, проговорил спокойно:
– Ну, и черт его побери, когда так!
Спешить теперь было уже некуда: поезд, судя по времени, ушел, и если Тирман поспел, то его все равно не догонишь, а если опоздал хоть минутой, то и сам никуда не уедет до следующего вечера. Поэтому, не торопясь, перепрягли лошадей, выпили чаю и около полуночи подкатили с шумом и звоном к пермской заставе. Ямщики соскочили с облучков и стали подвязывать колокольчики, звон которых по городу воспрещался.
Впереди стояли два каменных столба, похожих на пирамиды, с гербами Пермской губернии, изображавшими бесхвостого медведя с высунутым языком и торжественно приподнятою лапой. За заставой тянулась длинная освещенная улица, с вывесками, номерами, харчевнями. И тройки тихо въехали в дремлющий город, без докучного звона, к которому так привыкло ухо за эти несколько дней, и понеслись по безлюдной улице.
В первый раз после долгой дороги путники успокоились на диванах в комнатах "Вольной почты", хотя, несмотря на удобства, Панфилов долго не мог заснуть; ему все еще мерещилось движение и тряска; забываясь на минуту, он сейчас же пробуждался, воображая, будто диван нырнул по ухабу; и долго чудились ему эти ухабы и качка, долго звучали в ушах колокольчики, и даже во сне он беседовал с Тирманом и воевал с ямщиками.
X
К вечернему поезду на другой день вокзал переполнился публикой, оживленной и разнообразной. Тут и степенный русский купец с мясистыми щеками, и забулдыга-сынок, и приказчик; здесь и татары в собольих остроконечных шапках, и долгополый раскольник, и захолодавший еврей в плисовом картузе; тут же сидит за пустым прибором бритый актер, одетый как-нибудь да не так, как одеваются люди, и, щеголяя убогой оригинальностью, глядит с полупрезрением на всех остальных. Где-нибудь на видном месте пристроилась одинокая дама, у которой во всех движениях лень и нега и глаза с поволокой; где-нибудь быстро знакомится и беседует приятный, но скучающий молодой человек, который бранит забавы и карты, однако от скуки не прочь сыграть в стуколку или метнуть банчишко. Всюду громкий, оживленный говор, смех и рассказы. Этот говор и смех переносятся с вокзала на платформу, с платформы в вагоны и там раздаются еще оживленнее, пока не засвистит паровоз и поезд не двинется с места.
После нескольких суток утомительного пути на лошадях по морозу и вьюге как хорошо и приятно очутиться вдруг в геплых вагонах, не страшась более ни холода, ни проклятых ухабов и, отдохнуть на мягких, спокойных диванах под веселый говор попутчиков! Сутки в вагоне кажутся пустяками в сравнении с сутками на лошадях. Тут и словоохотливые соседи со свежими новостями, тут и рассказчики, потешающие публику "русскими заветными сказками", от которых в горле пересыхает от хохота и за которые жестоко попадает впоследствии от благонамеренных жен.
Сильно утомленный дорогою, Матвей Матвеевич спал как убитый всю ночь, вплоть до Кушвы, известной не столько своею магнитною горой Благодатью, сколько вкусными пирожками со всевозможными начинками, на которые жадно набрасываются пассажиры.
Время летит незаметно: промелькнул Тагил, знаменитое Демидовское гнездо с их чугунными заводами, промелькнула Шайтанка – "чертова" станция, и Невьянск, где подсел известный по всему Уралу золотопромышленник Лоболомов, берущий в дорогу вместо чемодана бочонок водки и угощающий всех налево и направо, знакомых и незнакомых.
От Екатеринбурга подсело много актеров и одиноких дам, которые сейчас же завербовали себе толпу поклонников. Но многие уже спали. Спал и Матвей Матвеевич, не слыша ни громкого смеха, ни хоровых песен. Разбудил его среди ночи кондуктор.
– Ваши билеты! До Камышлова билеты! – взывал он громким голосом, стараясь говорить как можно пренебрежительнее, отчего и казалось, будто он кого-то передразнивает.
– Ваши билеты! Ваши билеты!
Поезд стал медленнее идти и вскоре остановился.
– Скорей, скорей, господа! – торопил Панфилов, когда приказчики, волоча за собою чемоданы, вышли на станцию. У вокзала их уже дожидались повозки, вытребованные телеграммой. Ночь была ясная; луна освещала станционный задворок, где толпились ямщики.
– Панфилову тройки! – крикнул во весь дух Бородатов.
К крыльцу подкатили две повозки, почти такие же, как и прежние, только пошире и потяжелее. Артельщики вынесли багаж, прикрутили его к повозкам и громко скомандовали:
– Пошел! Отъезжай!
Опять заболтали колокольчики под дугою, и тройки, миновавши двор, где шумно рядились извозчики с седоками, понеслись по скрипучему снегу среди безмолвия зимней ночи.
Восток разгорался ярче и ярче. Широкою полосою разливалась по небу румяная заря; звезды гасли, и только луна не успела еще уйти и глядела во все глаза, притаившись на западе, как застигнутый ясным утром ночной гуляка, возвращающийся с пирушки домой.
Тройки летели, обгоняя запоздавшие обозы, которые тянулись почти беспрерывно, распространяя далеко от себя по свежему воздуху резкий запах сырья.
Около возов шли молчаливые обозники на большом расстоянии друг от друга.
Шли они, понурив головы. Лошади тянули подводы с таким же унылым и сосредоточенным видом, будто тоже сокрушаясь о своем житье-бытье, трудовом и безрадостном... А вокруг уже все просветлело. Уже брызнули по небу солнечные лучи и засверкала дорога, когда Матвей Матвеевич открыл глаза и толкнул Бородатова:
– Проснись! Скоро Ирбит!
Действительно, вскоре показались две башенки городской заставы, а за ними крыши построек. Чувствуя близость конца, лошади помчались во весь дух, обгоняя обоз за обозом...
А городская застава все вырастала и приближалась; вот уже ясно виднеются ее остроконечные столбики; вот городская окраина и длинная улица, по которой замелькали дома и прохожие, вывески, лавки с товарами; вот, наконец, теагр и Сибирский банк; вот нотариус, доктор, биржа и гостиный двор, у которого стояла группа людей, глядевших с любопытством на проезжих.
Прежде всех Матвей Матвеевич заметил в этой группе Тирмана. Он стоял высоко на порожке и, узнавши Панфилова, замахал ему шапкой и крикнул во весь голос:
– С приездом, Матвей Матвеевич! Добро пожаловать!
– Скотина! – тихонько, сам для себя прошипел в ответ ему Панфилов, услыхавши вслед за поздравлением хохот.
Однако проигрыш был уже ясен.
Тройка остановилась на углу гостиного двора перед запертые магазином Матвей Матвеевич, отдуваясь, вылез из повозки. Ямщик улыбался, сняв с головы шапку.
– Счастливых успехов! – говорил он Панфилову. – С ярмаркой вас!
Бородатов доставал ключи из кармана, а подбежавшие сторожа готовились отворять железные ставни, у которых Анютин и Кротов осматривали печати.
– Сходи за попом, через час будем молебен служить, – сказал Панфилов и обратился к Бородатову: – Ломай печати!
Под звуки железных болтов, загремевших по железным ставням, на Матвея Матвеевича вдруг нахлынули деловые заботы о срочных векселях, товаре и покупателях, а дорожные интересы со всеми приключениями, видами и природой отодвинулись на задний план.
Ярмарочная, суетливая жизнь захватила все его мысли.
1892
Сухая беда
I
В студеную зимнюю ночь, когда вокруг все было черно и беззвучно, чуваш Максимка безмятежно спал на своей койке, накрывшись тулупом... Вдруг ему показалось, что дверь со двора, которая с вечера заперта была на крючок, распахнулась внезапно сама собой и в комнату ворвался сильный ветер, а вместе с ним в клубах морозного пара появился на пороге высокий старик, весь в белом, с белой бородой, и поплыл точно по воздуху прямо к тому месту, где было окно; но, проходя мимо койки, он обернулся и взглянул на Максимку ясными строгими глазами и исчез...
Обомлевший от ужаса, Максимка почувствовал, что холодный пот капает у него с лица, а сердце прыгает и колотится в груди, точно сорвавшись с своего места.
В комнате по-прежнему мрак и тишина. От ужаса мысли Максимки путались; жутко было лежать зажмурясь, но взглянуть в эту черную ночь было еще страшнее, и ни за какие сокровища в мире он не вылез бы теперь из-под своего тулупа.
Это был сухощавый крепкий парень лет двадцати трех; лицо у него было широкое, бесстрастное, без живых красок, глаза маленькие, усики жидкие, точно повыдерганные. Родом он был чуваш, один из тех приволжских чувашей, прозванных в шутку "Василиями Иванычами", и Максимка по привычке всегда оборачивался на такой окрик, к удовольствию уличных мальчишек, кричавших ему при встрече: "Василий Иваныч!" – и с хохотом разбегавшихся, когда тот обертывался и наивно спрашивал:
"А?.."
Над ним все издевались, все почему-то думали, что Максимка может чувствовать только тогда, когда его бьют, а понимать – когда его ругают; все считали его дураком, но сам о себе он был совершенно иного мнения; он умел играть на шыбыре [Шыбыр – пузырь вроде волынм! (Примеч. автора).], мог делать пряники и пюремечи [Пюремечи – картофельные ватрушки (Примеч автора).], умел петь сколько угодно песен, а надуть на базаре торговца, да еще самого ловкого, было его любимым занятием, – поди-ка, много ли найдется таких людей! Он очень гордился этим и, когда его бранили дураком, не обижался, а только думал про себя: «Ладно, погоди ужо!..» Он любил весеннее щебетание птиц, любил тихие звездные ночи, когда глядит на него с высоты ясная Семизвездница, похожая на ковшик, а поперек неба белеет Дорога Диких Гусей [Так называют чуваши Млечный Путь (Примеч автора).], про которую рассказывал ему дед так много страшного и таинственного. Максимка любил в такие ночи посидеть на воздухе и помечтать о своей судьбе; это доставляло ему удовольствие, а если случалось стащить у хозяйки комочек соли и луковицу, то звездная ночь да этакое лакомство делали его почти счастливым. Он переносился мыслями на родную Волгу, вспоминал, как она широка, вспоминал окрестные поля и деревни, свои милые далекие картины. Помечтать о них Максимка всегда любил; иногда и тосковал по родине, но вернуться на Волгу не собирался: что ему там делать?
Разве найдешь еще где-нибудь такую девушку с такими ясными глазами, как Феня, такую ласковую, но строгую-престрогую, которой даже страшно сказать, что она хороша? А на родной стороне Максимке жилось не сладко: в жены ему досталась баба вдвое старше его, с зычным голосом и крепкими кулаками, совсем не умевшая ценить в своем муже доброго сердца. Что ни день, то выходила ссора, что ни ссора, то бабьи побои да жалобы, и не стерпел, наконец, Максимка; а когда он бывал взволнован либо пьян, то становился жестоким. Он зарычал на жену, как зверь, отколотил се напоследках веревкой, сорвал у нее с головы сурбан [Сурбан – повязка из длинного полотенца. Разрывая сурбан, чуваши исполняют обряд развода. (Примеч. автора).], соблюдая дедовский обычай, разодрал его надвое: половину бросил жене, другую часть взял с собою и ушел; но, когда уходил, растрогался и заплакал.
За судьбу свою он не страшился: лучше его никто не умел играть на шыбыре, и Максимка твердо верил, что не пропадет, если станет показывать это уменье по далеким ярмаркам, о которых слыхал много соблазнительного. На его счастье, была пора, когда с утра до ночи тянулись по Волге обозы с товарами, когда в людях нуждались, и Максимка, нанявшись в обозники, исходил много дорог и городов, много видывал разных людей и многому научился от них, пока, наконец, не попал в здешний город. Надеясь всех удивить своей музыкой, он, с волынкой за плечами, отправился в первый же кабак с предложением, но кабатчик смерил его взглядом с головы до ног и, заметив, что лицо у парня скучное, одежда рваная, ответил кратко, но вразумительно:
– К черту-с!
Музыкант не обиделся и пошел дальше. На постоялом дворе хозяин был внимательнее и переспросил, глядя на шыбыр:
– Это что ж за история?
– Шыбыр, – повторил Максимка.
– Нука-сь, послушаю.
Максимка задудел, а хозяин в раздумье почесал затылок; потом Максимка запел; тогда хозяин с сокрушением чмокнул губами и, вздыхая, промолвил:
– Нет, этакой подлости нам не требуется...
Куда ни обращался потом Максимка, везде ему отвечали одно и то же; наконец, он и сам понял, что его заунывный шыбыр и его грустные песни здесь не по месту, а веселых он петь не умел. Отовсюду его стали гонять с его музыкой; сначала выгоняли попросту, потом начали толкать в шею, а если где и не ьолотнлк, то обещались поколотить в следующий раз... Как провел он целую зиму, чем кормился и где ночевал, – до этого никому не было дела; известен Максимка стал только через год, когда, бросив мечту о песнях, он благополучно служил у Емельянихи в ее пряничном заведении, отпирал ворота, колол дрова, а во время ярмарки бегал на посылках, от хозяйских жильцов. Особенно любил он Афанасия Львовича Курганова, который, бывало, приедет к ним на ярмарку и начнет сорить деньгами: того ему купи, за этим сбегай, – и Максимку сразу приметили все, кто раньше не хотел его знать.








