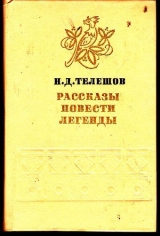
Текст книги "Рассказы. Повести. Легенды"
Автор книги: Николай Телешов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 15 страниц) [доступный отрывок для чтения: 6 страниц]
– Нет, как я попался, как я попался! Словно мальчишку надул. И догадало его подсунуть мне эту чертову афишу!
Он дернул афишу за угол и сорвал ее со стены.
– Все равно, Матвей Матвеевич, давайте закусим на скорую руку, да и марш вдогонку.
Подали ужин, но Панфилову не пилось, не елось.
– Ах этот Тирмашка несчастный!
Однако плотный ужин и хорошее вино успокоили его настолько, что, садясь в повозку, он сказал Бородатову:
– Ну, теперь остается только спать!
Погода была гнилая. С неба что-то сыпалось, не снег, не дождик, а какие-то мокрые и жесткие брызги.
Сначала ехали городом, и, когда миновали так называемую Швейцарию, прилегающую к Казани, повозки погрузились во мрак.
Ночь была черна. Лошади бежали осторожно. Путь лежал уже не по Волге, а по твердой земле. Ямщик боятся сбиться и сдерживал тройку, часто перекликаясь с задними ямщиками. Мороза не было, но ветер ходил винтом и забирался под шубы. Колокольчики надоедливо верещали, особенно по ухабам, откуда насилу вылезали повозки.
До Собакина еще кое-как добрались, но дальше пошла такая дорога, которую даже татары ругали по-русски, а путники бранили татар. Матвей Матвеевич выходил из терпения, но, как на грех, то коренник распряжется, то пристяжная перескочит постромку, или повозка так засядет в ухабе, что лошади по нескольку минут бьются на месте, прежде чем ее вытащить; приходилось даже вылезать из повозок.
– Ну-ка! – говорил тогда бесцеремонно татарин, – выходи, бачка!
Когда же распрягся коренник и пришлось дожидаться, пока его приводили в порядок, Панфилов истощил весь запас вразумительных слов, и ругаться начал уже Кротов, который знал откуда-то много татарской брани. Длинная ночь, безжалостно длинная, скучная, сырая, казалось, завладела всем миром и не думала никогда проходить.
Едешь-едешь, а все вокруг прежний мрак, и с неба все что-то сыплется, и ветер бегает по полю, и слышится шум за повозкою, словно чей-то хвост метет за собою падающий снег...
Усталость взяла свое. Опустили зонты, подняли фартуки и стали дремать под скучную песню начинающейся вьюги.
Матвей Матвеевич спал как убитый, не просыпаясь даже на станциях, когда в повозку впрягали свежих коней.
Когда он открыл глаза, был уже день. Он рассеянно огляделся, как бы стараясь что-то припомнить, и видно было по этим неуверенным взорам, что впечатление какой-то грезы не успело еще остыть.
– Где едем? – спросил он Бородатова, протирая глаза.
Но Бородатов сам только что проснулся и в свою очередь спросил ямщика:
– Где едем?
Не оборачиваясь, татарин поднял руку и указал на видневшиеся вдали сквозь голые прутья деревьев первые постройки уездного города.
– Вон он, Малмыж!
День был хмурый. Серое небо с бродячими рваными тучами словно обвисло от гнетущей тяжести и готовилось опять порошить снегом. Сухой ветер налетал порывами, ударялся в задок повозки и пропадал надолго. Когда, проехав городом, вошли на почтовую станцию и Панфилов увидал смотрителя, то первое слово было про Тирмана:
– Давно ли проехал?
– Тирман?.. Давно. В пять часов утра были здесь, – сказал смотритель, справившись по книге. – И есть ничего не стали; перепрягли лошадей – и дальше!
– Черт знает что за человек! – пожал плечами Панфилов и обратился к Сучкову. – А вы говорите – догоним!
В комнате за столом сидело несколько человек; разговор у них начался, вероятно, давно, потому что нельзя было понять, из-за чего они спорили. Развалившись на широком стуле и лихо заложив ногу на ногу, сидел пожилой господин в теплой венгерке, без погонов, но с георгием на груди, с пухлыми, точно от флюса, щеками, усатый, с широкой плешью. Должно быть, этот господин в своей жизни накуролесил немало: это замечалось по его толстому носу, разрисованному, как драгоценная ваза, мелкими красненькими узорами; наконец, по его хриплому громкому кашлю было заметно, что его богатырское нутро сотни раз простуживалось, прокапчивалось табаком и выжигалось всеми средствами, какие только ведомы акцизным чиновникам. Перед ним сидели два еврея: черноглазый безусый юноша с оттопыренными ушами и седой старик с горбатым носом. Юноша молчал, а старик спорил и горячился; возражая, он то съеживался, то, растопырив пальцы, откидывался всем корпусом в сторону, точно защищаясь обеими руками от своего усатого собеседника, лихо сидевшего на стуле и глядевшего веселыми круглыми глазами.
Еврей доказывал, что евреи необходимы России, что без евреев заглохнет промышленность, а военный говорил что "всех вас нужно прогнать".
– Мне ужасно удивительно, как образованный человек может так говорить!
– А ты слыхал пословицу: "Жид сам бьет и сам кричит". И всегда вы так: запутаете человека разными гешефтами, облупите его, надуете и сами же кричите, что вас притесняют. Именно так: жид сам бьет и сам кричит!
Еврей страшно разволновался, выслушав это. Он всплеснул руками, и глаза его заблестели.
– Жид сам бьет и сам кричит! – воскликнул он в ужасе. – Господин полковник! Аи-аи, господин полковник, какой это срам говорить такую пословицу! А вы знаете, почему такая нехорошая поговорка стала на свете? А вы знаете, господин полковник, откуда такая поговорка? Был на свете один очень глупый пан; у пана была дочь, которая сходила с ума. Один глупый доктор приказал, чтобы сумасшедшая панна всегда веселилась... И вот тогда сделали какое дело: взяли еврея, одели его в длинный кафтан, надели колпак, в руки дали палку и привели еврея на двор. А на него выпускали стаю собак. Собаки рвали его со всех сторон за кафтан, бедный еврей бил собак палкой и кричал на весь двор. Я думаю, всякий будет кричать, когда его рвут собаки! А безумная панна сидела у окошечка, и хохотала, и говорила всем: "Вот какой жид – сам бьет и сам кричит!" Вот, господин полковник, откуда такая глупая поговорка!
В это время его увидал Сучков.
– А, Матвей Иванович! – сказал он, подходя к нему и протягивая руку. И ты с нами на ярмарку?
Еврей, очевидно, был рад, что пришли посторонние, и сейчас же пустился в веселые разговоры с Сучковым.
– Вы не забыли старика Левенштейна? Это его внучек, – говорил он, указывая на молодого еврея. – От дедушки сын, от сына еще сын. Ого! Вот какой старик Левенштейн! – И, желая пошутить, добавил: – дедушка капитал, отец – процент, а этот – процент на процент.
Молодой еврей при этом начал улыбаться все шире и шире, а военный, глядя на него, прыснул вдруг со смеху, и солидный живот его заплясал по коленям.
В комнату вошли еще двое: мужчина в старой рыжей енотовой шубе и дама необыкновенно крепкого сложения.
Это оказались артисты: мужчина был фокусник, а дама – силачка, "девица-геркулес", как она называлась в афишах. Такие артисты за стакан водки никогда не откажутся в зимнюю стужу потешить попутчиков, и когда Сучков предложил им "погреться", то фокусник, прежде чем выпить, накрыл шляпой рюмку, где потом вместо рюмки оказалась перчатка.
– Вот это, брат, люблю! – воскликнул военный. – У нас тоже в полку был один... так тот, чертов сын, у меня в сапоге яичницу сделал! Настоящую яичницу – с луком!!
Фокусник не долго думая достал из кармана колоду карт и подал военному, щеголяя массой перстней с поддельными камнями.
– Прошу заметить одну... Вот так! Держите всю колоду двумя пальцами. Вот так! Ну, ейн, цвейн, дрей!
Он сильно ударил рукой по колоде, которая вся разлетелась по полу, и только замеченный валет остался у военного в пальцах.
– Ах ты, черт тебя забодай! – весело крикнул военный.
Фокусник еще много показывал разных штук, так что его и "девицу-геркулеса" пришлось угощать обедом.
VII
Время летело быстро. Закусив в Малмыже, Панфилов уже нигде более не оставался подолгу, и, когда солнце стало клониться к западу, тройки мчались от последней деревни, приближаясь к вятским дремучим лесам, которые тянутся непрерывно на сотни верст.
Маленькие пузатенькие лошадки, гнедые с черными гривами, черными хвостами и такими же черными полосками по всему хребту, лихо несли повозки, так лихо, как не ездят еще нигде в России. Ямщик татарин даже не трогал кнута, а лишь покрикивал на них, называя их крысами.
Уже алели верхушки дремучего леса и жуткая просека разинула свою пасть, как гигантское чудовище, и страшно было погружаться в ее недра.
Сразу стало темнее и глуше, едва въехали в эту просеку. Меткое народное слово недаром зовет такие леса дремучими. Старый непроходимый лес темен и страшен, хмур и задумчив. Седые сосны стоят сторожами по обе стороны просеки, а дальше – мрак и тайна.
Мчится тройка во весь дух по гладкой скрипучей дороге, звенит колокольчик, пофыркивают шустрые лошадки, но уже нет того раздолья, нет той свободы, что по широкой Волге: гнетет и давит окольная чаща. Старые косматые ели и толстые сосны, отягченные снегом, хмуро следят и провожают взорами резвую тройку, – куда мол, летишь?.. А солнце все ниже опускается, и в лесу становится мрачнее, мрачнее, и начинает трогать душу нелепое предчувствие.
– Абзы! – сказал Бородатое.
Ямщик обернулся. На этот оклик повернется с удовольствием всякий татарин.
– Спой, что ли, нам песенку!
– Для ча нет, бачка! На водку дашь?
– Да ведь вам Магомет запретил водку?
– Запретить запретил, а все, бачка, пьем.
– Ну, ладно, дам Затягивай песню.
Татарин кашлянул, утерся и затянул грубым голосом, очень медленно, на двух нотах:
О царь
Царь Иван
Потом заголосил во всю мочь, на одной только ноте, бистро быстро, как только может выговорить язык
Царь Иван Васильич Грозный
Казань город брал!
Потом опять медленно и грубо продолжал тягучий припев, опять на двух нотах:
Красный башмак!
Красный баш-мак!
И вся его песня была в таком роде, с теми же тягучими двумя нотами в начале, с тою же одною зазвонистою скороговоркой и тем же тягучим припевом.
Между тем зубчатые верхушки леса, рдевшие под косыми лучами, начинали бледнеть и сереть, иногда они вдруг потухали совсем, когда плывущее облако загораживало солнце, а то вдруг опять вспыхивали умирающим светом, но все слабее, слабее, и все угрюмее становилась лесная чаща, и тусклая тень ложилась впереди дороги.
Но небо было светло, и думалось, что где-то далеко в стороне, на просторе, сияет еще день, а здесь уже сгущались сумерки, и мохнатые вершины тихим шумом возвещали о вечере, и в ответ им так же тихо скрипели голые стволы сосняка и крепче задумывались угрюмые ели, раскинувшие во все стороны свои косматые ветви.
Приказчикам было скучно Кротов свирепо глядел по сторонам, досадуя на свою бедность вот бы из этакого леса да построить себе палаты! Анютин тоже глядел на лес, тоже всматривался в чащу и вспоминал прежнее разбойничье время да современные сплетни про некоторых известных купцов миллионеров, у которых деды содержали здесь постоялые дворы
– Не выпить ли? – внезапно толкнул он Кротова, начиная завидовать этим безгрешным потомкам.
Наливши стопку коньяку, Анютин залпом осушил ее и так от удовольствия крякнул, что даже ямщик обернулся и с минуту молча глядел, улыбаясь во все лицо, как Кротов наливал себе и затем тоже выпил, запрокинув голову"
– Что глядишь? – окликнул его Анютин.
Татарин молчал и продолжал улыбаться.
– Больно якши! – сказал он, наконец, с таким удовольствием, будто сам только что выпил.
– Недурно! – похвалил Кротов, поглаживая себя по шубе. – Так, знаешь, и пошел огонек по жилам.
– Больно якши! – повторил татарин и вытер себе губы.
– Что ж утираешься?
Но татарин опять ухмыльнулся и, взглянувши мельком на лошадей, снова повернул к седокам свое скуластое темное лицо, с подрезанными усами и густою, как щетка, бородою.
– Приказчики? – спросил он, выговаривая "брыкасшики".
– Приказчики. А тебе что?
– Ничего, – ответил лукаво татарин и опять улыбнулся – Хозяин едет водку пьет, а нас не потчует, а брыкасшик сам пьет и нас потчует.
– Да, так тебя попотчевать?
Тот весело и широко улыбнулся, даже глаза у него зажмурились от удовольствия. Но когда Кротов хотел налить ему коньяку и он увидал бутылку, то, махнувши рукою, сказал:
– Не могу вино. Водку могу.
– Вот еще какие капризы!
– Закон не велит.
– Полно врать! – рассердился Кротов – Пей, что дают! Все равно у вас закон ничего не велит ни вина, ни водки, а вы ведь пьете не хуже нашего брата!
– Ничего, – успокоил его Анютин, наливая в стопку – Это тоже водка перцовка, видишь, желтая Сам настаивал для дороги.
Татарин заколебался и нерешительно принял из его рук чарку Выпив, он сильно крякнул и сильно потряс головой.
– Больно якши! – восторженно сказал он, утирая губы. – Спасибо! Больно якши!
– Ну, теперь рассказывай, почему тебе водку пить можно, а вино нельзя?
Чувствуя себя обязанным перед ними, татарин подумал, как бы рассказать покрасивее, и начал поэтому издалека:
– Шел пророк Магомет Вот он шел и видит люди сидят, вино пьют. И все целуются и обнимаются. Вот Магомет говорит: "Ишь вино – больно хорошо! Надо велеть всем его пить: все будут целоваться и обниматься, все братьями будут – больно хорошо!.." Потом Магомет шел назад. Видит: люди все пьяные, и ругаются, и дерутся...
Магомет тогда сказал: "Нет, вино – скверное дело! Сперва больно хорошо! Потом больно гадко!.." И запретил пить вино.
– А водку?
– Водки тогда не было, – ответил татарин совершенно серьезно. – Про водку закон ничего не велит. Водку пьем, а вино нельзя. А старики у нас и водку не пьют.
В воздухе стояла непонятная тишина. Было глухо, почти мертво, но не было тихо, потому что неуловимые звуки исходили от бора; они не слышались, а скорее ощущались, как ощущается слухом в пустой комнате присутствие живого человека, который молчит и даже не шевелится; но есть что-то слышное в самой жизни. Обманывает ли зрение, обманывается ли слух, но только никогда, ни в какую пору не бывает совершенно тихо в густом лесу, хотя бы не дрожал от ветра ни единый лист, ни единая хвоя. Вон свалившаяся сосна; лет двести росла она тут – огромная, серая; свалил ее ураган и выворотил вверх корнями. Но не ему бороться с вековыми лесами! Зацепили сосну товарищи за курчавую голову и держат на своих плечах, и не упала она трупом на землю, а легла поперек, как больная; а к торчащим корням ее протянула мохнатую лапу соседняя елка; еще год – и дотянется она до корней и закроет их товарищескою рукою от посторонних взглядов и злых непогод.
– Отмахали станцию! – весело воскликнул татарин, снова обернувшись к Кротову и улыбаясь во все лицо. – Греться будем! Водку пить будем!.. Гайда!! – крикнул он на коней и весело захлопал руками.
Действительно, вскоре показалась станция, с старинным острокрылым орлом наверху, а за нею раскинулся поселок, дворов в пять или в шесть.
Когда вошли в комнату, там за столом сидел молодой смотритель в расстегнутом сюртуке и ерошил волосы, которые и без того были уже все спутаны. У него было сумрачное, точно грязное, усталое лицо и взгляд был рассеян и зол. Казалось, смотритель был пьян. Взглянув на приезжих, он не переменил своей небрежной позы и продолжал ерошить волосы.
– Лошадей поскорее! – сказал ему Панфилов.
Видя, что народу немало, смотритель спросил утомлен ным голосом, в котором чувствовалась досада и рассеянность:
– Сколько вас там?
– "Сколько вас там?" – невольно передразнил его Матвей Матвеевич, начиная сердиться. – Мы не бараны, чтобы нас отсчитывать поштучно! Вам говорят, лошадей!
– Да сколько, сколько?
– Три тройки, да поскорее!
– Столько нету, – заявил смотритель и, вставши, направился к двери.
– Господин смотритель! – строго остановил его Панфилов. – Потрудитесь достать лошадей: у меня курьерская!
– Говорю, сейчас нет. Подождите!
– Это не мое дело! – разгорячился Матвей Матвеевич. – Что за безобразие! Пожалуйте лошадей, я знать ничего не хочу!
– Ради бога, потише, – сказал на это смотритель вялым и ленивым голосом, видя, что Панфилов начинает сердиться и повышать тон.
– Нет, не потише, черт побери! – ответил тот уже вовсе громко. – Знайте свою обязанность!
На беду, в дело вмешался мужик, стоявший до этого у печки. Он подошел к Панфилову и тихо, точно по секрету, начал шептать ему:
– Будьте покойны! Сейчас вернется... По своему делу поехали... Да что ж, Михайло Кузьмич, – обратился он к смотрителю, – ведь можно это сейчас...
Но Панфилов не дал ему даже докончить. Едва он услыхал, что лошадей куда-то угнали по своему делу, как закричал на смотрителя:
– Как же вы смели? Как вы смеете! Тут курьерские, а вы по своим делам!
Сучков и Бородатое тоже накинулись на него с упреками; поднялся страшный шум. Смотритель только весь сморщился и замахал руками, а мужик все вздыхал: "Ах ты, господи! Да постойте! Да ведь это..." Но его шепота не было слышно среди других голосов.
– Не кричите вы, ради бога!!. – закричал уже сам смотритель тонким, взвизгнувшим голосом.
Он подошел к Панфилову и добавил совершенно тихо:
– Здесь, – указал он куда-то, – умирает мой сын... ребенок... У меня голова мутится... Вон Савельич все сделает вам... Я ничего не знаю... Сын умирает... единственный!.. Отправил за доктором... Ну, жалуйтесь на меня... ну, делайте что хотите!
Он опять замахал руками и опустился на стул. Мгновенно наступило молчание; все переглянулись. Только тут заметили, что смотритель был страшно бледен, даже как будто позеленел. А мужик опять зашептал Панфилову:
– Сейчас все устрою... Три нужно? Две-то найду, а вот третью... Нешто у Сидора взять? Али к Кривому сбегать?.. Небось Сидор услал... Ах ты, матушки мои, светы! Одною минутой, господа, обождите!
И мужик, пыхтя и шепча, осторожными, но торопливыми шагами направился к двери и скрылся. Все чувствовали себя неловко. Чужое горе подействовало на них удручающе. Может быть, им стало совестно за свои крики, может быть, всякому пришла на мысль своя семья, с которой тоже неизвестно, что теперь делается!
– Извините, пожалуйста, – сказал Матвей Матвеевич, подходя к смотрителю – Кто же знал, что у вас семейное горе и что ребенок больной Я не стал бы кричать.
– Единственный! – ответил на это смотритель и опять начал путать волосы.
Все молчали.
Анютин осторожно толкнул Кротова и, когда тот обернулся, мигнул ему в сторону, где была выходная дверь, и оба затем вышли осторожными шагами на двор к повозкам.
Туда же пришел и сучковский приказчик. Говорили все тихо, серьезно, точно боялись нарушить покой больного, хотя и стояли под открытым небом.
Вскоре вернулся мужик и привел лошадей. Сбежались ямщики, и в четверть часа повозки были готовы.
– Ах, матушки мои, светы! Эко дело какое! – шептал суетливый мужик, хлопоча около лошадей и бегая вокруг повозок – Одно – к Кривому идти!.. Лошадищей вот сколько!.. Эко дело несчастное! Лекарей этих тоже... легкое дело!..
И, когда все было улажено, он побежал с докладом. Все вышли, разместились по повозкам и молча тронулись в путь Было уже темно. Лесная дорога стелилась гладко и ровно На небе мерцали звезды, но часто заволакивались плывущими тучами Иногда выглядывал молодой месяц; за эти двое суток он значительно пополнел, хотя все еще был похож на шаловливого мальчугана, старавшегося залить своим серебром всю землю, но черные тучи одна за другой наползали на него, как старые няньки, и он пропадал за ними, но вдруг опять выскальзывал и шалил, расточая серебро на верхушки леса, на дорогу, на придорожные сосны, но не дерзал проникнуть в самую чащу, и там по-прежнему было темно и страшно.
Лунный свет всегда странно действует на душу. Когда летнею ночью выйдешь на широкое поле и заглядишься вдаль, где все молчит, все дремлет, то стоишь среди простора и понимаешь ясно в эти минуты, как ты одинок на свете, одинок и ничтожен. Какою бы ни была красавицею ночь, но глядишь на нее не как очарованный, но с тоскою, с вопросом. Ночь ли тебя вопрошает, ты ли вопрошаешь ее, но есть какое-то непонятное общение человека с этим бледным сиянием, с этими вековечными звездами, далью, с этим глубоким небом... Только не понимают твоей тоски ни небо, ни звезды, ни сияющая даль, и ты видишь, что они не понимают тебя. Может быть, оттого, что видишь все это, и становится на душе так печально.
А зимой? Среди леса? В тесной повозке?
Все вокруг приняло вздорный, фальшивый вид. Голые стволы сосен, загроможденные ветками елок, кажутся уродливыми великанами, снег кажется бледно-зеленоватым, а высокий пень или куст делается похожим на человека, поджидающего тебя издали с недоброю целью. Все фальшивит, все не то, что есть, все обманывает, и начинает мало-помалу обманываться сердце. Впереди – спина ямщика, человека вовсе чужого, незнакомого даже лицом; сбоку спящий сосед... он не убьет, не обманет, но он зато и не поймет тоски и одиночества, не разделит их. И томится в чужбине сердце о чем-то родном и взывает к бесконечному небу:
"Брата!.. Друга!"
Но поет колокольчик свою неугомонную песню под дугой, и сиротлива становится жизнь, точно кто-то насмеялся над нею, горько насмеялся и покинул тебя в одиночестве.
VIII
Иногда ляжешь спать лунною ночью, за окном так ясно и хорошо, а проснешься поутру, на дворе уже серая муть, и снег сыплется, как из решета, и глядишь в окно в недоумении: когда же все это случилось? Так думал и Матвей Матвеевич, когда поутру не увидал ни неба, ни леса, а только мелькающий снег, который сыпался в таком изобилии, что сквозь него трудно было разглядеть, что делалось впереди дороги.
И он и Бородатов долгое время молчали, думая о погоде, о Перми, где можно будет пересесть в спокойные вагоны и отдохнуть в тепле от всех невзгод Сибирского тракта.
Пришел на память Матвею Матвеевичу хитрый Тирман, – – где-то он теперь рыщет? Вспомнился гусляр чебоксарский с его задушевными песнями, – хорошо бы еще их послушать!
– Трррр!! – закричал вдруг татарин, перебивая течение его мыслей, и тройка остановилась у станции, похожей как две капли воды на те, которые миновали еще вчера вечером; такая же угрюмая, серая с таким ж старинным орлом наверху, с такими же хрустящими под шагами ступенями, с тою только разницей, что здесь в маленькое оконце выглянула на проезжих женская головка, мелькнуло затем розовое платье; но когда вошли в комнату, там никого не было, кроме смотрителя, валялся лишь на окне недочитанный роман с вышитою по канве закладкой да около пустого стула лежал оброненный платок.
– Господин Панфилов! Как изволите поживать? Все ли в добром здоровье? приветствовал смотритель Матвея Матвеевича, улыбаясь и слегка пригибая спину.
Панфилов с ним поздоровался, хотя и не помнил, что это за человек.
– Лошадей, пожалуйста, поскорей, – сказал он, распахивая шубу. – Да еще нет ли стакана воды?
– Лошади, господин Панфилов, в одну минуту будут готовы, а насчет воды, – возразил радушный смотритель, – господи боже, у меня самовар кипит! Воды, извините, не дам, господин Панфилов! Позвольте вас чайком угостить, не задержу-с! Ей-богу, не задержу!
Он ласково засмеялся и крикнул, повернув голову к двери:
– Сестрица! Сестрица!
В дверях показалась молодая девушка в розовом платье, с платком на плечах; вероятно, она стеснялась чужих и вышла с очень сердитым лицом, точно ее обидели.
– Подай поскорее чаю господину Панфилову. Милости прошу, господа! Насчет лошадей не извольте беспокоиться: сию минуту все будет готово. У меня задержек не бывает-с!
Он проворно собрал все лишнее со стола, спрятал недописанный листок почтовой бумаги, но сейчас же опять его подвинул к Панфилову, сказавши:
– Мужичку письмо писал: сыну посылает. Темный народ! Неграмотны.
При этом он указал в письме на две последние строчки и весело, добродушно усмехнулся. Там было написано:
"Лошадки тебе кланяются, три коровки тоже, четвертую продали..."
– Хи-хи-хи, какие поклоны! – сказал смотритель, принимая с видимым удовольствием папиросу из панфиловского портсигара. – Мужичок-то пишет от сердца, только читать смешно-с! Просвещения не имеет.
Когда девушка, стесняясь и краснея, подала Матвею Матвеевичу большой стакан чаю на огромном черном подносе, с толстою мельхиоровою ложкой, смотритель, видя ее смущение, сказал, не отрываясь от дела (он прописывал в это время подорожные):
– Скучает сестрица: людей не видит! Одичала совсем! Только книжками и развлекается, да у нас какие книжки – пустяки одни!.. А погодка-то, господин Панфилов, ведь вовсе, с позволения сказать, дрянь! Форменная дрянь!
– А взгляните-ка в книге, – перебил его тот, – когда здесь проезжал Тирман?
– Тирман-то?
Смотритель не только не взглянул на книгу, но даже бросил писать и повернулся к Матвею Матвеевичу.
– С Тирманом у нас, я вам скажу, целая катавасия вышла. Ей-богу, катавасия! Форменная катавасия! Помилуйте: подкатили это они к вечеру, часов этак около семи на вчерашние сутки. Я это с Тирманом занялся, тем да другим, а тут молодой человек остался. Прихожу назад – батюшки мои! так-то с сестрицей любезничают, шуры-муры да разные штуки... ведь какой тоже вострый!.. Попеняйте ему, молодому-то человеку: никогда у меня этого не бывало. Не едет, да и шабаш! Целая катавасия! Тирман торопится, а этот уперся. Такого промеж себя шума настроили, что того гляди подерутся. Никогда у меня этого не бывало, чтобы шум заводили проезжие.
Панфилов от души пожалел, что Мифочка послушался Тирмана: пусть бы подольше поспорили! И, допивши стакан, простился с смотрителем.
– Может быть, в последний раз, господин Панфилов, видимся. На возвратном пути, впрочем, заедете, а то скоро железная дорога пройдет просвещение, святое дело! Гибнем мы здесь, в глуши-то. Да не у нас ее проведут, нам от этого еще хуже будет уж совсем никого не увидим тогда! Будьте здоровы! Счастливого пути!
На облучок залез татарин, сверкнув на лету зелеными пятками своих сапогов, и повозки снова тронулись в путь по запушенной свежим снегом дороге.
Где-то вдали на селе кончалась обедня. Звуки праздничного колокола доносились сюда вместе с ветром. Уже несколько верст отъехали от этого места, а все еще время от времени казалось, будто в воздухе разливаются звуки колокола. Это гудел лес тихим ропотом; но, гудя, он стоял строго, как великан, не трогаясь ни одним сучком, и только боковые сосны и ели качали укоризненно головами, точно стыдя ветер за его проказы с молодыми елками. И ветер стихал, словно пристыженный. Тогда снег сыпался спокойно и ровно на землю, и было очень тихо вокруг, пока опять не поднимался ропот и придорожные деревья опять не начинали своих споров с капризным ветром.
– Завтра будем под Пермью! – уверенно говорил Панфилов, видя, как мчатся по гладкой дороге шустрые вятки. – Авось каким-нибудь чудом Тирман застрянет в пути!..
Впереди уже открывался простор. Леса кончались с их таинственным гулом, суровостью и гладкою дорогой.
На просторе снег сыпался иначе, чем в лесу, и ветер гулял беззаботно по широкому полю, дуя то вправо, то влево – как вздумается.
Миновали станцию, где отняли вяток и дали русскую тройку, для которой понадобились снова и кнут и брань...
Проехали еще станцию, где старый татарин, он же староста, умел выпивать не переводя духа столовый стакан водки – всегда на панфиловский счет. И на этот раз Панфилов не отказал ему в заведенном обыкновении, только просил дать ямщика получше.
– Не беспокойся, бачка, хорош будет!
И дал совсем пьяного, который свалился на первом лее ухабе, так что Бородатову пришлось держать его за кушак целую станцию. Панфилов выходил из себя от досады и бранился без устали Но ямщик, покачиваясь на облучке, весело вскрикивал на тройку, не признавая себя пьяным, хотя вожжи валились из рук, и глаза едва глядели, и голос был похож на мычание.
– Н-но! Но! – мычал он, стараясь поднять руку, на которой болтался кнут.
На всяком ухабе он страшно перегибался: спина валилась назад, голова тянута вперед, и весь он, казалось, расчленялся по суставам, а ухабы были на каждом шагу. Несмотря на это, ямщик все бодрился и все кричал: "Н-но!" – и упрашивал Бородатова не беспокоиться и не держать его за кушак, уверяя, что для него это дело привычное.
Моросил снежок. Лихо катили сани, поскрипывая полозьями, весело покрикивали ямщики, и на далекое пространство разносился говор колокольчиков.
Начинало уже вечереть, когда путники пообедали на одной из станций и торопливо тронулись дальше Грязное небо делалось все сумрачнее и как будто опускалось все ниже и ниже.
Мелкий снежок закрутился быстрее, гуще и вдруг повалил хлопьями. По деревьям, окаймлявшим дорогу, пробежал ветер, взвыл на минуту и умчался неизвестно куда; потом опять загудел где-то сбоку, и кинулся вверх, и перепутал все снежные хлопья, которые так и шарахнулись от него под ноги лошадям.
"Плохо дело! – подумал Матвей Матвеевич, прислушиваясь к гуденью ветра. – Неспроста гудит".
И ветер точно гудел неспроста.
В его песне слышалось что-то зловещее, словно он явился предвестником вьюги, или, по тамошнему наречию, буры. Он бегал больше понизу и, опередив повозки, дул прямо на них, подметая снег под ноги лошадям, которые с трупом добежали до следующей станции.
Войдя, никто против обыкновения не крикнул смотрителю; "Лошадей!" Все молчали и не знали, на что решиться.
– Скверная погода! – сердито вымолвил Панфилов, садясь на диван. – Того и гляди, метель!
– Главное дело, к ночи! – поддакнул Бородатов.
Остальные поглядели в окошко и ничего не сказали.
За окном сильно стемнело, хотя было еще не поздно.
– Так как же, господа? – спросил Панфилов, оглядывая всю компанию и не зная, на что решиться.
Среди общего раздумья и тишины вдруг где-то жалобно-жалобно запищал ветер, таким тоненьким голосом, точно муха, попавшая в паутину.
– Придется ночевать, должно быть...
Никто не возражал. Все глядели в разные стороны, и все были невеселы.
– В третьем году вот так же, – сказал Сучков, – мы остались, а игнатьевские приказчики поехали на авось! Ну, и поплатились: всю ночь плутали. Некоторые доехали до станции, одного насилу оттерли, а другого вытащили из повозки закоченелого... что за удовольствие!
Все повесили головы. Блуждать до утра под метелью никому не хотелось.
– Господа, я, по совести, не могу вас пустить, – вмешался в разговор смотритель, седенький старичок, стоявший тут же в дверях. – Переночуйте лучше; за ночь погода уймется, и с богом! А то долго ли до греха? И волков здесь у нас много, целыми стаями ходят.








