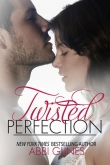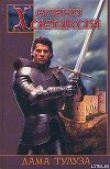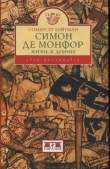Текст книги "История альбигойцев и их времени (часть вторая)"
Автор книги: Николай Осокин
Жанр:
История
сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 37 страниц) [доступный отрывок для чтения: 14 страниц]
Всякий католик может быть добровольным сыщиком еретиков, и местные бальи получили приказание под страхом лишения должности содействовать им в том всеми мерами (канон 7). Королевский бальи может свободно проникать с такой целью во владения графа тулузского и других вассалов (канон 9). Еретики, отказавшиеся от ереси перед судом, делятся на две группы: отказавшиеся по убеждению и отказавшиеся от страха. Первые выселяются в католические города из своего местопребывания и там носят в знак прежних заблуждений на груди два креста цвета, отличного от цвета платья; их называют «крестоносцами по ереси»; они не могут занимать ни общественных должностей, ни гражданских мест без особого разрешения папы или его легата (канон 10). Еретики второго рода содержатся в заключении за счет тех, кому досталось их имущество, а за неимением его – на иждивении епископа (канон 11).
Кроме таких мер были приняты предохранительные средства от заразы ересью. В каждом приходе будет произведена перепись. Всякий юноша, достигший четырнадцатилетнего возраста, и девушка двенадцатилетнего – должны были давать клятву: хранить католическую веру, доносить об еретиках и преследовать их; эту клятву следовало возобновлять каждые два года (канон 12). Всякий дол жен исповедоваться и приобщаться три раза в год: на Рождество, Пасху и Троицу, кто этого не соблюдает, подозрс вается в ереси (канон 13).
Мирянам запрещалось держать на дому книги Ветхого и Нового Завета (это первое запрещение иметь дома Евангелие), за исключением богослужебных книг и псалтыря, и то не иначе как на латинском языке (канон 14).
Тот, кто был уличен или заподозрен в ереси, не мо жет заниматься медициной и лечением. Если больной при общем из рук священника, то его следует тщательно оберегать от приближения посторонних, до самой кончины или до выздоровления, потому что в подобных случаях встречались совращения (канон 15). Завещания должны писаться в присутствии священника или, за неимением его, другого духовного лица – иначе они недействительны (канон 16).
I* Священникам вменено в обязанность присутствовать при погребении. По воскресеньям и праздникам главы семейств в приходах должны непременно быть в церкви, выстоять мессу и выслушать проповедь (канон 25). Несоблюдение этого правила влечет штраф в двенадцать денариев, одна половина которого идет в пользу синьора.
Давая такое значение духовенству, делая его правящим сословием в «новообращенной стране», собор не забыл обеспечить его экономическое положение. Для того были восстановлены все иммунитеты и привилегии церквей; с клириков вообще было запрещено брать налоги, если они не купцы и не женаты; духовные лица были обеспечены десятинным сбором. Ради подавления феодалов, которые опозорили себя в глазах Церкви союзом с ересью, собор распорядился внести в каноны воспрещение строить новые укрепления и поддерживать старые и, между прочим, положил пределы возвышению дорожных поборов. Лиги были воспрещены; суд должен производиться безвозмездно (97).
Теперь легат пожелал научить присутствовавшее духовенство производству церковного розыска в делах ереси. Это должно было произойти на примерах, которые в то время находились скоро. Вильгельм, синьор Пейрпертюз, овладевший одно время Пюи-Лораном, и барон Нэро де Ниорт были заподозрены в ереси. Улики были слишком шатки, но достаточны, как всегда, чтобы оставить их под подозрением. Оба барона присуждены были покаяться через пятнадцать дней, под страхом отлучения и конфискации.
Это пустое само по себе дело замечательно тем, что в нем впервые были применены формы инквизиционного процесса. Они попали даже в одну из современных им хроник (98), вероятно потому, что удивляли даже привыкших к насилию людей XIII века. Внешне приемы судопроизводства были, казалось, великолепно соблюдены. Допрашивали множество свидетелей. Самый главный из них был некто Вильгельм Солье, некогда альбигойский священник, потом сумевший вовремя отступиться, покаяться перед легатом и стать его доверенным лицом по «розыскам» других еретиков. Его католическая репутация стала безупречной, так как в нем легат приобретал смелого доносчика и искусного шпиона. На каждого епископа возложена была обязанность допросить отдельно одного или нескольких свидетелей; свои протоколы они представляли легату, который взял на себя лишь руководство делом. Сперва допра-шивали надежных свидетелей, в благоприятных показаниях которых были уверены; потом переходили к прочим. Очные ставки воспрещались. Предлагая вопросы новым свидетелям, легко запутывали их в показаниях и тем их самих ставили в положение заподозренных и подсудимых. Запуганные торжественностью допроса, некоторые из них спешили выпутаться из затруднительного положения принесением раскаяния во всем, в чем теперь стали уличать их, и получили прощение легата; другие, не успевшие попасть в требуемый тон, запутывались еще больше; третьи, весьма немногие, которые были посмелее, чувствуя, что оклеветаны доносчиками и из католиков сделаны еретиками, потребовали у легата обыкновенного, прямого суда и указания обвинителей, между которыми могли быть их личные враги. Они неотступно преследовали легата своими настояниями даже в Монпелье. Кардинал отказал им, но показал общий список свидетелей и обвинителей, из которого они, конечно, ничего не могли понять.
Так, в этой первой, робкой попытке инквизиционного процесса присутствует вся дальнейшая система инквизиции – систематическое уменье сделать человека из правого виноватым, опутать его каверзными вопросами, заставить перенести тяжелые душевные муки, видеть везде предателей, невольно предать даже близких себе – и все это только одним обманом и казуистикой судей. Такое умение было возведено в принцип.
Новоизобретенные юридические тонкости легата возмутили католиков в Тулузе. После отъезда кардинала в городе поселились общее недоверие и подозрение друг к другу. Всякий боялся доносчика. Люди умеренной партии должны были или видеть личных врагов в ярых католиках, в этих ловцах еретиков, или соединиться с ними. Заподозренные искали тех, кто их оклеветал.
«С возвращением епископа Фулькона точно злой дух поселился в столице», – говорили тулузцы. На улицах нача лись столкновения, а потом дело дошло до убийств. Убий ства стали повторяться. Однажды в пригородном лесу нашли истерзанный труп королевского сенешаля, рыцаря Андрея Калве. Убийство такого лица, как и прочие беспорядки, едва было не навлекли на Раймонда тяжелой ответственности перед королем. Но Людовик IX на этот раз не послушал наветов; он жалел и щадил графа.
Раймонд VII стал покорным рабом короля. Прежняя энергия более не одушевляла его. Он делает две-три патрп отические попытки, но безуспешно. Французская администрация успела сковать Юг крепкими цепями. Подданные графа тулузского находились в руках духовенства, а он сам едва смел возвысить свой слабый голос, чтобы стать миротворцем в своей стране. Одинокий, постепенно погружаясь в апатию, он доживал эти тяжелые для него годы. В единственной своей дочери он видел что-то чужое, ожидавшее его смерти, – она принадлежала не ему, а семейству и династии, исторически враждебной его дому.
Одновременно с этим перестало греметь на Юге ненавистное имя Монфоров. Этот зловещий для Лангедока род, с которым было связано столько ужасов и крови, сдал несчастную страну с рук на руки власти более твердой, которой под иной формой суждено было осуществить дело Симона. Амори Монфор в дальнейшем повел жизнь авантюриста. Он искал счастья в Палестине, но под стенами Газы попал в плен к мусульманам, просидел в Вавилоне, был выкуплен и, возвращаясь в Европу, умер в Отранто в 1240 году, оставив сына Жана, дочь которого породнилась позже с домом Дрё. Второй сын Симона, Гюи, граф Бигоррский, умер при осаде Кастельнодарри вскоре после смерти отца. И он, и третий сын, Роберт, не оставили мужского поколения. Четвертый, соименный отцу, приобрел громкую известность в английской и вообще европейской истории. Своим невольным служением свободе он осветил некоторым блеском герб Монфоров, опозоренный злодействами. По жестокой энергии он напоминал своего отца; по уму и государственным способностям значительно превосходил его. Он покинул Францию, озлобленный против регентши, которая расстроила его брак с графиней фландрской. Удалившись в Англию, он получил от Генриха III титул великого сенешаля и руку сестры короля Элеоноры. Когда он впал в немилость, то стал во главе недовольных и, призвав на помощь народ и города, победил и пленил короля. Он положил начало английскому парламенту, будучи вызван к тому ходом событий. Потом он попал в новые бури и погиб вместе со своим сыном в битве при Ившеме 4 августа 1265 года. Другой его сын, Гюи, скрывался у сицилийского короля от преследований врагов, но его потомство снова вернулось на службу Франции, где Монфоры играли не последнюю роль в рядах вымиравшего рыцарства до прекращения этого рода при Людовике XII.
Последний представитель династии графов тулузских, которую судьба обрекла на столь гибельное столкновение с Монфорами, то покорно склоняется под опеку духовенства, то решается неоднократно, но всегда неудачно свергнуть французское иго. С подданными его продолжают связывать общие несчастья.
В 1233 году Раймонд VII должен был подписать статут, которым приказывал хватать и наказывать еретиков, лишать их имущества, срывать их дома. Он настоятельно запрещал своим баронам и рыцарям делать оскорбления или даже оказывать неуважение аббатствам и монастырям, особенно цистерцианским.
На альбигойцев теперь охотились как на зверей; их искали в лесах и, измученных, вели к беспощадному суду. Они были изолированы. Серьезной оппозиции на Юге уже давно не существовало. Тем легче было проявляться мстительности духовенства и тем шире был простор для деспотизма нового правительства, которое иногда становилось тождественным с инквизицией. В доменах короля и в доменах Раймонда инквизиционный дом делался тогда центром власти, одновременно духовной и гражданской.
Интерес истории Франции этой эпохи сосредоточивается на той темной реакции, выражением которой была инквизиция.
Мы должны рассмотреть зарождение, первые проявления, развитие, устройство и деятельность этого учреждения. Мы начнем с того момента, когда зародилась сама идея инквизиции, выразившаяся в нетерпимости к иноверцам.
Протоколы инквизиции, документальные памятники того времени, послужат нам для изучения истории последних альбигойцев.
Глава вторая
Нетерпимость и Инквизиция
Общий очерк истории нетерпимости Западной Церкви с первого ее проявления до упреждения инквизиционных трибуналов. Законы Фридриха И против еретиков и Римские законы против патаренов 1231 года. Начало доминиканской инквизиции и повсеместные восстания против трибуналов. Очерк инквизиционных распоряжений против еретиков Иннокентия IV и его преемников до Евгения IV. Учреждения первой инквизиции: права инквизиторов, подразделение подсудимых, допросы, пытки, наказания, обращения, епитимьи, обряды, тюрьмы; предупредительные меры. История собственно провансальской инквизиции. Попытки Тренкавеля и Раймонда VII к восстанию; убийства в Авинъонете; вмешательство Генриха III; Лориский договор; взятие Монсегюра и новые процессы. Протоколы инквизиции до 1248 года; смерть Раймонда VII.
Общий очерк истории нетерпимости Западной Церкви с первого ее проявления до учреждения инквизиционных трибуналов
Старые католические богословы, защитники инквизиции, считают ее святым учреждением, ниспосланным самим небом для поддержания чистой веры и для борьбы с ересью. Инквизиция, по их словам, носит в себе зачатки и признаки своего божественного происхождения, поскольку никакая человеческая мудрость не могла бы изобрести средства обороны, столь спасительного для Церкви. Внушенная божественной инициативой, она именуется святой, а ее трибунал – святым домом.
Не довольствуясь заявлением такого дикого утверждения, казуисты стараются привести доказательства глубокой древности инквизиции (1). Тогда как сам термин «инквизиция» (в его общепринятом смысле) впервые стал известен в XIII столетии, католические богословы смело уверяют, что инквизиция вовсе не новое учреждение, что она неразлучна чуть ли не с самим существованием мира.
С этой целью они с любовью останавливаются на книге Бытия и на тех местах Ветхого Завета, где закон Моисеев дает гневные повеления касательно израильтян, преступивших завет Иеговы и потому обреченных к смерти (2). Толкуя VII и XVII главы Второзакония, направленные против идолопоклонников, упомянутые богословы видят в них непоколебимый аргумент в пользу древности, достоинства и святости инквизиции, и даже самое название учреждения, то есть розыск, считают заимствованным из четвертого стиха главы XVII этой книги (3).
Исходя из условий древнеиудейской жизни, католические доктора богословия стремятся найти поддержку сио им нечистым идеям и в книгах Нового Завета. В Евангелии, этой скрижали милосердия, они на каждой странице прочли бы беспощадный приговор инквизиции, но если мм они не могли встретить никакого оправдания своей проповеди, то по поводу истории обращения апостола Павла казуисты имели дерзость приписать Христу свойства карающего, а уж потом утешающего и поучающего. Папские декреталии официально установили такое оскорбительное для христианства мнение.
Протестантские писатели в справедливом негодовании против инквизиции клеймили позором и кощунство ее апологетов, и низость тех римских первосвященников, которым так или иначе они приписывали ее изобретение, и саму организацию. Не касаясь достаточно глубоко этого вопроса, они считали пап виновниками появления того духа нетерпимости в Западной Церкви, который в сущности сам собой породил инквизицию в вопросах верующей совести.
Таким образом, и те и другие ошибались.
Инквизиция в широком смысле как система гонения на свободу совести действительно была современна христианству. Скажем более: христианство унаследовало ее от языческого мира. С каким-то болезненным предчувствием древний Рим боялся всякой новой веры.
«Всегда и везде почитай богов по обычаю отцовскому, – говорил Меценат императору Августу, – и других принуждай почитать их. Приверженцев новизны преследуй всяческими наказаниями, ибо отсюда происходят заговоры, тайные общества и политические секты. Все это вредно для государственного единства».
Такой консервативный дух в религиозном вопросе древний Рим преемственно передал средневековому.
И религиозная свобода, то есть право открыто исповедовать по собственному выбору ту или иную веру, и свобода совести, то есть право иметь те или другие религиозные убеждения, установлены как принципы человечества лишь в новейшее время. В ту далекую эпоху, когда учение Христа стало все более и более распространяться по областям римского мира, эта религиозная свобода уважалась настолько, насколько не вредила политическим интересам, спокойствию и безопасности империи. Но христиане должны были войти в столкновение с божествами империи и их могущественными покровителями, с императорами.
Как граждане первые христиане были образцом покорности. Они были бы вполне безопасны для империи, если бы не жили в своих особенных, частных общинах. Смиренно склоняя голову перед земной властью, воздавая Цезарю все то, что предписывалось его положением, христианин твердил слова Учителя: «Царство мое не от мира сего».
Христианин не мог исполнить только одного, из-за чего готов был перенести ужаснейшие истязания и погибнуть на костре. Он не мог поклониться идолу Пантеона [20]20
Пантеон (букв. – «храм всех богов») – храм, в котором осуществлялось поклонение божествам рода Юлиев. После перестройки его Адрианом включал в себя изображения большинства богов империи. Поклониться идолу Пантеона– в данном случае означает выражение почтения по отношению к божественному императору.
[Закрыть] и принести ему жертву. Когда преемники великого Цезаря обоготворили себя и потребовали богопочитания, они увидели в этих доселе спокойных и тихих людях злейших и неукротимых врагов, стойко принимающих смерть за свою веру. Тут-то языческий мир и подал пример христианскому. Пример, которому следовали после весьма усердно. Известны страшные гонения, поднятые на христиан и иудеев в I столетии. При Тиберии их изгнали из городов, при Нероне-стали жечь, кидать зверям на съедение, распинать на крестах и «к мучениям присоединяли осмеяние», – как говорит Тацит [21]21
См. «Анналы», книга XV, 44.
[Закрыть] .
Но что значили для этих людей все мучения и самая смерть, когда смерть представлялась для них счастливым освобождением от уз земных, а жизнь не чем иным, как переходом к лучшему, блаженному миру.
Сын Констанция Хлора [22]22
Константин Великий.
[Закрыть] понял, какую выгоду для им перии и династии может принести религия, предписыван шая покорность власти, равнодушие к политическим пра вам и к земным благам, религия, уважавшая монархические формы в государстве и искавшая идеалов в загробном жизни. Когда христиане получили право беспрепятственно исповедовать свою веру и когда вскоре эта вера была объяи лена господствующей в государстве, светская власть взяла под свое особенное покровительство служителей христиан ского культа. Из гонимых последние сделались гонителями. Конфискация, смертная казнь грозила тем язычникам, ко торые осмелятся мешать собраниям христиан.
Между тем церкви умножались и богатели; духовен ство составляло особенную касту, мало-помалу отстранившуюся от гражданской жизни, касту, свободную от юрисдикции обыкновенных судов и подчиненную особым духовным судилищам, юрисдикция которых становилась все шире и шире. Зато епископы, всемогущие при дворе, верно и ревностно служили императорам, считай. их представителями божественной власти и стремясь к осуществлению высокой идеи создать единую Церковь в единой империи.
Нельзя сказать, чтобы епископы первое время были довольны светской властью. Они имели основание роптать против Константина, который, благоприятствуя христианству, в то же время торжественно даровал споим народам свободу совести и право веровать по желании) каждого. Он был равнодушен к непонятным ему препираниям внутри новой Церкви. Была минута, когда на несколько лет древний языческий мир восторжествовал над христианским [23]23
Имеется в виду правление Юлиана Отступника (361—363 гг.).
[Закрыть] , но это было последнее проявление угасавшей жизни.
Вновь укрепившись, благодаря сочувствию и покровительству императоров, христианское духовенство изменило свою тактику. Оно объявило язычеству войну не на жизнь, а на смерть. Законы Иеговы, взятые из книги Второзакония, были услышаны с высоты императорского престола, как наставления неба. Церковь, как бы отстраняя новые опасности, стала вдруг воинствующей и крайне нетерпимой. Она запрещала, буквально следуя словам Моисея, щадить идолопоклонников, вступать с ними в родство, повелевала разрушать их жертвенники, сжигать идолов и даже истреблять все народы, которые предадут Господа. Из Бога милосердного и всепрощающего она сделала Бога «сташного».
Почти все императоры IV века подчинялись этому голосу и объявляли гонения на иудеев и язычников, оставляя пока в покое тех из последних, которые вели тихую жизнь и не смущали своим примером христиан. Жрецы языческие были лишены всех привилегий; богатства языческих храмов были конфискованы. Язычники мало-помалу теряли политические преимущества и права, которые переходили к христианам.
Иудеям под страхом костра было воспрещено совращать в свою веру христиан и, также под страхом казни, вступать в брачные союзы с христианами (4). По закону Константина служить на военной и гражданской службе могли только христиане. Язычники не могли иметь рабами христиан, они были лишены прав усыновления.
Потом всякое снисхождение было отложено в сторону и законом 341 года христианство приняло принудительную систему. Язычество императором Константином было признано преступлением – жертвоприношения были воспрещены, все должны были отказаться от обрядов языческого культа: «всякий ослушник будет поражен мечом» (5).
Жрецы, лишенные средств к существованию, должны были под страхом казни стать последователями ненавистного им Христа, так как удалиться из всемирной империи было некуда. Их храмы были разрушены или обращены в церкви, очищенные крестом. Философские школы Александрии и Антиохии закрылись, всякое обучение в нехристианском духе было запрещено. Свободы совести более не существовало.
Так развилась идея нетерпимости на заре средневековой христианской истории. В IV столетии было посеяно семя инквизиции. В нем мы видим ее принцип, ее начала, ее приемы, сам дух ее. Светская власть обречена была служить ей. В ту эпоху раздельного существования Церквей, император, по признанию Евсевия Кесарийского, являлся как бы общим епископом, поставленным над всеми самим Богом. Церковь же владела лишь мечом духовным, не по ражающим, а оживляющим.
Уже первый христианский император должен был оказать ей такую услугу, когда смуты, посеянные Арием, начали раздирать Церковь. Арианство обрело популярность. оно стало религией целой массы христиан. Константин, всегда опиравшийся на епископов, принял их сторону и объявил исповедание антиарианское – католическим; он желал, чтобы одна эта религия была исповедуема всеми народами империи. В законе, изданном на следующий гол после никейского собора, проходившего в 326 году, им ператор лишил еретиков всех привилегий, которые стали доступны одним католикам.
Если не в духе Константина было принимать суровые меры – будь то против еретиков или против язычников, – то все же вместе с Никейским Собором он осудил еретиков на изгнание и издал эдикт, по которому все книги, написанные Арием, должны быть сожжены и под страхом смерти всякому подданному запрещалось иметь и скрывать их6. В этих мерах им, без сомнения, руководило духовенство. Оно перестало следовать и наставлениям евап гельским, и практике первых трех веков, допускавшей и свободное хождение еретических сочинений и свободу совести.
Иисус некогда повелел Петру обращать и увещевать каждого в заблуждении не семь, а седмижды семьдесят раз, явно тем воспрещая всякую насильственную меру, а апостол Павел советует только отвращаться от еретика, уклоняться от него, и то после первого и второго вразумления, продолжая смотреть на него как на брата и предоставляя ему казниться самоосуждением (7).
Этому кроткому совету, достойному святости и нравственности евангельского учения, следовали духовные власти первого времени. Святой Дионисий, епископ коринфский, говорил, что если еретик склонен обратиться к Церкви, то надо воспринять его с кротостью, избегая всякою повода, могущего раздражить его и сделать упорным в своем заблуждении. Ориген согласен допустить в личности некоторую самостоятельность в религиозных воззрениях, если она не касается существенных положений догматики. Было время, когда ересь умели побеждать убеждением, славным состязанием. Так Святой Юстин спорил с Трифоном, Родон с Маркионом, Кай с монтанистом Проклом, Ориген с арабским епископом Берилой, он же с арабами, отрицавшими бессмертие души, александрийский собор 235 года с Аммонием, наконец, Архелай с Мани, который даже спас последнего от рук раздраженной толпы. Эльвирский собор 303 года был весьма строг к доносителям, а касательно еретиков постановил принимать их в лоно Церкви, согласно их желанию, не подвергая иному наказанию, как только церковному десятилетнему покаянию (8). Никогда Церковь первых трех веков не преследовала еретиков, предоставляя им полную свободу. Она увещевала тех только, кто сам обращался к ней за словом объяснения, и если ее увещевания были безуспешны, то ограничивалась отлучением.
Годы ее торжества омрачили ее историю. Они сделали ее нетерпимой и к своим, и к чужим.
Императоры Диоклетиан и Максимиан, ради спокойствия империи, издали эдикт, осуждавший на костер агитаторов манихейства и тех последователей Мани, которые не отрекутся от своих убеждений.
Раскрывая так называемый «Кодекс Феодосия», принадлежавший императорам IV и V века, с удивлением встречаешь ряд драконовских законов против ереси, готовый материал для монахов XIII века. Император Феодосий (379– 95) написал пятнадцать из них, положив этим основание позорному зданию инквизиции. Он протянул дружескую руку римскому олигархическому духовенству и, боясь усиления последователей Ария, омрачил позором насилия и преследования христианскую Церковь, назначение которой было действовать словом убеждения. Всякий так называемый католический император считал своей государственной обязанностью следовать его примеру. Это стремление вначале проявилось смутно, слабыми попытками; Константин издал лишь два подобных закона; Валентиан I – один, Грациан – два. Но преемники Феодосия I на Западе усердно следуют его примеру. Аркадий издает двенадцать постановлений против ереси; Гонорий, соединивший обе империи, – восемнадцать; Феодосий II – десять; Валентиниан III – три (9).
В свою очередь, арианин Констант II мучил и преследовал католиков.
В продолжение этих ста лет, когда, по выражению Марцеллина, христиане свирепствовали друг против друга неистовее диких зверей (10), не только созрела идея нетерпимости, но и принесла кровавые плоды. Страшные законы против язычников теперь были применены против христиан-некатоликов. У них отняли право собрания. Префекты, преторы, начальники диоцезов получали приказание убивать еретиков, если они не восстановят католических церквей, разрушенных ими. Сперва, а именно в 381 году, грозили еретикам преследованием императорских судей, если они добровольно не отрекутся от своих заблуждений. Вскоре их объявили подлежащими преследованию и суду особых лиц, которые тогда уже назывались инквизиторами и судили по тайным показаниям доказчиков. Такой суд ввел Феодосиё I законом 383 года против манихеев (11).
Этот закон останется первым историческим фактом в истории инквизиции, если под ней понимать всякое гонение на ересь вообще.
До сих пор секретный донос принимался только в делах о высших государственных преступниках, где шел вопрос о безопасности империи. Феодосий применил его к тем, кто мыслил иначе, чем господствующая Церковь. Преступления против католической веры были объявлены государственными преступлениями. Это особенно от носилось к манихеям. Их имущества конфисковывались, у них были отняты все гражданские права. Им запрещено было наследовать, продавать, вступать в договоры. Даже по смерти их преследует инквизиция, так гласит закон 407 года. С другими еретиками поступали мягче: подозреваемого в заб луждении увещевали покаяться, и если достигали цели, то ограничивались церковным дисциплинарным наказанием Иначе угрожало изгнание с огромными штрафами, коп фискация, наказание плетью и ссылка на незаселенные острова. Иногда, как замечено, местная власть могла присудить и к смертной казни. Исполнение декрета лежало ни ответственности начальников провинций и диоцезов, судов, дуумвиров, декурионов; в случае, если они будут делать послабления, им самим грозили огромные штрафы и различные конфискации (12).
Исторические факты являются отражением идей, господствующих в той или другой сфере жизни. Если к таким печальным последствиям пришла практика древней Церкви, то какое было сознание внутри ее самой по вопросу веротерпимости? Шли ли эти грустные факты рука об руку или в разлад с теорией?
Исходя из евангельского учения, отцы и богословские писатели первых трех веков, преемники апостольских учеников, стояли на его высоте. Они предписывали невозмутимую терпимость не только к иноверцам в христианстве, но даже к язычникам. Одна молитва о заблудших бы к единственным орудием их пропаганды.
Святой Игнатий, патриарх антиохийский, который учился христианству у апостолов, предписывает эфесеянам молиться за язычников. «Они одержимы бременем идолопоклонничества, но надо надеяться, что раскаянием они снимут его и искренне обратятся ко Христу. Страдайте за них и заставьте поучаться примером ваших дел». Он велит остерегаться еретиков. «Вам остается только молиться за них, чтобы они покаялись. Хотя их обращение и покаяние весьма трудны, но Господь наш Иисус Христос, истинная жизнь наша, имеет власть совершить это». «Убеждай всех о спасении, – пишет он Поликарпу Смирнскому. – Выполняй служение твое, не щадя ни телесных, ни духовных трудов. Заботься об единстве, выше которого ничего. Переноси присутствие всех, как и тебя переносит Господь; терпи всех во имя любви; терпи тех и других с кротостью, если хочешь, чтобы Господь терпел тебя».
Тертуллиан, сам боровшийся с ересью в лице Марциала, на этот счет высказывался еще определеннее: «Свобода следовать той или другой вере основывается на праве естественном и человеческом, так как образ исповедания одного лица не может причинить ни зла, ни добра другому. Вера не имеет надобности противодействовать кому-либо, поэтому надо, чтобы она была свободна, а не внушена силою, ибо принесение жертвы должно быть по своей природе действием свободной воли. Если вы принудите нас священнослужительствовать, то не доставите тем ничего приятного вашим богам; они не только не могут возлюбить вынужденные жертвы, но делаются недовольны и сварливы, а сварливость не есть качество божественное».
«Надо обратить внимание на то, – писал святой Киприан Карфагенский, – что Господь не осуждал и не угрожал, а только обратился к своим Апостолам и сказал им: "Не хотите ли и вы идти". Так соблюдал Он закон, дающий человеку свободу идти по пути жизни или смерти».
«Мы никого не удерживаем против воли, – пишет Лактанций, умерший в 325 году, – ибо тот, кто не имеет ни веры, ни благочестия, бесполезен для Бога. Веру должно защищать не убивая, а умирая за нее, не жестокостью, а терпением. Словами, а не насильно возбуждают волю, а ничто не требует столько доброй воли, как религия. Она перестает существовать, как только исповедующий ее лишен воли» (13).
Ничего нельзя сказать более убедительного против насилия над совестью и против системы инквизиции.
Арианство, в лице императора Констанция (351—361 годы) и особенно вандальских королей Гейзериха и Гундериха, первое подало пример гонения на католиков. Не было жестокости, которой не пробовали и не испытывали бы духовенство и арианские государи над ненавистными им католиками. Должно заметить, что никогда в годы своего торжества, последние, по признанию самих ариан, до подобного изуверства и ожесточения не доходили. Церкви и католические монастыри жгли; людей истязали, кому отсекали руки и ноги, кого убивали; девиц, женщин жгли медленным огнем и потом клеймили; непокорных толпами отправляли в африканские степи, предварительно изувечив. Вандальские истязания вошли в пословицу; героями их были ариане [24]24
В реальности настоящие гонения против православных происходили при короле Гундерихе (477—484 гг.). При последующих королях вандалы ищут компромиссы с православными.
[Закрыть] .
Об этих гонениях епископ Виктор написал целую книгу, рассказывая, как король Гундерих кидал в ямы сотни живых людей. Епископы арианские, Георгий, Север, Люций, были главными начальниками и агитаторами.