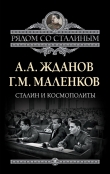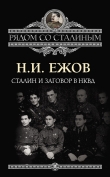Текст книги "Покушения и инсценировки: От Ленина до Ельцина"
Автор книги: Николай Зенькович
Жанры:
Публицистика
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 31 (всего у книги 45 страниц)
Приложение N 20: ИЗ ЗАКРЫТЫХ ИСТОЧНИКОВ
Из доклада В. Калиниченко Генеральному прокурору СССР
(Владимир Калиниченко – член следственной бригады, направленной в Минск, следователь по особо важным делам при Генеральном прокуроре СССР.)
… Четвертого октября 1980 года в 14 часов 35 минут от здания ЦК КП Белоруссии в сторону города Жодино выехала автомашина ГАЗ-13 «Чайка», госномер 10-09 ММП под управлением водителя Е. Ф. Зайцева. Рядом с водителем сидел П. М. Машеров, на сиденье сзади – офицер охраны майор В. Ф. Чесноков. Вопреки правилам и соответствующим инструкциям впереди шла автомашина сопровождения ГАЗ-24 обычной окраски, не снабженная проблесковыми маячками. И только сзади, подавая звуковыми и проблесковыми маячками сигналы, двигалась автомашина ГАИ.
На трассе Москва-Брест шириной до двенадцати метров пошли по осевой со скоростью 120 км/ч. Такая скорость рекомендуется службой безопасности, так как, по расчетам, она не позволяет вести по автомобилям прицельную стрельбу. Дистанцию между собой держали в 60 – 70 метров. За километр до пересечения трассы с дорогой на Смолевичскую бройлерную птицефабрику первая «Волга», преодолев подъем, пошла на спуск. До катастрофы оставались секунды. Грузовик, вынырнувший из-под МАЗа, увидели сразу. Правильно сориентировавшись в ситуации, старший эскорта резко увеличил скорость и буквально пролетел в нескольких метрах от двигавшегося навстречу и несколько под углом грузовика. Водитель Машерова пытался тормозить, но затем, ориентируясь на маневр «Волги», также резко увеличил скорость. Петр Миронович уперся правой ногой в стенку кузова «Чайки» и, как бы отстраняясь от надвигавшегося препятствия, выбросил вперед правую руку, отжимаясь от лобового стекла…
Из рассказа полковника КГБ В. Сазонкина
(Валентин Сазонкин – бывший начальник личной охраны П. М. Машерова. Незадолго да автокатастрофы был переведен в центральный аппарат КГБ БССР.)
В последнее время появилось довольно много публикаций о Машерове. Одни авторы пытаются доказать, что еще не все заслуги Петра Мироновича признаны, еще не все почести оказаны ему. Другие – представляют его оппозиционером, этаким бунтарем, неким мучеником режима Брежнева. Третьи – убеждают в том, что его гибель – преднамеренное убийство по политическим мотивам с целью устранения конкурента в борьбе за власть.
Мне, проработавшему тринадцать лет ряд ом с Петром Мироновичем в качестве начальника его личной охраны, хотелось бы высказать некоторые соображения на этот счет.
Авторитет его, несомненно, высок. Само имя Машерова говорит о многом, но обожествлять его не следует. Человек он был земной со своими, как и у всех, сильными качествами и слабостями, достоинствами и недостатками. Но утверждать, что Машеров был оппозиционером, бунтарем, противником режима Брежнева, по меньшей мере несерьезно. Руководство партии и страны, в том числе и генсек, относились к нему с уважением. Скажите, какой оппозиционер удостаивался чести быть приглашенным на семейные торжества? А Машеров с супругой между тем бывали на семейных торжествах у Брежнева. Скажите, какого оппозиционера пригласил бы генсек на охоту в свою вотчину, в Завидово под Москвой? Петр Миронович же там охотился, и много раз. Более того, чтобы угодить гостю, генсек во время утиной охоты приглашал Машерова в свою лодку.
Оказывались Петру Мироновичу со стороны Брежнева и другие знаки внимания: тот дарил ему, к примеру, добротные охотничьи доспехи. Я очень сомневаюсь, что Брежнев кого-то еще так ублажал на охоте, как Петра Мироновича.
Ярлык оппозиционера впервые приклеила Машерову парижская газета «Комба» во время его пребывания во Франции в 1976 году. «Комба» поместила большую и явно провокационную статью некоего Александера под заголовком «Главный оппозиционер режиму Брежнева Петр Машеров в Париже». Машерову перевели публикацию, воспринял он ее равнодушно. Каким образом оценили эту статью в ближайшем окружении Брежнева, сказать не могу. За год-два до гибели Машерова генсек заметно охладел к нему. Видел ли он в Машерове своего конкурента в борьбе за власть? Думаю, что нет. Генсек настолько обезопасил свои тылы, что ему ничто не угрожало.
Резонен и другой вопрос: а стремился ли сам Машеров в Москву? Я убежден: нет и еще раз нет! Еще в бытность Машерова первым в Минске время от времени распространялись слухи о его возможном переводе в Москву. Эти слухи доходили до него. Однажды он и в моем присутствии признался, что на эту тему с ним никто и никогда не беседовал…
… Однако ставить Машерова в положение оппозиционера, бунтаря против режима Брежнева – это глубокое заблуждение. Достаточно хотя бы бегло посмотреть его последнее выступление, напоминающее оду в адрес Брежнева. Уверен: Машеров особо не насиловал себя, когда произносил эти слова. Он не мог думать одно, а говорить другое. Допускаю, что где-то в глубине души Машеров, возможно, и не одобрял действий Брежнева по каким-то конкретным вопросам, но выступать против Центра, да еще за спиной генсека, он просто не мог, характер не позволял…
… Была ли гибель Машерова преднамеренным убийством по политическим мотивам, как это пытаются доказать некоторые авторы, или это был трагический случай – ответило правосудие. Все точки над "i" поставлены.
И тем не менее возникает вопрос: почему органы КГБ, охранявшие Машерова, не смогли уберечь его от гибели?
Попытаюсь высказать свое субъективное мнение, поскольку к тому времени в его личной охране я уже не работал.
Итак, почему КГБ, допустивший гибель Машерова, остался в стороне? И кто все-таки должен был ответить за этот «промах» в работе? Вина бывшего председателя КГБ республики генерала Никулкина, отправленного на пенсию за две недели до гибели Петра Мироновича, несомненная. Он не выполнил приказа Центра, возлагавшего на него персональную ответственность за безопасность первого, а перепоручил ее своим подчиненным, к тому же совершенно не владеющим спецификой этой службы. В результате в охране Машерова оказались сотрудники, по своим профессиональным и физическим данным не способные справиться с порученным делом. Это в первую очередь относится к погибшему вместе с Машеровым сотруднику охраны В. Чеснокову. Его вина в гибели первого секретаря неоспорима. Чесноков должен был руководить действиями водителя, чего он, к сожалению, в силу своей неподготовленности не сделал.
Не могу умолчать и о двух телефонных звонках из КГБ СССР. Спустя примерно час после гибели Машерова позвонил из Москвы первый заместитель председателя Комитета госбезопасности СССР генерал Цвигун. Руководителей КГБ республики в тот момент на месте не оказалось. Мне, дежурному по приемной, пришлось ответить на его телефонный звонок. Вначале Цвигун поинтересовался, действительно ли погиб Машеров. Я подтвердил. Заместитель председателя КГБ разразился потоком брани и угроз в наш адрес, обещал прислать в Минск большую группу ответственных работников из Москвы для разбора причин катастрофы и наказания виновных.
Через пятнадцать-двадцать минут генерал Цвигун перезвонил. Тон его разговора оказался, однако, совершенно иным. О группе из Центра он больше не упомянул. Чем объяснялась столь резкая смена настроения генерала, остается только гадать.
(Беседа записана 15 августа 1993 года в г. Минске)
Приложение N 21: ИЗ ОТКРЫТЫХ ИСТОЧНИКОВ
Из беседы с Н. П. Машеровой
(Машерова Наталья Петровна – дочь П. М. Машерова. Руководитель Белорусского союза им. П. М. Машерова.)
Я до сих пор не верю в случайность случившегося, хотя прямых доказательств у меня нет. Я читала следственное дело, видела фотографии. Даже для дилетанта были понятны натяжки и издержки…
Отец не дожил до Пленума ЦК КПСС меньше двух недель. Все было решено. Он шел на место Косыгина. Я понимаю, что отец мешал многим. Именно тогда, в октябре 1980 года, «взошла звезда» Горбачева.
Я полагаю, что, останься отец в живых, история СССР разворачивалась бы по-другому. У него были соратники, мыслящие конструктивно, не боящиеся идти против течения. Вспомните хотя бы рано ушедшего из жизни Владимира Игнатьевича Бровикова.
(Беседа записана 26 мая 1995 года в г. Минске)
Глава 12
ДВА ОТПУСКА ЧЕРНЕНКО
После очередной кончины в марте 1985 года очередного генсека партии Черненко в народе любили рассказывать такой анекдот.
Перед ноябрьскими праздниками парторг цеха думает, кому нести на Красной площади флаг в строевой колонне.
– Ты, Иванов, понесешь! – наконец решает он.
На следующий год снова:
– Иванов, ты!
Спустя год – опять:
– Иванов, флаг понесешь ты!
– Все я да я, – сокрушается рабочий, – и при Брежневе – я, при Андропове – я, при Черненко – я, каждый год-я…
– Неси, неси, Иванов, у тебя рука легкая.
Злая шутка. Черный юмор. Но – к месту. Уж больно много странного было в той череде смертей. Что ни год, то похороны.
ИНВАЛИД НА ТРОНЕ
Страна разочарованно смотрела на нового лидера, чей портрет украсил первые полосы газет и экраны телевизоров. «Живьем» генсека с первых дней избрания показывали редко. Сутулый, седой, как лунь, задыхающийся, проглатывающий слова, кашляющий, он не мог привлечь симпатий широкой публики.
Тягостное впечатление осталось от его выступления на траурном митинге во время похорон Андропова. Церемония прощания с усопшим генсеком транслировалась по телевидению, и все видели, что небольшая надгробная речь давалась Черненко с большим трудом.
Он не к месту останавливался, как будто ему не хватало воздуха, вытирал платком губы и лоб, его правая рука едва приподнялась, когда он прощался со своим предшественником у могилы.
И все, смотревшие телевизор, поняли, что самую высокую, самую главную вершину власти в стране занял безнадежно больной старец.
Неприятие облика нового вождя усугубили распространяемые участниками траурной церемонии подробности поведения Черненко на похоронах, не показанные телевидением. К Мавзолею он поднимался с помощью недавно сооруженного в Сенатской башне Кремля специального подъемника, а спускался при поддержке двух охранников. Было очевидно, что протянет он недолго.
Жалели Андропова – хорошо начал, да слишком мало времени отпустила ему судьба быть у руля государства: всего каких-то пятнадцать месяцев. Недоумевали – почему избрали генсеком именно Черненко?
Ходили смутные слухи о разногласиях в Политбюро по поводу кандидатуры на пост генсека. Говорили, что противостояние возникло сразу после кончины Брежнева, когда кресло лидера оспаривали две могущественные фигуры – Андропов и Черненко. Тогда победил Андропов. Его сторонники, похоронив своего патрона, продолжали борьбу против Черненко, стремясь не допустить этого консерватора к власти, настаивая на выдвижении молодого, перспективного лидера.
Увы, никакой борьбы против кандидатуры Черненко не было. Рассекреченная недавно рабочая запись заседания Политбюро от 10 февраля 1984 года, на котором обсуждалась кандидатура нового генсека, раскрывает атмосферу решения этого вопроса.
Заседание открылось в одиннадцать часов. На председательском месте – Черненко. Это не вызывает удивления – при Андропове Черненко был вторым лицом в партии и в отсутствие генсека вел заседания высшего партийного синклита.
– Товарищи, – обращается он к собравшимся, – вчера мы рассмотрели основные организационные меры, связанные с похоронами Юрия Владимировича Андропова. Сейчас нам нужно решить еще один вопрос, который мы не решили вчера.
Черненко поднимается и пересаживается в середину общего стола, на свое обычное место, которое занимал, когда не замещал генерального секретаря. Оттуда он обращается к девятнадцати таким же, как и сам, старцам:
– Сегодня у нас один вопрос – это вопрос о Генеральном секретаре ЦК КПСС. Какие будут предложения? Прошу товарищей высказаться.
Первым слово взял председатель Совета Министров Тихонов:
– Вношу предложение рекомендовать очередному пленуму ЦК КПСС избрать Генеральным секретарем ЦК товарища Черненко Константина Устиновича.
В поддержку выступают Громыко, Гришин, Устинов, Горбачев, другие члены Политбюро. Как, и Горбачев тоже? Трудно отказать себе в удовольствии процитировать хотя бы один абзац из его панегирика:
– Обстановка требует того, чтобы наша партия и прежде всего ее руководящие органы – Политбюро, Секретариат – были сплочены как никогда… Заседания Политбюро и Секретариата, которые Константин Устинович ведет в последнее время, проходят в духе единства, в духе учета мнений всех товарищей… Единодушие, с которым мы сегодня говорим о кандидатуре Генерального секретаря, называя все однозначно кандидатуру Константина Устиновича, свидетельствует о том, что у нас в Политбюро действительно существует в этом отношении полное единство…
Выступили почти все. Ни один из членов высшего партийного синклита ни словом не обмолвился об известном им заключении врачей, представленном в Политбюро четыре месяца назад, осенью 1983 года, о полной потере Черненко работоспособности и установлении ему инвалидности. На первом же пленуме предполагалось вывести его из состава Политбюро.
Зная из медицинского заключения расширенного консилиума ведущих специалистов страны о невозможности восстановить здоровье и работоспособность Черненко до исходного уровня. Политбюро тем не менее рекомендовало пленуму, открывшемуся 13 февраля 1984 года, избрать инвалида на пост главы государства.
Если бы Андропов принял решение об отправке Черненко на пенсию в связи с состоянием здоровья до своего отъезда в отпуск, «эпохи Черненко» в истории советского государства никогда бы не было.
Но – словно какой-то злой рок повис над страной в первой половине восьмидесятых годов.
СРОЧНЫЙ ВЫЗОВ
В сентябре 1983 года начальник Четвертого Главного управления при Министерстве здравоохранения СССР Евгений Иванович Чазов собрался наконец в Германию.
Долгое время он не мог выбраться в немецкий город Йену, чтобы получить диплом почетного доктора, присужденный местным университетом за комплекс работ в области кардиологии. Несколько раз обговаривались сроки поездки, но их приходилось переносить в связи с обострением болезней высокопоставленных пациентов. Сначала это был Брежнев, теперь вот Андропов.
Сидя в самолете, Чазов перебирал в памяти подробности отъезда Юрия Владимировича в отпуск. У генсека были больные почки, и потому отдых решили совместить с лечением. В Крыму, в Нижней Ореанде, размещалась так называемая «первая дача», на которой в течение восемнадцати лет отдыхал Леонид Ильич. Дачу построили по распоряжению Хрущева, который тоже несколько раз там отдыхал. Вряд ли мог представить Никита Сергеевич, что роскошные спальни со временем превратятся в больничные палаты.
Чазов вздохнул, вспоминая, как под его руководством переоборудовали помещения. Готовили специальные комнаты для установки искусственной почки, для обслуживающего персонала. Изо всех сил старался начальник Девятого управления КГБ генерал Плеханов, по наблюдениям Чазова, самый близкий и преданный Андропову человек.
Уже через несколько дней после прибытия в Новую Ореанду Андропов преобразился. Наверное, крымский климат добротворно повлиял на него. Иногда он даже улыбался и шутил, чего ранее за ним не наблюдалось неделями. Улучшилась походка, бодрее стало настроение. Почувствовав себя вполне удовлетворительно, Андропов не стал задерживать возле себя Чазова и отпустил его на несколько дней в Германию. В Москву из Крыма возвратились вместе с Плехановым, и начальник всемогущей «девятки» не видел оснований для задержки в столице главного кремлевского врача – состояние здоровья генсека не вызывало тревоги.
В Йене Чазова встречали с почтением. И хотя он за свою жизнь был удостоен многих высоких наград, каждый новый знак признания своих заслуг воспринимал не без волнения.
Старейший в Германии университет, носящий имя Шиллера, готовился к главному событию, сопутствующему вручению почетного диплома – торжественному приему в честь новоиспеченного доктора. Зал, где должна была состояться праздничная церемония, заполнялся профессорами и академиками – светилами мировой медицинской науки, их нарядно одетыми супругами.
До начала оставалось около получаса. Чазов нетерпеливо посматривал на себя в зеркало, одергивая непривычный смокинг. В дверь вдруг постучали:
– Товарищ Чазов? Вас срочно просят соединиться с Москвой.
В дверях стоял высокий человек в немецкой военной форме. Чазов, мысли которого были полностью поглощены предстоящим торжеством, непонимающе уставился на вошедшего.
– Кто просит? С кем конкретно в Москве? И, вообще, надо выяснить, как отсюда звонить…
– Вы будете говорить по специальной связи, – мягко произнес немец. – Это недалеко, на окраине города. Я вас быстро туда доставлю.
Минут через двадцать Чазов уже разговаривал с Крючковым. Далекий голос с Лубянки прорывался сквозь треск и писк специальной международной линии:
– Евгений Иванович, вам необходимо срочно вылететь в Крым. Прямо из Йены.
– Прямо из Йены? – переспросил Чазов. – Не заезжая в Москву? Владимир Александрович, что случилось?
– Подробностей я не знаю, – сказал Крючков. – Врачи говорят, что ничего угрожающего на данный момент нет, но просят срочно приехать.
Чазов понял, что речь идет об Андропове, хотя фамилия не произносилась. Неужели его состояние ухудшилось?
– Евгений Иванович, – услышал он голос Крючкова, – не будем терять времени. Вертолет из Берлина за вами уже вылетел. Скоро будет у вас. В Берлине на военном аэродроме готовится к полету Ил-62. Он доставит вас в Симферополь.
Вернувшись в университет, где ждали хозяева, Чазов забежал на несколько минут в зал и, извинившись, сказал, что, к сожалению, не может участвовать в приеме. На академика смотрели с удивлением: столы накрыты, приглашенные готовы занять места. А человек, ради которого все это делалось, заявляет, что вынужден срочно их покинуть.
Чазов не мог, не имел права объяснить причину своего внезапного отъезда. Все, что касалось здоровья высшего партийного руководства, являлось особо охраняемой государственной тайной. То, что академик появился в сопровождении лиц в военной форме, только разжигало любопытство.
Через полчаса, так ничего никому и не сказав, Чазов сел в вертолет, который в наступивших сумерках понес его через Германию в Берлин. На военном аэродроме стоял готовый к полету большой многоместный Ил-62.
Экипаж состоял из военных летчиков, поднятых по тревоге. Они с любопытством смотрели на единственного пассажира, ради которого был затеян специальный воздушный рейс. Пассажир был молчаливым, как бы ушедшим в себя. Он напряженно думал над возможными вариантами усложнения ситуации, которые потребовали его срочного возвращения из Германии – прямо из-за банкетного стола. Наверное, произошло нечто экстраординарное.
Самолет приземлился в Симферополе ночью. Диспетчеры посадили его подальше от аэровокзала, чтобы не привлекать внимание публики к фигуре единственного пассажира, спускавшегося по трапу. Сев в ожидавшую его «Волгу», Чазов узнал, что со здоровьем Андропова плохо. Чазов глубоко вздохнул: прошло всего десять месяцев после избрания Андропова генсеком.
Подробности стали известны в Новой Ореанде. Почувствовав себя в Крыму хорошо, Андропов решил съездить погулять в лес – чтобы разрядить больничную обстановку «первой дачи». Погуляв пешком по лесу, он присел на гранитную скамейку в тени деревьев.
В конце сентября в Крыму климат коварный. На солнце кажется, что очень тепло, а попадешь в тень зданий или леса – пронизывает холод. Посидев некоторое время на гранитной скамейке, Андропов почувствовал озноб и попросил, чтобы ему дали теплую верхнюю одежду. Но было уже поздно – на второй день ему стало плохо. Осмотрев после прилета из Германии рано утром вместе с хирургом Федоровым высокопоставленного пациента, Чазов увидел распространявшуюся флегмону. Требовалось немедленное хирургическое вмешательство, и Андропова тотчас же перевезли в Москву.
Операция прошла успешно, но силы организма были настолько подорваны, что послеоперационная рана не заживала. Состояние больного неуклонно ухудшалось. С октября он фактически перестал непосредственно руководить страной, хотя время от времени принимал своих помощников, читал присланные бумаги.
По свидетельству Чазова, Андропов начал понимать, что из этого состояния ему уже не выйти. Однажды, глядя Чазову прямо в глаза, он сказал:
– Наверное, я уже полный инвалид, и надо думать о том, чтобы оставить пост генерального секретаря…
С октября 1983 по февраль 1984 года мир Андропова был ограничен больничной палатой и залом для проведения процедуры очистки крови. Чувствуя, что сам стал инвалидом и дни его сочтены, он никогда не возвращался к теме болезни Черненко и не поднимал вопроса о выводе его из состава Политбюро в связи с инвалидностью.
Как помнят читатели, судьбу Черненко Андропов намеревался решить после своего возвращения из отпуска.