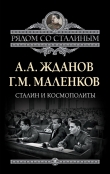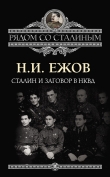Текст книги "Покушения и инсценировки: От Ленина до Ельцина"
Автор книги: Николай Зенькович
Жанры:
Публицистика
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 45 страниц)
ПОЕЗД ИЗ ЛОНДОНА
Седьмого июня 1927 года Войков на посольской машине в сопровождении сотрудника полпредства Юрия Григоровича приехал на Главный Варшавский вокзал.
Было без пяти минут девять часов утра. Вот-вот должен подойти скорый поезд из Лондона, который следовал через Берлин на Варшаву.
Накануне Войков получил сообщение, что этим поездом едет полпред в Англии Аркадий Павлович Розенгольц. В Варшаве он должен пересесть на московский поезд. Войков прибыл на вокзал, чтобы встретить коллегу и оказать ему в случае необходимости помощь.
Поезд на Москву отправлялся из Варшавы в девять часов пятьдесят пять минут утра. Следовательно, у Аркадия Павловича менее часа времени. Маловато для обстоятельного разговора, но достаточно, чтобы попить кофе в железнодорожном буфете и узнать подробности неприятного инцидента в Лондоне, о котором раструбили варшавские газеты.
Розенгольц был на год моложе Войкова, но успел зарекомендовать себя на партийном, военном и дипломатическом поприще. Они неплохо знали друг друга, часто встречались на различных совещаниях. И хотя партийный стаж Розенгольц имел на два года короче, послужной список у него был что надо: успел побывать членом Реввоенсовета СССР, возглавлял управление ВоенноВоздушных Сил РККА. С военной работы в 1925 году перешел на дипломатическую, получив престижную должность полпреда СССР в Англии.
И вот в конце мая Лондон заявляет о разрыве дипломатических отношений с Москвой. Полпреду Розенгольцу вместе со всем советским персоналом предложено покинуть Британию в течение десяти суток. Они и возвращаются на родину этим поездом.
Польская пресса с удовольствием смаковала подробности скандала. Высылку советских дипломатов объясняли тем, что они занимались шпионской и подрывной деятельностью.
В середине мая большая группа лондонских полицейских в форме и в штатском приехала к дому номер сорок девять по улице Мургейт. Там размещалось официальное торговое представительство СССР в Великобритании, а также совместное советско-британское акционерное общество «АРКОС», зарегистрированное в соответствии с английскими законами.
Полицейские ворвались в здание торгпредства в половине пятого дня и учинили повальный обыск, который продолжался до полуночи. Предварительно были отключены все телефоны, чтобы никто из сотрудников не сумел никуда позвонить. Полиция изъяла всю почту и даже шифры, которыми торгпредство пользовалось легально. Не обошлось и без силовых приемов – некоторые сотрудники оказали сопротивление.
Полиция подозревала, что помимо торговой в здании занимаются еще какой-то деятельностью, явно незаконной. Искали некий особо секретный английский документ, который, по всем данным, попал в это здание и ради которого был устроен полицейский налет. И хотя обнаружить его не удалось, в советском офисе нашли другие доказательства шпионской и подрывной деятельности Советов.
Назавтра Москва выступила с протестом по поводу проведения этой акции. Найденные шпионские свидетельства были объявлены фальшивками. Их поставили в один ряд с теми «документальными материалами», которые время от времени появлялись в западной прессе и призваны были свидетельствовать о «зловещих планах» ОГПУ и Коминтерна, направленных якобы на потрясение экономических и политических устоев западного мира. Внешне подлинность документов не вызывала сомнений – их стиль, лексика, реквизиты, подписи должностных лиц – все было как настоящее.
«Правда» разъясняла: фальшивки, опубликованные в западных газетах, спровоцировали тяжкие, трагические последствия – казни болгарских коммунистов, будто бы готовивших по заданию Коминтерна взрыв собора в Софии, налет немецкой полиции на советское торгпредство в Берлине и теперь вот английской – на представительство в Лондоне. Престижу и интересам нашей страны, только-только начавшей выходить из международной изоляции, был нанесен значительный ущерб.
Войков в душе посмеивался, читая эти комментарии. Надо будет спросить у Розенгольца, на чем в действительности прокололся «АРКОС».
Между тем, свистя и пыхтя, к перрону подходил лондонский поезд. Войков увидел в окне лицо Розенгольца и поспешил к вагону.
Однако поговорить откровенно им не удалось. Вокруг сновали люди. И Войков, и Розенгольц допускали, что среди них были и такие, кого приставили к советскому дипломатическому персоналу еще в Лондоне.
В скромном зале вокзального буфета, куда советские посланники зашли, чтобы скоротать время за чашечкой кофе, тоже не было условий для конфиденциальной беседы. Говорили о пустяках – о погоде, дорожных впечатлениях, то и дело поглядывая на часы.
За пятнадцать минут до отправления поезда на Москву дипломаты вышли из буфета на перрон и направились к спальному вагону, в котором было место Розенгольца.
Наступило время прощаться. Розенгольц стоял спиной к вагонным дверям, лицом к Войкову.
– Пока, Петр Лазаревич! До встречи в Москве!
– Счастливого пути, Аркадий Павлович! Передавай привет всем хорошим людям…
Они крепко пожали друг другу руки. Розенгольц начал подниматься по лесенке и еще не успел скрыться в проеме вагонной двери. Войков поднял в последнем приветственном жесте правую ладонь. И тут сзади раздался хлопок револьверного выстрела.
Это была идеальная поза, о которой киллер может только мечтать! Жертва стояла спиной к убийце, не мешая ему прицелиться.
Наверное, сказались навыки боевика – Войков мгновенно отпрянул в сторону и побежал вдоль спального вагона, в который уже успел войти Розенгольц.
Нападающий, не ожидая столь молниеносной реакции, тем не менее произвел несколько выстрелов вслед убегавшему. Тот не растерялся, вынул из кармана револьвер и, обернувшись, открыл из него ответный огонь.
На перроне началась паника. Завизжали женщины, растерянно засуетились мужчины. На звуки выстрелов бросился полицейский околоточный, на ходу расстегивая кобуру непослушными пальцами.
Войков пошатнулся. Ноги не держали его тела, и он начал заваливаться на бок, прямо в руки подбежавшего полицейского. Протокол свидетельских показаний донес до нас его фамилию – Ясинский.
К месту происшествия бежали другие стражи порядка, дежурившие на перроне и возле буфета.
– Руки вверх! Бросай оружие! – кричали они нападавшему.
Увидев приближавшихся полицейских, террорист выполнил их требование. Он медленно поднял руки вверх. Револьвер выскользнул из ослабевших пальцев и стукнулся об асфальт.
Оружие тут же подобрали. Сдавшемуся добровольно террористу заломили руки. Он не сопротивлялся, только упрямо бормотал одну и ту же фразу:
– Это за национальную Россию, а не за Интернационал!..
Полицейские склонились над лежавшим на перроне Войковым. Он был еще жив. Ему оказали первую медицинскую помощь и на его автомобиле повезли в больницу. Ближайшим лечебным учреждением оказался госпиталь Младенца Иисуса.
В десять часов сорок минут того же дня – через час после выстрелов на перроне – он скончался.
«Я НЕ МОНАРХИСТ…»
На перроне Варшавского вокзала в советского посланника Войкова стрелял Борис Коверда.
Эта фамилия не фигурировала ни в одном открытом историческом источнике вплоть до распада СССР и краха коммунистической системы. Имя террориста не упоминалось ни в одном справочнике – даже в связи с именем Войкова.
Посланник в Польше через два года после гибели попал в энциклопедический словарь «Гранат». Читаем на странице 293: «Войков Петр Лазаревич. Убит в Польше монархистом 7. VI. 27 г.»
В Советской исторической энциклопедии (М., 1963, т. 3, с. 618) о Войкове сказано: «Убит в Варшаве русским белогвардейцем».
Последнее издание Большого энциклопедического словаря (М., 1991, с. 237) еще более кратко: «Убит белогвардейцем».
Поневоле возникает образ белогвардейского офицера из аристократической семьи. Оказавшись после разгрома белого движения в эмиграции и мстя за расстрелянного царя, он направляет револьвер на ненавистного представителя Совдепии.
Правды нет ни в одном из перечисленных выше изданий. Убийца Войкова не был ни монархистом, ни русским белогвардейцем. Стрелял в Войкова девятнадцатилетний юноша, ученик виленской гимназии, никогда ни в какой армии не служивший.
Будучи допрошенным в качестве обвиняемого, он признал себя виновным в предумышленном убийстве посланника Войкова.
– Почему вы решились на этот поступок? – спросил следователь.
– Потому что Войков – представитель международной банды большевиков.
– Вы монархист по убеждениям?
– Я не монархист, а демократ. Мне все равно: пусть в России будет монархия или республика, лишь бы не было там такой банды негодяев, от которой погибло столько русского народа.
– Вы встречались с Войковым раньше?
– Никогда.
– Имели к нему какие-либо претензии?
– Никаких.
– Странно. За что же вы решили убить незнакомого человека?
– Как представителя власти СССР. В советском полпредстве мне отказали в визе на бесплатный въезд в Россию.
– Отказал лично господин посланник Войков?
– Нет. Я с ним никогда не разговаривал.
– С какой целью вы хотели въехать в СССР?
– Чтобы принять активное участие в борьбе против советского строя.
– Вам этот строй не нравится?
– Да. Через год после большевистского переворота наша семья возвращалась в Вильну, и по дороге я везде видел большевистские бесчинства. По дороге в Польшу я много слышал о ЧК. Я был мал тогда, но я помнил, что был в жизни какой-то порядок, а затем наступил хаос. Может быть, со временем я бы все это забыл, но в Вильне я в течение двух лет был экспедитором в белорусских большевиствующих газетах. Я увидел, что эта работа ведется на червонцы, выкованные из церковных ценностей. Я начал читать о советской революции, начал читать газеты, в том числе и советские, прочел книгу Краснова, которая произвела на меня большое впечатление. Я читал статьи Арцыбашева, польские книги и понял, кто виноват в том, что положение России дошло до того, что люди стали людоедами. Еще в прошлом году я хотел ехать для борьбы с большевиками в Россию. Я говорил об этом моим друзьям. Но пришло время материальной нужды, и мне не удалось осуществить мой замысел. Но когда мое материальное положение укрепилось, я опять начал мечтать о борьбе и решил поехать в Россию легально. Я собрал немного денег и приехал в Варшаву, а когда мне в этом было отказано, я решил убить Войкова… Мне жаль, что я причинил столько неприятностей моей второй родине – Польше.
Неприятностей и в самом деле было много. Советское правительство заявило резкий протест правительству Польши. По всему Советскому Союзу прокатилась мощная волна гневных демонстраций. Отношения между двумя странами резко обострились. К счастью, до разрыва дипломатических отношений, как в Англии, дело не дошло-в том же двадцать седьмом году в Варшаву прибыл новый советский полпред Дмитрий Богомолов, которого через два года сменил В. А. Антонов-Овсеенко.
Ветераны внешней разведки России вспоминают, что сразу же после убийства Войкова Москва основную вину за него возложила на Великобританию: мол, это она усиленно финансирует белоэмигрантское движение. Террорист объявлялся поляком, работавшим на английскую разведку. Цель теракта – поссорить СССР с Польшей.
Такая интерпретация вполне вписывалась в канву непростых отношений с Англией, закончившихся, как помнит читатель, разрывом дипломатических отношений на два года. Досаду Кремля можно было понять – накануне налета лондонской полиции на советское торгпредство между ним и крупнейшим английским банком было заключено соглашение о предоставлении Советскому Союзу кредита на десять миллионов фунтов стерлингов, что было по тем временам астрономической суммой. И вот выгодная сделка сорвана.
До сих пор истинная подоплека налета полиции не выяснена до конца. Существует мнение, что правившая тогда партия тори настолько была встревожена сделкой Мидланд-банка с советским торгпредством, что не видела иного средства сорвать это финансовое соглашение. Польша в те годы была крупнейшим текстильным поставщиком Советского Союза, и это тоже беспокоило английское правительство. Словом, оснований для обвинения Британии в намерении поссорить Москву с Варшавой было предостаточно, притом по всем линиям.
Увы, Борис Коверда отношения к английской разведке не имел.
Он родился в окрестностях Вильны. С началом первой мировой войны его отец был призван в армию, а мать с детьми, как и многие тысячи других жителей прифронтовой полосы, эвакуировались из зоны боевых действий в глубь России, разделив горестную судьбу беженцев.
Поселились в небольшом поселке Зубчанинск под Са1Йарой. Там их застала сначала Февральская, потом Октябрьская революция. По словам матери, у Бориса было много неприятностей, его дразнили, называли буржуйским сынком. Во время гражданской войны сгорела школа, в которой он учился и где учительствовала его мать. Потом большевики сожгли церковь. Когда на место вандализма приехал священник, местная партийная ячейка заперла его в хлеву и морила голодом. Потом несчастного священнослужителя расстреляли на льду. На Бориса это произвело сильное впечатление – он был свидетелем этой дикой сцены.
В России семья Ковердыжиладо 1920 года. После заключения Рижского мира вернулись домой, в Польшу. Возвратились легально. Борис много читал. Большевикам он не симпатизировал.
Казалось бы, какое ему дело до того, что происходило вокруг? Его родители люди не богатые, большой политикой не занимались. Живи себе, как жили тысячи его сверстников. Ходили на танцы, ухаживали за паненками, веселились.
«Сдвиг по фазе на почве политики» – явление, чрезвычайно характерное в периоды бурных общественных потрясений, затронуло и этого впечатлительного юношу. Нет ситуации страшнее, когда отчаявшийся, обозленный, сбитый с толку противоречивыми газетными известиями подросток, принимающий их на веру, оказывается в расколотой стране и каждый день видит страдания и кровь. Трагична его судьба.
Последние семь лет после возвращения из России Коверда жил в Вильне. В Варшаву он приехал за две недели до убийства. У кого остановился? С кем общался? Почему подкараулил Войкова именно на вокзале? Откуда ему было известно, что советский посланник приедет туда именно утром седьмого июня?
Следствие искало ответ и на эти вопросы. Важно было установить, в одиночку он действовал или с участием других лиц, кто конкретно уговорил его на этот опрометчивый поступок. Нашли бедную торговку-еврейку, у которой Коверда проживал в качестве углового жильца, питаясь одной водой и баранками. Допросили виленских соседей и друзей. Выяснилось, что соучастников у него не было и ни к какой политической организации он не принадлежал. Убийство посла совершил самостоятельно.
Две недели выслеживал Войкова в районе железнодорожного вокзала, аккуратно приходил по утрам к московскому поезду, поскольку прочел в газетах о намечавшемся отъезде советского посланника. Седьмого июня долгое терпение было вознаграждено и он увидел человека, за которым охотился все это время.
Судили террориста спустя девять дней после совершения им преступления. Приговор был суров – бессрочные каторжные работы, то есть пожизненное заключение. Одновременно суд обратился к президенту Речи Посполитой маршалу Пилсудскому с ходатайством о замене бессрочных каторжных работ теми же работами на пятнадцатилетний срок.
Президент ходатайство удовлетворил.
О дальнейшей судьбе Бориса Коверды ничего не известно – пятнадцатилетний срок каторги у него заканчивался в 1942 году. Тогда вовсю полыхала вторая мировая война, территория Польши была оккупирована гитлеровской Германией, гибли десятки миллионов людей, и жизнь пылкого юноши закончилась, по всей вероятности, в безвестности.
Если версия о намечавшемся в 1927 году отзыве Войкова с поста посланника в Варшаве имела под собой твердое основание, то, наверное, правы те зарубежные историки, которые полагают, что выстрел Коверды не только избавил Войкова от многих неприятностей, но и «канонизировал» его похоронами у Кремлевской стены.
Решение о погребении Войкова на Красной площади безусловно принималось из политических соображений и было рассчитано в первую очередь на внешний мир. Неспроста в дипломатических кругах поговаривали:
– Если бы не Коверда, быть бы Войкову в тюрьме, а не в Кремлевской стене.
Так судачили недоброжелатели Войкова, завидовавшие его производству в герои. Впрочем, недоброжелатели – это вчерашние самые близкие друзья, потому что именно из горячей дружбы обычно произрастает жгучая вражда. А кому, как не лучшим приятелям, знать все о друзьях?
Трудно сказать, как сложилась бы судьба Войкова в будущем, останься он в живых. Возможно, его бы ждала блестящая карьера, но в это почему-то не верится. Даже если бы ему удалось выпутаться из неприятной истории с исчезнувшими долларами и валяющимися без присмотра документами Политбюро, тридцать седьмой год он вряд ли бы пережил.
В этом убеждают незавидные судьбы его коллег.
Розенгольц, ставший невольным свидетелем кровавой развязки на перроне Варшавского вокзала, впоследствии занимал высокие наркомовские посты в Москве, руководил всеми государственными резервами страны, но безвестно сгинул в тридцать седьмом.
Такая же участь постигла и Дмитрия Богомолова, сменившего Войкова на посту полпреда в Варшаве. После Польши он некоторое время пробыл в Англии, затем послом в Китае, и все – его биография оборвалась в 1937 году.
После этой трагической даты устрашающая пустота и в послужном списке Владимира Антонова-Овсеенко, сменившего Богомолова на посту, который когда-то занимал Войков. А ведь у Антонова-Овсеенко заслуг побольше – одна из основных фигур Октябрьского восстания в Петрограде, и прокурором, и наркомом юстиции успел побывать.
Где, на каких кладбищах похоронены эти люди?
Приложение N 7: ИЗ ЗАКРЫТЫХ ИСТОЧНИКОВ
Из судебного дела по обвинению Бориса Коверды в убийстве посланника П. Войкова
(Хранится в Варшаве. Перевод с польского)
Из показаний свидетеля А. Новаковского
(Альфред Новаковский – полицейский, производивший обыск на квартире Бориса Коверды)
В связи с совершением покушения на посланника Войкова я произвел обыск в квартире Бориса Коверды в Вильне. Обыск не дал никаких результатов. В политическом отношении Борис Коверда пользовался хорошей репутацией, ни к какой политической организации не принадлежал. Обыск был произведен для установления, не принадлежит ли Коверда к монархической организации. Коверда ни в каких отношениях с местными политическими деятелями не состоял и ни к какой организации не принадлежал.
Русская колония в Вильне немногочисленна, монархистов среди нее около 100 человек. О связи Коверды с монархической организацией не было никаких данных. В квартире Коверды в Вильне мы нашли квитанцию в получении казной Великого Князя Николая Николаевича пожертвованного им одного доллара.
Из показаний А. Коверды
(Анна Коверда – мать террориста, учительница)
Об убийстве я узнала из газет. Это меня ошеломило. Борис был очень впечатлительным, скромным и тихим. Содержал семью, потому что я болела и была без работы: он работал на всю семью…
… Он работал в редакции газеты «Белорусское слово», был экспедитором, а последнее время и корректором. Борис отдавал весь заработок мне. Он имел демократические убеждения.
Борис родился в окрестностях Вильны. Мы жили в России до 1920 года. Я вернулась в Польшу с детьми, муж дйгжен был остаться в России. Мы вернулись в Польшу легально. К возвращению нас склонило то, что я тут родилась и жила.
Мой муж – народный учитель в Бельском уезде. В последнее время у меня была работа, и я зарабатывала. Перед этим я была безработной, и тогда меня и дочерей содержал сын. Дочери мои не зарабатывают. Муж иногда присылал деньги, главным образом, однако, нас содержал Борис.
Борис много читал. По взглядам он был демократ. Большевикам не симпатизировал. То, что он видел в Самаре, не могло создать в нем благоприятного для большевиков настроения…
… Сын моей сестры был убит большевиками. Борис часто говорил об этом с моей сестрой. Он был свидетелем разгула Чрезвычайки, слез моей сестры, которую он любил, так как она была его крестной матерью.
Борис религиозен, он был в этом году на исповеди и причащался.
Когда Борис был еще 6-7-летним мальчиком, я ему иногда читала историю России, я тогда была учительницей, а он учился в школе. На него особенно сильное впечатление произвела история Сусанина. Он сказал мне: «Мама, я хочу быть Сусаниным».
Дома мы говорили исключительно по-русски, мы считаем себя русскими по культуре… В Самаре еврейчик был назначен руководителем четырех школ. Он давал неприятные распоряжения и вел с детьми разговоры о Христе, говорил, что это талантливый сектант. Когда Борис после болезни начал поправляться, первой просьбой его было купить Евангелие…
Из показаний свидетеля С. Коверды
(Софрон Коверда – отец террориста. Издатель газеты «Крестьянская Русь»)
В последний раз я виделся с сыном на празднике Рождества Христова. Мы тогда вместе проводили праздники. С тех пор я с ним не виделся. Я жил отдельно, так как тяжелые условия вынуждали меня жить отдельно…
… Я сын крестьянина, родился в Бельско-Подляшском уезде. Я польский гражданин как уроженец Бельского уезда – и на основании списков населения получил паспорт. В начале войны я был чиновником Крестьянского Банка, в Вильне. В 1914 г, я поступил охотником в армию. Меня признали негодным, потому что я плохо слышу правым ухом, но я, видя, что простой народ идет на войну, сам подал заявление, что здоров и прошу о зачислении меня в армию.
В окрестностях Сморгони я был очень тяжело ранен. В течение 4 месяцев я лечился в Москве, и как раз в тот момент произошел большевистский переворот. В Вильне еще до войны я принадлежал к партии социалистов-революционеров и принимал участие в нелегальной работе. Я был убежден в том, что царская власть угнетает крестьян, и как крестьянин стремился к улучшению крестьянской доли.
Когда произошел переворот, я принимал участие в уличных боях против большевиков. Большевики, однако, после переворота мобилизовали меня и назначили комендантом этапного пункта. Потом зачислили меня в армию. С этим я не мог примириться и в 1921 году бежал тайно из России, перешел границу под Несвижем, семья моя была тогда в Польше. Границу я перешел в качестве офицера Красной Армии.
Мою семью я застал в нужде. В 1922 году я начал издавать в Варшаве газету «Крестьянская Русь». Это был орган организации Савинкова, демократического направления. Я издавал эту газету, пока у меня были деньги. Я – белорус, моя жена тоже. Дома мы говорим побелорусски, по-русски и по-польски, над нами смеются, что мы так различно говорим. При Керенском в 1917 году я боролся против большевиков и говорил об этом с Борисом…
Из показаний Б. Друцкого-Подберезского (Борис Друцкой-Подберезский – сотрудник еженедельника «Белорусское Слово», один из друзей Бориса Коверды)
Я знаю подсудимого с апреля 1925 года как человека трудолюбивого, интеллигентного, нервного и честолюбивого. С первого дня знакомства я считал Коверду решительным противником большевистского строя.
Коверда обратился ко мне с просьбой о получении через депутата Тарашкевича визы на выезд в Чехию или Россию. Я обратился к депутату Тарашкевичу, но последний отказал, говоря, что ничего не может сделать для получения визы в Прагу, так как чешское правительство не дает новых стипендий, а визы в Россию устраивать не может, ибо на это не распространяются его связи. Это было в прошлом году, скорее в 1926, чем в 1925.
Я до сих пор работаю в редакции «Белорусского Слова». Мы время от времени получаем русские советские и эмигрантские газеты. Получаем «Руль» и время от времени какие-то парижские газеты. Сотрудники редакции могли пользоваться этими газетами в редакции.
Подсудимый Коверда имел доступ к этим газетам: он был корректором и администратором, а в последнее время делал выдержки из иностранных газет и переводил их на белорусский язык. Основной заработок Коверды составлял 150 злотых в месяц.
Не получив визы, Коверда жалел об этом. Он несколько раз говорил, что не может выйти из трудного материального положения и не может продолжать образование…
Из выступления М. Недзельского
(Мариан Недзельский – адвокат, защитник Бориса Коверды на судебном процессе)
Большие исторические события возникают только на основе великих и глубоких причин. И если коснуться анализа этих причин, нужно сказать прямо, что основаны они на неустранимой коллизии между всемирной современной христианской культурой и попыткой большевиков вернуть человечество на путь варварства.
Вот почему бременем великой исторической ответственности следует отягчить не личность Бориса Коверды, а весь тот строй, на совести которого уже столько катастроф и совесть которого еще запятнается не одной катастрофой до тех пор, пока не наступит победа справедливости и правды…
Из выступления П. Андреева
(Павел Андреев – адвокат, защитник Бориса Коверды на судебном процессе)
Родина не состоит из одной территории и населения. Родина является комплексом традиций, верований, стремлений, святынь, духовных ценностей и исторической общности, основанной на человеческом материале и на земле, им заселенной. Родина – это история, в которой развивается нация. А разве СССР может создать нацию, может создать народ? Нет. И не во имя различно понимаемого блага Родины боролся Борис Коверда, а против злейших врагов своей бедной Родины выступил этот бедный одинокий мальчик…
… А кого убил Коверда? Войкова ли, посланника при Речи Посполитой Польской, или Войкова, члена Коминтерна? А ведь таким двуликим Янусом был убитый Войков. Мы находим ответ в словах Коверды: «Я убил Войкова не как посланника и не за его действия в качестве посланника в Польше – я убил его как члена Коминтерна и за Россию». Именно за все то, что Войков и его товарищи по Коминтерну сделали с Россией, убил его Борис Коверда. При чем же тут убийство официального лица по поводу или во время исполнения им его служебных обязанностей?..
Из выступления Ф. Пасхальского
(Франциск Пасхальский – адвокат, защитник Бориса л – Коверды на судебном процессе) Я не хочу говорить о русской действительности, но должен зато подчеркнуть переживания, родившие выстрел, от которого на Главном вокзале пал его превосходительство господин посланник Войков. Мне кажется, что даже те, кто истолковал эволюционный манифест Маркса и Энгельса, широко введя в свою доктрину укрепление диктатуры пролетариата при помощи террора, не имеют права удивляться, более того, должны были бы понять психологию мальчика, который поверил в диктатуру русского народа так, как они – в диктатуру пролетариата. Во имя этой диктатуры, соединенной в его представлении с церковными песнопениями и звоном московских колоколов, он применил тот же метод, что и они…
… Коверда приехал в Варшаву, и тут в его руки попала книга, удивительная книга, так неслыханно близкая полякам, несмотря на все различия в истории Польши и России. Во время процесса спрашивали, были ли у Коверды сообщники. Господин прокурор снял с защиты обязанность доказывать, что этих сообщников не было. Я боюсь, однако, что сообщников надо искать далеко, в могилах, рассеянных по безграничным русским просторам, в реках, розовеющих от крови, среди тех, кто погиб от голода, от тифа, от пролетарской диктатуры, среди всех тех, кто перечислен в этой именно книге Арцыбашева.
Я убежден, что если бы этот великий русский писатель, имя которого как молния прошло по Европе, был жив, ребенок Коверда не был бы на скамье подсудимых один. Арцыбашев бы этого не позволил. Ибо, если необходимо было последнее напряжение воли, если необходима была книга, замыкающая цикл размышлений Коверды, то этой книгой сделалась несомненно книга Арцыбашева, так напоминающая «Книги Изгнания» Мицкевича. В этой книге Арцыбашев обращается к швейцарским судьям по поводу дела Конради со словами: «Помните, что вас окружают миллионы теней, тысячи убитых мужчин, насилуемых перед смертью женщин, детей и старцев, как бы распятых на кресте. Все они напрасно молили небо о возмездии, но никто до сих пор не ответил на эту мольбу. Из этого настроения, столь близко напоминающего фрагменты из импровизации Мицкевича, родилась идея, которая во имя народа топчет нравственность».
«Тот, кто поднял меч, пусть гибнет от меча». «Вы, – восклицает Арцыбашев, – избрали террор средством тирании. Ваш террор – преступление. Террор, направленный против вас, – справедливое возмездие». И в конце концов он приходит к той, как будто простой истине, которая сопутствовала всем усилиям польского оружия: «Родина не дается даром». «Мы и только мы имеем право решать судьбу нашей родины». Наконец в той же книге нашел Коверда также и разрешение вопроса о нарушении нейтралитета страны, в которой русский эмигрант совершает убийство: «Нельзя считаться с ним, так как следует кричать на весь мир, что мы не парии, а граждане Европы».
Простите, господа судьи, что я позволил себе эти несколько пространные цитаты, но цитаты эти – вся защита Коверды. В них кристаллизировалась идеология борющейся эмиграции, идеология тем более красноречивая для души юного мальчика, что тот, кто ее создавал, по примеру польских поэтов, черпал ее из глубины своего чувства и своей безграничной тоски по России. Недаром в книге Арцыбашева Ковердой подчеркнуты многие его мысли. Другие мысли Коверда сопроводил своими детскими примечаниями. Книга эта является сообщником преступления…