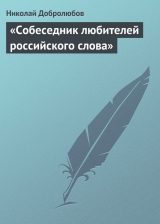
Текст книги "«Собеседник любителей российского слова»"
Автор книги: Николай Добролюбов
Жанр:
Критика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 8 страниц)
Главным двигателем и распорядителем этого издания была опять директор Академии, княгиня Е. Р. Дашкова (19), и оно продолжалось в течение с лишком десяти лет, прекратись только со смертию Екатерины II. Журнал этот имел более ученый характер и, конечно, не заменил «Собеседника» в отношении легкости и живости собственно литературного содержания. «Собеседник», как видно, долго не переставали читать, и в 1809 году он вышел вторым изданием; следовательно, в продолжение 25 лет он не устарел для русской публики и мог обращать на себя внимание даже после карамзинских журналов.
Такова внешняя история этого издания. Можно уже и из нее видеть, что это было замечательное явление в русской журналистике. Но еще более убедимся в этом, когда поближе рассмотрим внутреннее его содержание, характер и направление.
Взглянем прежде всего на состав редакции и на сотрудников журнала. Один перечень их имен покажет, что сюда принадлежало все лучшее, что только действовало тогда на литературном поприще. Издатели были: княгиня Е. Р. Дашкова, которая нередко помещала здесь свои сочинения (20), и Екатерина II, наполнившая большую часть журнала своими «Записками касательно русской истории» и «Былями и небылицами» (21). Кроме того, весьма деятельным участником в издании был О. П. Козодавлев, молодой адвокат, как говорит княгиня Дашкова в своих «Записках» (22). Затем постоянным вкладчиком до конца журнала был Богданович, напечатавший здесь до двадцати стихотворений (23), большею частию подписанных полным именем. Державин, никогда не подписывавший своих стихотворений, предоставляя узнавать ex ungue leonem[11]11
По когтям льва (лат.). – Ред.
[Закрыть], поместил здесь многие из лучших своих стихотворений: «Фелицу», «Оду на смерть Мещерского», «Оду к соседу», «Благодарность Фелице», «Ключ», «Оду Решемыслу», «Бог» и др. (24). Княжнин также ревностно трудился для первых книжек журнала, помещая в нем и стихи и прозу (25), впрочем, большею частию не подписывая их. Капнист, тогда еще не писавший ни своей «Ябеды», ни превосходной оды «На истребление в России звания раба» (26), но уже известный своею сатирою, тоже участвовал в журнале и даже перепечатал сюда из «Вестника» знаменитую сатиру (27). Костров также дал сюда несколько стихотворений, и стихотворения эти по крайней мере не из худших у Кострова (28). Фонвизин, еще тогда не автор «Недоросля», но уже известный «Бригадиром» (29), постоянно принимал участие в «Собеседнике», печатая в ней свой опыт «Сословника», свои «Вопросы», «Челобитную российской Минерве», «Поучение иерея Василия» (30). По многим известиям, здесь были также статьи Хераскова (31), и действительно в «Собеседнике» находим несколько прозаических и стихотворных произведений, подписанных буквами М. X.{16}16
М. И. Сухомлинов в «Истории Российской академии» приводит документальное свидетельство, что криптонимом «М. X.» подписывался в «Собеседнике» именно М. М. Херасков (вып. 6. СПб., 1882, с. 344–346).
[Закрыть]. Проза весьма сильно напоминает Хераскова; но стихи плавнее, нежели обыкновенно у него. В полном собрании сочинений Хераскова нет ни одной из этих статей (32). Кроме того, в «Собеседнике» находим мы по нескольку статей М. Муравьева (33), Д. Хвостова, Нелединского-Мелецкого, Боброва, Левшина (34), Плавильщикова (35) и других менее известных авторов (36). Здесь напечатано даже одно дотоле неизвестное стихотворение Ломоносова (37). Затем остается еще множество статей, неподписанных и принадлежащих неизвестным авторам, но часто весьма умных (38). По известиям митрополита Евгения, в «Собеседнике» помещено много статей академиков Лепехина и Румовского (39). Но мы не могли решить, какие статьи из неподписанных нужно присвоить этим ученым. Может быть, впрочем, что митрополит Евгений сам ошибся при этом, как ошибся он, сказав, что в «Собеседнике» помещена была речь княгини Дашковой, говоренная ею при учреждении Российской академии (40).
Нельзя не согласиться, что этот перечень сотрудников весьма блистателен и весьма много обещает. Правда, иногда имена эти обманывают, как и ныне случается с именами многих известных писателей. Муравьев, например, поместил в «Собеседнике» два весьма плохие стихотворения; Богданович втиснул сюда наполовину пьес очень посредственных; но вообще можно по справедливости сказать, что множество превосходных произведений выкупают количество слабых и дают журналу право на наше уважение. Одни произведения Державина, Фонвизина и Капниста могли бы спасти его от забвения; но мы увидим, что в нем есть и еще немало замечательного.
В «Собеседнике», как и во всех тогдашних журналах, не было никакого разделения на разные отделы. Это было введено только Карамзиным, поддержано Полевым и продолжалось по привычке доныне{17}17
В «Московском журнале» (1791–1792) Н. М. Карамзина в отличие от других журналов XVIII в. материал был сгруппирован по жанрам (поэзия, проза, критика и библиография, театральная критика), но специально обозначенных отделов не было. Они впервые появились в другом журнале Н. М. Карамзина – «Вестнике Европы» (1802–1803).
[Закрыть]. Теперь снова возвращаются к прежнему и соединяют, например, науки со словесностию, только – увы! – к великой досаде славянофилов, совсем, кажется, не из подражания старине, а просто по примеру иностранных журналов. В «Собеседнике», таким образом, господствовало приятное разнообразие: стихи перемешаны были с прозою, серьезные статьи с шуточными, сатирические с дидактическими, которых, впрочем, надобно заметить, было очень мало.
Открывалась книжка обыкновенно стихами; потом следовала какая-нибудь статья в прозе, затем очень часто письмо к издателям; далее опять стихи и проза, проза и стихи. В средине книжки помещались обыкновенно «Записки о российской истории»; к концу относились «Были и небылицы». Каждая статья обыкновенно отмечалась особым нумером, как ныне главы в бесконечных английских романах, и число статей этих в разных книжках было весьма неодинаково. В первой их 33, в V – 11, в X – 17, в XV – 7, в XVI – 12 (41).
Стихи в «Собеседнике» не были роскошью только, но, как в альманахах двадцатых годов, составляли его существенную часть. В подтверждение этого стоит указать только на то, что из 242 статей, напечатанных в 16 книжках «Собеседника», 110 стихотворений и что они занимают до 500 страниц из 2800, составляющих весь журнал.
Приступая к обозрению содержания «Собеседника», мы должны прежде всего обратить внимание на «Записки касательно российской истории», занимающие почти половину журнала (1348 страниц). Записки эти были потом изданы отдельно, в шести частях, 1785–1797, исправленные и дополненные, с именем императрицы Екатерины И. В 1801 году было третье их издание. В «Собеседнике» они доведены до 1224 года, в отдельном издании продолжены до 1276 года. История происхождения этого творения известна довольно неопределенно{18}18
Сведения о работе Екатерины II над «Записками касательно российской истории» собраны во вступительной статье и примечаниях А. Н. Пыпина ко 2-му тому «Сочинений императрицы Екатерины II» (СПб., 1906).
[Закрыть], и до сих пор на него никто из ученых не обратил должного внимания. В курсах истории литературы о «Записках» этих едва упоминается. Карамзин, кажется, не имел их в виду; жизнеописатели Екатерины говорят только, что она составляла записки о русской истории – и более ничего (42). Г-н Старчевский, обозревая русскую литературу до Карамзина, сказал о «Записках» несколько слов, не дающих никакого понятия об этом сочинении (43). Г-н Соловьев в статье своей о писателях русской истории в XVIII веке{19}19
Речь идет о книге А. В. Старчевского «Очерк литературы русской истории до Карамзина» (СПб., 1845) и статье С. М. Соловьева «Писатели русской истории XVIII века» («Архив… изд. Н. Калачовым», кн. II, пол. 1. М., 1855).
[Закрыть] (44), о «Записках» Екатерины II не говорит ни слова. Об этом тем более нужно сожалеть, что специалист ученый, конечно, весьма легко мог бы определить меру непосредственного участия Екатерины II и ее воззрений в этом сочинении и произнести решительный суд о научном его достоинстве и об отношении его к другим историческим трудам прошедшего века, посвященным нашему отечеству. Не принимая на себя подобной задачи, я попытаюсь представить здесь несколько данных, которые могут служить для дальнейших выводов об этом замечательном труде Екатерины II.
Следя постоянно за движением умов на Западе, императрица хорошо видела добрые и дурные его стороны. Понимая, что оно могло произвести гибельные последствия в отношении к существующему порядку вещей, она старалась всеми силами противодействовать распространению его в России. Но из опасения зла, не желая лишить свой народ всех выгод образованности и, таким образом, явиться в глазах Европы противницею просвещения, императрица продолжала покровительствовать наукам, только решилась сама наблюдать за правильным ходом развития понятий нашего общества. Зная всю важность наук исторических в этом случае, она сама принялась за историю и в своем труде дала образец своих воззрений на то, каким путем должны развиваться в России исторические знания. Взгляды Екатерины II не все были приняты нашими учеными, и уже Стриттер делал свои замечания на «Записки о русской истории»{20}20
Замечания на «Записки касательно российской истории» были сделаны в труде И. Г. Стриттера (правильнее: Штриттер) «История Государства российского» (т. 1–3. СПб., 1800–1802), который Екатерина II читала в рукописи.
[Закрыть]. Но императрица, просматривая его труд и делая на него свои замечания, говорит: «Я нашла во многом здравую критику «Записок касательно российской истории»; но что написано, то написано: по крайней мере ни нация, ни государство в оных не унижено» (45). Последние слова указывают нам, какое значение придавала своему труду государыня.
С самого начала царствования своего Екатерина II покровительствовала ученым трудам касательно русской истории (46). Скоро сама она стала заниматься ею, и профессорам Чеботареву и Барсову было поручено доставлять императрице выписки из летописей. Г-н Старчевский говорит, что поручение это дано было им в 1783 году и что сводные выписки из летописей они должны были делать, начиная с 1224 года (47). Но как на этом году именно остановились «Записки» в «Собеседнике», то нужно думать, что это уже относится к продолжению «Записок», которое готовила Екатерина для отдельного издания. Г-н Старчевский свидетельствует также, что выписками из летописей для императрицы занимался и А. И. Мусин-Пушкин; но что это были за выписки – неизвестно (48). Вообще свидетельства о лицах, участвовавших в этом труде, не приведены еще в надлежащую ясность. Но, как бы то ни было, самая мысль составить историю из свода летописей уже замечательна для того времени, когда юные русские ученые, как все вообще юноши, давая слишком большой простор своему воображению, отважно заменяли цветами его недостаток фактических сведений. Ранее этого только Татищев вполне понял у нас необходимость обработки материалов, и только он сделал попытку свода летописей{21}21
«История российская с самых древнейших времен» (кн. 1–5. М., 1768–1848) В. Н. Татищева – первый научный труд по истории России, обобщивший сведения многочисленных русских и иностранных источников.
[Закрыть]. Его труд, конечно, важнее, потому что он указывает, откуда именно брал то или другое известие; но «Записки о российской истории» имеют то преимущество, что облечены в более легкую форму, и притом события представлены в них подробнее. Может быть, более научного достоинства имеет труд Щербатова, которого начало появилось около того же времени (49){22}22
Щербатов М. М. История Российская от древнейших времен, т. 1–7. СПб., 1770–1791.
[Закрыть], но, во всяком случае, в прошедшем столетии и начале нынешнего он пользовался гораздо меньшею известностию, нежели «Записки» Екатерины. Сам «Собеседник» свидетельствует о важности, какую придавал им, говоря в своей заключительной статье:[12]12
«Соб.», ч. XVI, стр. 9.
[Закрыть] «Сии записки, собранные рукою истинного и нелицемерного любителя российского народа, дали сему изданию некоторую степень важности и сотворили оное книгою, полезною каждому россиянину». В одном из писем к издателям, из Звенигорода, сказано, что «посредством «Собеседника» можно рассеять в народе познания, тем паче что книга сия заключает в себе российскую историю, каковой еще не бывало, и для одного уже сего сочинения всякой с жадностию покупает «Собеседник»«[13]13
«Соб.», ч. III, стр. 158.
[Закрыть]. Можно даже предполагать, что прекращение этого издания зависело отчасти от того, что недостало материалов для продолжения «Записок о российской истории».
Составление «Записок» из летописей обнаруживает себя даже в их слоге. Здесь нередко попадаются целые куски, взятые прямо из летописи и внесенные в сочинение даже без перемены в слоге. Эти места тотчас можно отличить по славянским формам. Иногда эти формы странно перемешиваются с новыми; например, «Ольга, взяв благословение патриарха константинопольского, иде во свою землю и, пришед в Киев, уговаривала сына креститься, он же ей ответствовал: как я един крещуся, а прочие не хотят. Она же рече: ежели ты токмо крестишься, то все будут то же творить»[14]14
Ibid., стр. 94.
[Закрыть]. Или: и повеле Владимир себя крестить. Епископ же корсунский со иереи цесаревнины крестили его, и нарочей во святом крещении Василий. Писатели сказуют, что во время крещения отпаде яко чешуя от очей его, и прозрел»[15]15
«Соб.», ч. IV, стр. 64.
[Закрыть].
Хотя, собственно, разбор «Записок о русской истории» мало относится к самому журналу, но я скажу несколько слов об их характере, так как в этом сочинении отразились воззрения императрицы Екатерины, принимавшей столь близкое участие в издании «Собеседника».
Цель этого труда состояла в том, чтобы искусным и подробным изображением древних доблестей русского народа и блестящих судеб его уронить те клеветы, которые взводили на Россию тогдашпие иностранные писатели. При этом автор не брал на себя труда только восхвалять русских: он хотел достигнуть своей цели другим способом. В предисловии он говорит, что если сравнить какую-нибудь эпоху русской истории с современными событиями в Европе, то «беспристрастный читатель усмотрит, что род человеческий везде и по вселенной единакие имея страсти, желания, намерения и к достижению употреблял нередко одинакие способы»[16]16
«Соб.», ч. I, стр. 104–105.
[Закрыть]. Для большего удобства к таким сравнениям в конце истории каждого князя приложена таблица современных ему государей европейских и некоторых азиатских и африканских. Тем не менее автор умел набросить на все темные явления русской жизни и истории какой-то светлый, даже отрадный колорит. С особенным искусством обходит он многие неправедные деяния князей или старается придать им вид законности не только по понятиям того времени, но и пред судом новых воззрений. С самого начала идет коротенький рассказ о баснословном времени славянской истории (V–IX века) и приводится рассказ новгородского летописца о скифах и славянах, которых он почитает единоплеменным народом, производя их названия от имен князей Скифа и Славяна, родных братьев. Автор «Записок» замечает, что здесь, вероятно, баснословное смешано с истиною. «Князьям не дано ли имян народов славян и скифов? Князья названы братьями, хотя славяне и скифы были народы разные»[17]17
«Соб.», ч. II, стр. 75–76.
[Закрыть]. Впрочем, об отношениях этих народов друг к другу автор сам имел, кажется, не совсем ясное понятие. Ниже он говорит, что скифы было у греков общее название для многих народов, на великом пространстве Азии, Африки и Европы живших[18]18
«Соб.», ч. II, стр. 91.
[Закрыть], и что под ними весьма часто разумели и славян. Поэтому он очень подробно и благосклонно описывает нравы и образованность скифов. Коренным народом северной России считает автор руссов, к которым пришли потом славяне с Дуная. Варяги же были народ, единоплеменный славянам, живший по берегам Балтийского моря и издавна находившийся в сношениях с руссами, так что Гостомысл, умирая, просто указал своим согражданам на Рюрика с братьями как на людей, хорошо им известных и достойных быть их правителями{23}23
Здесь и далее Добролюбов не только выявляет искажение Екатериной II сообщений летописи, но и оттеняет монархический концепцию истории, положенную в основание ее «Записок». Так, если в данном случае в «Повести временных лет» говорится о «призвании» варяжских князей по общему решению, то у Екатерины речь идет о «законной» передаче власти одним правителем (Гостомыслом) другому.
[Закрыть]. Вот как понимает автор «Записок» запутанный вопрос о происхождении руссов и призвании варягов. В описании свойств и нравов славян замечательно, что автор обращает внимание на язык их и говорит, что распространением и умножением славянского языка доказывается распространение славянского народа. «До времен Рюрика почти вся Россия уже славянским языком говорила. Многие народы в свете завоеваниями теряли свой язык, по славянский язык перенимали побежденные славянами народы»[19]19
Ibid., стр. 81.
[Закрыть]. Здесь же замечено, что славяне задолго до рождества Христова «письмо имели» и что у них были даже древние письменные истории, что доказывается сказаниями Нестора[20]20
Ibid.
[Закрыть]{24}24
В действительности славянская азбука возникла в IX в. н. э.
«Сказаниями Нестора» Екатерина II называет «Повесть временных лет» – первый общерусский летописный свод, составленный в начале XII в. (несохранившиеся русские письменные источники его восходят к XI в.).
[Закрыть]. Об Аскольде и Дире рассказано здесь, что Рюрик послал их к Киеву для обороны жителей от козар[21]21
«Соб.», ч. III, стр. 52.
[Закрыть] и что Олег пошел в Киев, чтобы поверить жалобы на Аскольда, которые «найдя знатно основательными», поступил с ним как с ослушным подданным, лишив его княжения. Ни о хитрости, ни об убийстве нет ни слова[22]22
Ibid., стр. 59–60.
[Закрыть]. Олегу приписывается начало Москвы[23]23
Ibid., стр. 59.
[Закрыть]. Различены два договора Олега 907 и 911 годов (в «Записках» – 906 и 910, потому что автор, считая год с сентября, весьма часто расходится с Нестеровым летосчислением с марта), которые до позднейшего времени принимали за один (50). Святослав характеризован в «Записках» совершенно словами летописи[24]24
Ibid., стр. 84–85.
[Закрыть]. Предание о мести Ольги древлянам рассказано весьма умеренно, с выпуском большей части летописных подробностей (51). О самом сватовстве князя Мала (в «Записках» – Малдива) замечено, что «сие мало имеет вероятности», потому что великая княгиня Ольга была уже тогда шестидесяти лет; но, с другой стороны, князя Малдива «мог прельстить таковой союз по участию великой княгини Ольги в правлении Россиею»[25]25
«Соб.», ч. III, стр. 86.
[Закрыть]. Это замечание весьма сходно с тем, которое отмечает г. Соловьев у Щербатова, предложившего подобное соображение о мнимом сватовстве к Ольге Константина Порфирородного[26]26
См. статью его в «Архиве», стр. 53.
[Закрыть]. В «Записках», впрочем, замечено и о сватовстве Константина, что, по старости Ольги, оно невероятно, «вовсе же опровергается тем, что Константин тогда имел супругу, которая принимала и угощала Ольгу»[27]27
«Соб.», ч. III, стр. 94.
[Закрыть]. В заключении правления Ольги находим любопытную заметку: «Блаженная Ольга, будучи сама от рода князей славянских, паки народ славянский возвысила. При ней всюду имена славянские в начальниках и правителях оказываются. Ольга и язык славянский во употребление общее привела. Известно, что народы и языки народов мудростию и тщанием вышних правителей умножаются и распространяются. Каков государь благоразумен о чести своего народа и языка прилежен, потому и язык того народа процветет. Многие народные языки исчезали от противного сему»[28]28
Ibid., стр. 102.
[Закрыть]. В этом прекрасно выражается стремление императрицы Екатерины показывать во всем, в чем только можно, что всякое добро нисходит от престола и что в особенности национальное просвещение не может обойтись без поддержки правительства. Говоря о смерти Святослава, «Записки» утверждают, что он утонул в Днепре во время боя:[29]29
Ibid., стр. 108.
[Закрыть] видно, что автор боялся, чтобы не унизить достоинства великокняжеского даже рассказом о позоре, учиненном над трупом князя. То же самое старание представить всех князей русских сколько возможно более чистыми и высокими личностями, видно и в последующих главах этого труда. Так, говоря о Владимире, автор «Записок» рассказывает всю историю ссоры его с братьями так искусно, что все три князя остаются совершенно правыми, а вина вся падает на Свенельда и Блуда (в «Записках» – Блюд), которые и не остаются без наказания. Ярополк с трогательным братским участием заботится об Олеге и гневается на Свенельда, узнав, что Олег утонул[30]30
«Соб.», ч. IV, стр. 36.
[Закрыть]. Затем с сожалением прибавлено, что «люди иные порочили Ярополка, и никто его не оправдал, но осуждение от всех понес по сему несчастному делу»[31]31
Ibid., стр. 37.
[Закрыть]. Владимир представляется благородным мстителем за брата, а Ярополк – кротким князем, хотевшим мира и любви. Убийство его совершается без ведома Владимира, по предательству Блуда, который на третий же день и наказан Владимиром[32]32
Ibid., стр. 41.
[Закрыть]. Говоря о войне Владимира с полочанами, автор опять, чтобы не возбудить и мысли темной о князе, умалчивает об убийстве Рогвольда, а женитьбу на Рогнеде представляет как следствие давно начатого сватовства. Среди восторженных похвал Владимиру встречаются только два упоминания о темных сторонах его, и то в высшей степени искусно прикрытые: «Летописцы говорят, что Владимир бе женолюбив, яко же Соломон… Греческие писатели описывают Владимира до крещения упрямым и своевольствующим»[33]33
Ibid., стр. 51.
[Закрыть]. В описании принятия христианства Владимиром находим несколько любопытных соображений. Избрание греческого исповедания Екатерина приписывает отчасти тому, что Владимир знал об этом законе от своей бабки Ольги и жены, которая была родом чехиня[34]34
Ibid., стр. 57.
[Закрыть], и тому, что между близкими ко Владимиру людьми было уже много христиан или наклонность имеющих к христианству[35]35
Ibid., стр. 58.
[Закрыть]. О странном походе на греков в 988 году замечено: «Вероятно, что причина тому была паки неустойка грек и неисполнение тех договоров, кои, по-видимому, возобновлялись в восьмилетнее течение или по прошествии того срока»[36]36
Ibid., стр 60.
[Закрыть]. Таким образом, дело это поставляется здесь в совершенной отдельности от намерения принять христианство, и, следовательно, становятся ненужными все рассуждения о том – гордость ли языческая, желание ли лучше научиться вере или что другое побудило Владимира предпринять поход на Корсунь. Замечательно, что, говоря о взятии Корсуня, автор умалчивает, что он взят был посредством измены Анастасия. О повелении народу креститься сказано следующим образом: «По возвращении Владимира в Киев крестились дети его и вельможи. Слышав же сие, люди многие с радостию шли креститься на реку Почайну»[37]37
«Соб.», ч. IV, стр. 64.
[Закрыть]. Вслед за тем рассказано о крещении новгородцев Добрынею, который «ласковыми словами увещевал их» вместе с епископами{25}25
Добролюбов указывает здесь на искажение и замалчивание Екатериной II сообщений летописи, которые могли повредить «репутации» князя Владимира Святославича – крестителя Руси: фактов его жестокости и разврата (по рассказу летописи, кпязь, имевший пять жен и сотни наложниц, «бе несыт блуда, приводя к себе мужьски жены и девице растьляя»), а также сообщений, рисующих насильственный характер введения христианства на Руси.
[Закрыть]. Но несколько непослушных произвели замешательство, и Добрыня, собрав войско, «запрети беспорядки и грабление»[38]38
Ibid., стр. 68.
[Закрыть], потом крестил новгородцев. При этом случае упоминается здесь об «Иоакиме, который летописец писал»[39]39
Ibid., стр. 66.
[Закрыть]. Все войны и походы Владимира представляются славными и счастливыми, а к концу его царствования замечена следующая любопытная черта: «Владимир, находя по сердцу своему удовольствие в непрерывном милосердии и распространяя ту добродетель даже до того, что ослабело правосудие и суд по законам, отчего умножились в сие время разбои и грабительства повсюду, так что наконец митрополит Леонтий со епископы стали говорить Владимиру о том, представляя ему, что всякая власть от бога и он поставлен от всемогущего творца ради правосудия, в котором есть главное злых и роптивых смирить и исправить и добрым милость и оборону являть»[40]40
Ibid., стр. 74–75.
[Закрыть].
Святополк Окаянный, столь известный в истории братоубийствами, также находит себе оправдание в «Записках». По их словам, он, видя, что киевляне к нему не расположены, собрал бояр и спросил, что делать… «Суровость того века и нравы людей, взросших в правилах, не сходных со благочестием и гражданским добрым устройством, видны по злочестивому совету. Писатели сказывают, что положили убить Бориса и сокровенно послали то исполнить». – О Глебе еще лучше сказано, что просто «в дороге напали на него неизвестные вооруженные люди, и все подозрения сего случая пали на Святополка»[41]41
Ibid., стр. 96.
[Закрыть], об убиении Святослава вовсе умолчено. Равным образом ничего не сказано об отношениях Ярослава к новгородцам и о великодушии, оказанном ими при затруднительных обстоятельствах Ярослава, как будто бы этому так и должно было случиться{26}26
Добролюбов имеет в виду помощь, которую оказали новгородцы Ярославу Мудрому в борьбе с его братом Святополком Окаянным, несмотря на то что накануне Ярослав заманил к себе на пир «нарочитых мужей» новгородских и перебил их.
[Закрыть].
В княжении Ярослава упоминается о судебных грамотах, которые дал он новгородцам; но какйе льготы и вольности заключали они в себе, об этом нет ни малейшего намека. Изгнание новгородцами Брячислава объясняется здесь тем, что они «хотели быть верными Ярославу»[42]42
«Соб.», ч. V, стр. 42.
[Закрыть].
Здесь находим, между прочим, несколько черт, обнаруживающих, что автор «Записок» заметил права старшего в роде, какие существовали в древней Руси. Это видно и в ответе Бориса, который не хочет принять престола киевского, ибо уважает Святополка как старшего в роде[43]43
Ibid., стр. 94.
[Закрыть], и в распределении владений между Мстиславом и Ярославом, причем последний, как старший в роде, получает великокняжеский престол[44]44
Ibid., стр. 47.
[Закрыть]. Так же точно замечено и о Всеволоде, брате Изяслава, что он «наследовал брату, яко старший и предпочтеннейший в роду»[45]45
Ibid., стр. 109.
[Закрыть]. Подобные замечания встречаются и в дальнейшем продолжении труда[46]46
«Соб.», ч. VI, стр. 27, о Мономахе; ч. VII, стр. 85, об Олеговичах, и др.
[Закрыть].
Со времени Изяслава княжеские междоусобия делаются столь постоянными, что их невозможно было бы скрыть или сгладить. Но, сколько возможно, и в этом периоде «Записки» щадят князей. Так, например, о Ростиславе Владимировиче не сказано, что он был отравлен, а просто замечена кончина его, при этом прибавлена похвала его добрым качествам. Так точно и Изяслав с братьями щадится и оправдывается постоянно автором и в вероломстве, и в трусости, и в жестокости. Дело освобождения Всеслава{27}27
Пользовавшийся народными симпатиями полоцкий князь Всеслав был освобожден из тюрьмы, куда его заключил киевский князь Изяслав, во время восстания в Киеве в 1068 г. и провозглашен восставшими киевским князем вместо бежавшего Изяслава.
[Закрыть] представлено и здесь точно так, как у Татищева, у которого одного только г. Соловьев нашел подробное его описание (51). Если оно не списано из Татищева (что, впрочем, нетрудно предположить), то нужно заключить, что у составителя «Записок» были под руками те летописи, которыми пользовался Татищев. Впрочем, здесь характер рассказа опять несколько мягче. Например, ничего не сказано о совете заколоть Всеслава; вместо целого веча киевского представлены «некоторые роптатели»[47]47
«Соб.», ч. V, стр. 8.
[Закрыть]; и описание первого возвращения Изяслава в Киев 1069 года, весьма близкое к летописи, разнится от нее только тем, что раскаяние киевлян усилено, а условия, предложенные ими князю, смягчены; противодействие братьев Изяславу в этом случае представлено ходатайством перед ним за киевлян[48]48
«Соб.», ч. V, стр. 84–85.
[Закрыть]. О казни освободителей Всеслава ничего не сказано, равно как и о гонении Изяслава на Антония Печерского. Во вторичном изгнании Изяслава «Записки» считают виновным одного Святослава Черниговского, сходно, впрочем, с летописью[49]49
Ibid., стр. 89.
[Закрыть].
Но совсем не с летописным простодушием рассказывается здесь о нападении Всеслава на Новгородскую область[50]50
Ibid., стр. 86.
[Закрыть]. Там на первом плане действуют сами новгородцы, и притом рассказано, что они взяли Всеслава в плен и только ради Христа отпустили его. «Записки» же говорят только, что князь Глеб Тмутораканский собрал войско новгородцев и победил Всеслава. Далее[51]51
Ibid., стр. 116.
[Закрыть] о Князе Глебе сказано, что он ходил с новгородцами на Ямь в Заволочье и в бою убит; летописи же говорят, что он, будучи выгнан новгородцами, бежал в Заволочье и там убит чудью[52]52
Соловьева, ч. II, прим. 65.
[Закрыть].
Описывая княжение Всеволода, «Записки» не говорят о несправедливости, оказанной им Святославичам, которым он не дал областей, а, напротив, в самом начале его княжения перечисляют уделы их, об одних прямо говоря, что он даровал их, о других же просто, что такой-то князь имел такой-то удел[53]53
«Соб.», ч. V, стр. 110.
[Закрыть].
Вообще составитель «Записок» имел особенный взгляд на удельный период. Он признает великого князя законным полновластительным государем, остальных же князей – его подданными, которые от него зависят и обязаны ему повиноваться во всем. Поэтому, описывая ссоры удельных князей, он еще довольно близко к летописи рассказывает дело, но, говоря о восстании удельного князя на великого, всегда винит первого, как нарушителя порядка и ослушника. Любопытным подтверждением этого может служить следующая заметка, которою заключается описание правления Всеволода: «Не малое великому князю Всеволоду беспокойство было от удельных князей, ибо, не удовольствуясъ уделами, им данными, желали всегда больше иметь. Между удельными князьями вражды и беспокойства продолжались; по большей части они слушали советы ласкателей или молодых людей, окружавших их, которые находили способы ссорить удельных князей, брата с братом, и с великим князем. Когда же он их увещевал к любви между братии, тогда негодовали на него и не принимали ни его советов, ни советов старейшин и вельмож мудрых; чрез что повсюду правосудия в народе и обидимым обороны, а злым исправления и наказания не доставляли, и начали судии грабить и продавать правосудие и суд»[54]54
«Соб.», ч. V, стр. 123–124.
[Закрыть].
Святополк Изяславич, не имевший никаких достоинств, похваляется в «Записках» по крайней мере за хорошее зрение и память; нерешительность и слабость его обращены в доброту, а его безрассудный образ действий отнесен к тому, что он был неосторожен и слушался недобрых людей[55]55
«Соб.», ч. VI, стр. 28.
[Закрыть].
Поражения, претерпенные от половцев, оправдываются большею частью тем, что мы не могли противиться превосходному множеству[56]56
Ibid., стр. 34.
[Закрыть]. Рассказывая о вероломном убийстве Китана и Итларя половецких (1095), автор говорит о том, что Владимир Мономах сначала противился этому, но не упоминает ничего о том, что он наконец на это согласился[57]57
Ibid., стр. 41.
[Закрыть]. О походе 1095 года, когда Святополк купил мир у половцев, сказано в «Записках», что Святополк пошел на них с войском, а они, «уведав о приходе великого князя, не мешкав, ушли»[58]58
Ibid., стр. 51.
[Закрыть].
Из всех князей того времени порицание «Записок» заслуживает только Олег Святославич за свой «беспокойный нрав и гордость». Да еще о Давиде Игоревиче автор решился заметить, что это был «человек не твердый и ко вражде склонный»[59]59
Ibid., стр. 63.
[Закрыть]. Злодейство его и великого князя с Васильком Теребовльским не могло быть оправдано, и потому оно только смягчается присутствием злых советчиков, последующим раскаянием и тем, что они были действительно ослеплены страстью. Давид, впрочем, принимает на себя всю тяжесть преступления; великий князь участвует в нем только своим вынужденным согласием и потому представляется почти правым.
Все княжение Мономаха описано блестящими красками; иначе и не могло быть, конечно, потому что летописи также говорят о нем с особенным чувством благоговейной любви.
Столько же восхваляется в «Записках» и Мстислав, которого могущество представляется столь великим, что он посылает вельможу своего разобрать удельных князей и разделить по справедливости пределы их владений[60]60
«Соб.», ч. VII, стр. 88.
[Закрыть].
И не только Мстислав, действительно пользовавшийся большим значением, но даже Ярополк и Всеволод II представлены в «Записках»[61]61
«Соб.», ч. VIII.
[Закрыть] как полновластные владыки, совершенно законно и произвольно распоряжавшиеся уделами, переводившие князей из одной отчины в другую, отнимавшие и раздававшие области кому хотели. Все притязания князей выставляются как незаконные посягательства, нарушавшие высшую власть великокняжескую и происходившие от их своевольного, непокорного характера. Вследствие этого взгляда великий князь никогда не является виною междоусобий, но всегда решителем распрей, миротворцем князей, защитником правого, если только он следует внушениям собственного сердца. Как скоро он делает несправедливость, которую нельзя скрыть или оправдать, то вся вина слагается на злых советчиков, всего чаще на бояр и на духовенство.
При этом весьма странно рассказываются в «Записках» отношения Новгорода к князьям. Автор постоянно следит его историю, не пропускает ничего, не порицает новгородцев за своевольства, но не сообщает и их общественного устройства, отчего все новгородские события кажутся непонятными. Здесь даже не упоминается нигде о вече, а все происшествия представляются следствием замыслов некоторых, или говорится просто: новгородцы решили. Князьям приписывается слишком большое значение в Новгороде, а между тем рассказывается, как новгородцы прогоняли своих князей. Кажется, что автор как будто имел мысль, что князья сами были виноваты, не умели держать в руках беспокойных граждан. Так, под 1113 годом, говоря о печерской дани, которой не хотели платить новгородцы, автор замечает: «Писатели приписывают сие тому, что князь Всеволод Мстиславич, быв не токмо кроток, но и слаб, не содержал их в надлежащем порядке, оттого и своевольствовали»[62]62
«Соб.», ч. VIII, стр. 67
[Закрыть]. Так и после описания того, как схватили, осудили и изгнали Всеволода из Новгорода, автор говорит, что великий князь весьма был недоволен Всеволодом, потому что «его неустройством» новгородцы до того дошли, что передались Ольговичам[63]63
Ibid., стр. 81.
[Закрыть]. О Святославе Ольговиче сказано, что в 1140 году новгородцы, те, «кои остались верны князьям рода Владимира, предуспели выслать из Новгорода князя Святослава Ольговича»[64]64
Ibid., стр. 111.
[Закрыть], тогда как известно, что он принужден был бежать, опасаясь суда веча и мщения граждан за свои насилия. Следовавшие затем изгнания князей из Новгорода автор «Записок» рассматривает именно с той точки зрения, что одни были верны дому Мономаха, другие же не хотели хранить верности и искали других князей. Конечно, в отношении к главной мысли всего труда это было лучшее объяснение всех самоуправств веча новгородского.








