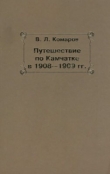Текст книги "Украденная душа"
Автор книги: Николай Асанов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 5 страниц)
На всплеск ладоней слышатся шаги, и из двери слева появляется молодая послушница, что встречала меня, с подносом из китайского лака. На подносе – три маленькие китайские чашечки с кофе и две тонкие длинные рюмки с коньяком. Каждая чашка и рюмка стоят на отдельной вышитой гарусом мягкой подставке. Послушница ставит поднос на стол перед нами и, склонив голову, уходит.
Мы молча отпиваем по глотку кофе. Джанис, лукаво взглянув на меня черными, поблескивающими глазами, тянется за рюмкой. Я следую его примеру.
Коньяк в меру старый, обжигающий, кофе в меру крепок и сладок. Но меня же пригласили не ради дегустации напитков! Помогать настоятельнице своими вопросами я не стану. Пусть начинает сама.
Ей помогает Джанис. Он расхваливает месторасположение монастыря, его хозяйство, роспись монастырской церкви, древние иконы. Похоже, что этот корреспондент уже не один день провел в пределах обители.
– Все так, все так, – благостно вздыхая, произносит настоятельница, но тут на лице ее появляется обиженное выражение, в голосе звучат трагические нотки: – Только местные власти относятся к нам с небрежением, обижают лучшие чувства верующих…
Я упрямо молчу. Джанис, подождав, не попаду ли я на крючок, спрашивает сам:
– Позвольте, преподобная мать, но ведь в вашей стране церковь отделена от государства. Следовательно, они могут жить мирно, как подобает добрым соседям…
– Но если в ваш дом забрался вор, то добрый сосед спешит на выручку! А местные власти на все мои жалобы…
– Но может ли какой-нибудь вор покуситься на дом божьей матери? – удивляется Джанис.
Я, конечно, понимаю, что этот разговор не отрепетирован заранее. Просто оба мои собеседника достаточно талантливые актеры, чтобы вовремя подать нужную реплику друг другу. Но так как мне-то разыгрываемая ими пьеса неизвестна и я не знаю, какая роль в ней мне отведена, то пока предпочитаю помалкивать.
– О! – Мать игуменья беспомощно машет рукой, становясь похожей на обиженного ребенка, а Джанис ловит эту пухлую руку на лету, почтительно прикасаясь к ней губами. – Богохульство никогда и нигде не поощрялось, но наши местные власти слепы и, боюсь, неразумны. – Мать игуменья отбирает свою руку у Джаниса и снова становится строгой и властной. – Да вот послушайте, панове! – Она бросает выразительный взгляд в мою сторону, и я понимаю, что слушать предложено мне. – Советский работник, подумайте, пусть и не очень видный, но представитель власти!.. – еще взгляд на меня, – …собирается украсть одну из агниц божьих, Христовых невест, отдавших свои души на мое попечение.
Джанис делает удивленно-оскорбленное лицо, что-то похожее на «ах!» вырывается из его скорбно поджатых уст, он выпрямляется в кресле, словно ставит «кол» за поведение неизвестному советскому работнику, этому «незначительному представителю власти».
Я весь превращаюсь во внимание – столь удивительно сообщение настоятельницы. Вполне, видимо, удовлетворенная тем впечатлением, какое произвели ее слова на слушателей, настоятельница делает неуловимое движение правой рукой, и рука, словно белая мышка, ныряет в левый рукав и вот уже появляется перед нами на столе. В ней веером лежат смятые, оборванные бумажки величиной с конфетную обертку. Настоятельница рассыпает их по столу, как игральные карты.
С острым чувством горького изумления просматриваю я эти короткие, как голубиная почта, записки, полные страсти и нежности.
Настоятельница настороженно следит за моими пальцами, помимо моей воли тщательно расправляющими скомканные листки. Наконец она не выдерживает и придвигает записки к себе.
– Не в этих посланиях греха дело, – сурово произносит она, – а в том, что надо предотвратить беду. Иначе она обрушится с одинаковой силой и на наши, и на ваши головы… – Слово «ваши» она подчеркивает так выразительно, будто точно знает меру божьего гнева.
– Как зовут этого человека? – спрашиваю я. Почему-то мне вспоминается злое лицо бурового мастера Зимовеева.
– Эта негодница оторвала кусок записки с именем и адресом своего возлюбленного и проглотила, – сухо произносит настоятельница, не замечая, каким обвинением против нее самой звучат эти слова. Как же должна была бояться маленькая монахиня, и не за себя – она уже попалась! – а за этого неизвестного мне человека, своего любимого, если можно назвать любовью такое вот обручение записками в монастыре!
– Он уговорил богоотступницу бежать! – гневно говорит настоятельница. – Вы обязаны предупредить этого негодяя, что милость господа не распространяется на вероотступников!
– Но церковь отделена от государства! – напоминаю я. – К тому же мы не знаем даже имени этого человека. И потом, он, по-видимому, атеист; я что-то не встречал верующих советских, как вы говорите, «деятелей».
– Божий меч падает на голову и того, кто бежал от бога, и того, кто смутил его слабый дух. Вспомните Савла! – Настоятельница предостерегающе поднимает тонкий, длинный палец с розоватым, ровно отшлифованным ногтем.
Слова о Савле обращены, собственно, к господину Джанису, и тот почтительно кивает. К счастью, я знаю эту историю о преследователе христианской секты в языческом Риме, которому бог послал знамение, после чего он сам стал яростным проповедником христианства под именем Павла…
– Вряд ли господь бог будет посылать знамения советскому работнику… В наш атомный век чудеса в основном творят люди. Даже из вашего окна по ночам можно увидеть летящий в пространстве спутник.
– Бог может покарать вероотступницу! – Настоятельница вновь поднимает свой перст. – Таким образом будет косвенно покаран и смутитель ее души. Если он действительно любит, как пишет в своих посланиях, – назидательно добавляет она, и мое сердце вдруг тоскливо сжимается.
Я представляю, как неизвестный мне влюбленный узнает, что его любимая исчезла… Что мы знаем о монастырях и о порядках, существующих у них? Ведь церковь отделена от государства! Я сам только что сослался на это…
Я нечаянно замечаю на обороте одной из записок адрес, написанный энергичным мужским почерком: «Послушнице Софии». Эти два слова заполняют весь листок, тогда как тексты записок на обороте сделаны микроскопическими буковками, чтобы и на малой площади тайного письмеца вместить как можно больше любви и страсти.
– Кстати, мать настоятельница, эта, как вы говорите, вероотступница даже и не монахиня, а всего лишь послушница! Значит, грех ее не так уж велик, да и душа ее еще не отдана Христу, так что она вполне может стать невестой живого человека…
– Пострижение состоится в среду! – резко обрывает меня настоятельница.
Молчаливый Джанис сухо покашливает, то ли предупреждая ее о том, что мне не все можно говорить, то ли напоминая о своем присутствии. Мать игуменья молниеносно включает его в свое наступление.
– Господин Джанис не откажется сообщить верующим всего мира о том, как советская власть вмешивается в дела церкви! – Этим «господин» она начисто отделяет Джаниса от меня. Только что мы оба были просто «панове», теперь же Джанис представитель другого мира.
– Один какой-то невоспитанный представитель власти, мать игуменья, а не вся советская власть, – живо уточняет Джанис. – Мы весьма высоко чтим государственных деятелей Советской страны. Они борются за те же идеалы, которые проповедует и церковь. Многие представители церкви, особенно протестантской, солидарны с ними в общей борьбе за мир и за успокоение на земле… – Эти слова явно предназначены только для меня.
– Но чем я могу помочь, если невесты Христовы предпочитают любовь живого человека? – Я больше не хочу скрывать свою досаду. – За их души отвечаете только вы, настоятельница монастыря. Не могу же я прочитать в вашем монастыре лекцию о том, как грешно любить мирского человека!
Лицо у настоятельницы передергивается, но усилием воли она возвращает привычную улыбку. Однако голос изменяет ей, он звучит жестоко, властно:
– Обратитесь к здешним властям предержащим, пусть они расследуют этот поступок. Человек этот переписывается с нашей сестрой во Христе шесть месяцев, значит, он служит в какой-то городской управе…
– Почему бы вам не обратиться самой?
– Мне это неудобно! – отрезает она.
– Да, настоятельнице неудобно! – подтверждает Джанис. – Она не может сказать, что этим делом заинтересовались представители иностранной прессы. Неудобно ей также напоминать и о том, что униатская церковь совсем еще недавно отпала от истинной церкви Христовой и что в Риме и в Ватикане весьма интересуются положением дел в доме отторгнутой младшей сестры… – Эти фразы он произносит напыщенно, и так и кажется, что из-под пиджака у него вот-вот выглянет краешек сутаны католического патера. Но как остроумно все это они придумали!
– Тем не менее вам придется обращаться к местным властям самой, – не соблюдая больше правил учтивости, отвечаю я. – Впрочем, господин Джанис тоже может попросить аудиенцию у руководителей города! – швыряю я последнюю мину и встаю первым, хотя это и не положено по правилам хорошего тона.
Все мое любопытство иссякло. Душу тревожит судьба несчастной послушницы. Человек, вызвавший в них такой гнев, им пока неизвестен, но ее-то они уже преследуют! Я задаю последний вопрос:
– Могу ли я побеседовать с этой послушницей?
– К сожалению, она больна! – чеканным голосом, из которого на этот раз изгнано даже притворное сожаление, отвечает настоятельница и, не протягивая мне руки, трижды хлопает в ладоши.
Из-за двери вырастает послушница с белым лицом.
– Проводите пана! – изрекает настоятельница и совсем другим тоном обращается к Джанису: – А вы, надеюсь, согласитесь разделить мою трапезу?
Господин Джанис любезно кланяется ей, затем поднимается, чтобы ответить на мой поклон. Когда послушница закрывает дверь, я уже слышу веселый разговор на французском. Я больше для них не существую.
Но они существуют для меня. Я помню их лица. И мне становится все тягостнее думать о той, что приговорена теперь к затворничеству уже не по своей воле, как когда-то пришла сюда, а по воле посторонних людей, самовластно взявших на себя роль судей и палачей. И еще я думаю о неизвестном мне простом советском человеке, по-видимому, молодом и, наверное, смелом, – ведь мать настоятельница его боится! – любовь которого оказалась такой несчастливой.
Выход из монастыря сопровождается такими же церемониями, как и вход. Меня опять передают с рук на руки, но теперь я смотрю на зарешеченные окна, на покрытый белолобым камнем двор, как на тюрьму. Со двора на виноградники уходят последние сельскохозяйственные взводы этой общины Девы Марии, и я пристально вглядываюсь в молодые и старые лица, удивленно обращенные ко мне, мирскому человеку, и мне кажется, что каждое лицо выражает горькую грусть о покинутом мире, неизбывную печаль об утраченном материнстве; а может, это запах ладана из раскрытых дверей церкви и запах мяты от воза свеженакошенной травы, что стоит у ворот, вызывают во мне сожаление о чужих изломанных судьбах.
ЧАСТЬ ВТОРАЯ

Начальник метеостанции. – «Я знал Софью еще школьницей…» – Ночной звонок. – «ГАЗ-69». – Скит на Громовице. – Прогноз погоды
1
Я иду через город и только теперь обращаю внимание на то, как много здесь церквей, которые чертят своими крестами быстро бегущие облака.
Душа моя неспокойна, и от этого чувство зыбкой неуверенности то толкает меня вперед, то заставляет задержаться среди тротуара под неодобрительный ропот прохожих. Я все раздумываю: нужно ли вмешивать в это дело власти? Зайти в областной комитет партии? В исполком? Может, действительно стоит рассказать руководителям города об этой несчастной любви?
Но ведь именно этого и хотят настоятельница монастыря и господин Джанис. Вероятно, они твердо уверены в том, что власти, опираясь на тот самый пункт об отделении церкви от государства, которым козыряют игуменья и мой «коллега», не только не захотят вмешиваться в это дело, но и постараются разыскать и даже «вправить мозги» несчастному влюбленному «представителю власти». И, когда я уже готов повернуть на центральную улицу, где расположены главные учреждения города, что-то толкает меня в сердце: «Не торопись!» И я медленно бреду к гостинице.
Красивая королева альпинистов Зина стоит у ворот гостиницы с начальником метеостанции Довгуном, три дня назад спустившимся с Громовицы. Метеостанция находится высоко на горе, там и зиму и лето живут три человека. Довгуну еще вчера следовало возвратиться на станцию, пока дорогу не засыпало обвалами, но он увидел Зину и… погиб. А Зина любит пофлиртовать, ее забавляет неумелое ухаживание Довгуна и ревность Володи. Хотя, впрочем, почему же неумелое? Довгун стоит рядом с Зиной и разговаривает с нею таким жарким шепотом, что девушка бледнеет и краснеет, и уже видно, что ей нипочем не оборвать этот весьма важный разговор. Мне жаль Володю. Взбрело же ему в голову влюбиться в эту взбалмошную девицу…
А говорят они, между прочим, о сущих пустяках: Довгун уговаривает Зину, чтобы та, в свою очередь, уговорила Володю взять его с собой в составе экспедиции. Все знают, что ему это, собственно, ни к чему: метеостанция находится на половине подъема, туда есть санная дорога, хоть и тяжелая, но постоянно обновляемая в течение всей зимы. Довгун – здоровый, сильный мужчина, лет тридцати пяти, ни помощь, ни страховка в пути ему не нужны, – просто ему хочется еще немного побыть возле Зины. И Зине он тоже не нужен. Однако Зина не гонит его прочь, наоборот, внимательно слушает каждое его слово, посмеивается, как-то смешно подсюсюкивает, будто маленькая девочка, и старается не глядеть на окна второго этажа гостиницы, в одном из которых виднеется измученное ревностью лицо Володи.
– Зи-ина! – доносится из окна плачущий голос Володи.
– Ну, что тебе? – лениво отзывается Зина не двигаясь.
– Пойдем обедать!
– Я поела в городе…
Она с неохотой отворачивается от метеоролога и совсем другим голосом, деловитым, властным, говорит:
– Володя, спустись вниз, к тебе Довгун пришел!
Мне видно, как Володя в окне облегченно вздыхает и отваливается от подоконника. Довгун немедленно приосанивается. Зина прислоняется к нагретой солнцем стене чуть в стороне от метеоролога. Я с горечью думаю, что никогда Володя не будет счастлив с такой женой, как Зина. Все эти дни только и слышишь ее командирский голос. И все эти дни она флиртует с кем лопало. И Володя все это терпит!
Только Зимовеев и Сиромаха отказались поддержать эту ее игру. Но зато она и мстит им как умеет. А умеет она многое!
Кстати, где же эти геологи? Вот с кем можно посоветоваться без обиняков!
И, едва подумав о них, замечаю обоих в зеркальном окне ресторана. Они, уже парадно одетые, в пиджаках, в сорочках с галстуками, сидят за столом, отдернув штору, и смотрят на меня. Заметив мой взгляд, оба начинают кивать, махать призывающе руками, и я торопливо прохожу мимо Зины и Довгуна в прохладный подъезд гостиницы.
– Ну, как вас встретила мать игуменья? – улыбаясь, спрашивает Зимовеев.
На этот раз нет и следа злости на его курносом загорелом лице. Он весь – любопытство.
– Кофе с коньяком… – Я тоже пытаюсь улыбаться, но мне это, наверное, не удается.
– В свою веру не обратила?
– Почти.
Сиромаха меланхолически поглядывает в окно на проходящих. Он, кажется, не слышит нашего разговора. Геологи уже пообедали, потягивают «шприц». Так здесь называют освежающее питье из местного красного вина, разведенного на две трети фруктовой или минеральной водой. Я заказываю суп-гуляш по-венгерски и большую рюмку водки. Зимовеев насмешливо говорит Сиромахе:
– Смотри-ка, как перевернуло товарища корреспондента после кисло-сладких разговоров с настоятельницей! Сразу захотелось и острого и горького!
– Там не только настоятельница была. Был еще и один иностранный корреспондент! После такой встречи и огуречный рассол не поможет!
– Рекомендую чаламаду! – серьезно говорит Зимовеев и кивает официанту.
Чаламада – настолько острая закуска из маринованных перцев, лука и огурцов, что у меня захватывает дух и на глазах выступают слезы. Подождав, пока я перестаю махать рукой перед обожженным ртом, Зимовеев настойчиво спрашивает:
– И что же постановило столь высокое собрание?
Я вдруг вспоминаю промелькнувшие у меня там, в монастыре, подозрения, откладываю вилку, смотрю прямо в глаза буровому мастеру и говорю:
– Настоятельница перехватила письма, адресованные послушнице, и собирается обратиться к местным властям. В свидании с послушницей мне отказали под тем предлогом, что она больна, на среду назначено пострижение в монахини.
Зимовеев сидит неподвижно, только глаза его уходят куда-то в сторону. Зато рядом я слышу шепот, похожий на голос умирающего: «Софьюшка!», и, встрепенувшись, вижу искаженное лицо Сиромахи. Зимовеев вскакивает, бросается к нему, пытаясь влить сквозь стиснутые зубы глоток «шприца».
– Разве можно так! – шипит он на меня.
– Но я же не знал, – растерянно бормочу я.
Он помогает Сиромахе подняться и ведет его через внутреннюю дверь ресторана в гостиницу. На пороге кивает мне, и я понимаю это как приглашение поторопиться с обедом и подняться к ним в номер. Но у меня уже нет никакого аппетита. Торопливо расплатившись, я спешу за геологами.
Сиромаха сидит у окна и все так же неотрывно смотрит на улицу. Следов потрясения больше не видно. Зимовеев мечется по номеру, ругаясь так виртуозно, что я тороплюсь прикрыть двери: он может собрать сюда всех жителей гостиницы. Увидев меня, он поворачивается на носках и бешено кричит:
– Да рассказывайте же!
Я еле удерживаюсь от желания закричать в свою очередь на него. Сажусь так, чтобы видеть лицо Сиромахи, и холодно говорю:
– Нет уж, лучше рассказывайте вы!
– Сядь, Зимовеев, – каким-то усталым, без выражения голосом говорит Сиромаха. – Товарищ корреспондент тут ни при чем. Сначала уж я расскажу, а потом он, может, что посоветует…
В голосе его появляется слабая надежда, и мне хочется сделать черт знает что. Может быть, ворваться в монастырь, силой отбить девушку, лишь бы вернуть радость на это измученное лицо, наполнить бесцветный голос всеми красками жизни…
– Вы Софью не видели, а я знал ее еще школьницей, – говорит он, и при одном имени девушки голос геолога полнится силой. – Мы росли в одном селе…
Из путаного, со многими отступлениями рассказа Сиромахи я выясняю и отбираю для себя только главное. Девушка жила сиротой. В последний год войны бандеровцы убили ее отца и мать. Софье тогда только что исполнилось пять лет. Сиромаха жил по соседству с ее домом и помнит ту страшную ночь. Бандеровцы подожгли село со всех сторон, – сельский отряд самообороны до этого причинил им много неприятностей, и бандиты пытались отомстить, как они это умели…
К счастью, подоспевшие с марша воинские части разгромили налетчиков и успели отстоять от огня большую часть села. Уцелел и дом Софьи.
К Софье переселилась сестра ее матери. Постепенно девочка оправилась от тяжелых воспоминаний, пошла в школу. Только была очень тихой, задумчивой, ходила вместе с теткой в церковь, хотя пионеры и высмеивали ее. Впрочем, в те времена верующих было полсела, а пионеров и комсомольцев единицы. Эти области воссоединились не так давно, а потом еще несколько лет прожили под оккупацией…
К седьмому классу девочка выровнялась, стала очень красивой. Сиромаха, который с детства жалел ее и защищал как мог, привязался к ней еще больше, но он в это время уже заканчивал десятилетку и собирался поступать в институт. Перед отъездом он разговаривал с Софьей…
– Тетка запрещала ей учиться. Таскала по церквям, чтобы замолить «грехи» родителей, умерших без покаяния. Да и о наказании убийц нужно было молиться и молиться. Человека, который убил ее родителей, так и не поймали… Ну и Софья слушалась тетку…
Тут голос геолога стал срываться. Зимовеев посмотрел на меня волком, чтобы я прекратил расспросы, но Сиромаха остановил его слабым взмахом руки и продолжал свой рассказ.
Из института он писал домой, сестре, расспрашивал о Софье. В школу она больше не ходила, а потом и совсем исчезла из села…
Осенью прошлого года, приехав в город по делам своей геологической группы, Сиромаха обратил внимание на проходивший из монастыря в городской кафедральный собор хор монахинь. Монахини шли попарно, опустив глаза долу. Большинство были молодые, но сопровождали хор старые монахини, выступавшие, как взводные, по сторонам и с краю этой роты Христовых невест. Сиромаха прижался к стене дома и пережидал, когда пройдет удивительная процессия, с любопытством разглядывая молодые, но такие печальные лица. И вдруг в последнем ряду увидел Софью…
Встреча была так удивительна, что он невольно окликнул девушку. Девушка подняла на него глаза, вскрикнула, рванулась к нему, но одна из старших сестер толкнула ее в плечо, заслонила от Сиромахи, другая ухватила девушку за руку, и получилось, что ее словно бы силой втащили во врата церкви…
Первым побуждением Сиромахи было войти в собор. Но одна из монахинь осталась в притворе, с очевидным намерением рассмотреть подозрительного человека, нарушившего чинное шествие хора, а вокруг стояла толпа верующих, ожидавших какой-то особо торжественной службы, и Сиромаха побоялся, что монахиня устроит ему какую-нибудь провокацию…
Но он прикинул про себя, что служба продлится не меньше двух часов, а за это время можно успеть многое…
Сиромаха был очень приметно одет: в резиновом плаще, в высоких охотничьих сапогах, как обычно одевался в дорогу и на разведку. Он разыскал в городе коллегу, заехал к нему и переоделся в его выходной костюм. Через два часа он опять стоял у церкви, а в руке у него было зажато небольшое послание Софье…
В этом месте рассказа Сиромаха поднял на меня свои правдивые глаза и попытался объяснить, что сделал он это из простого сочувствия односельчанке. Он уже давно забыл то первое слабое чувство, которое рождалось в нем в давние времена. Ведь когда Сиромаха покинул село, Софьюшке было всего пятнадцать лет. Можно ли было принимать в расчет те детские разговоры и привязанности? Да, они изредка встречались на майдане во время воскресных гуляний, если Софьюшке удавалось ускользнуть из-под бдительной опеки строгой тетки. В такие вечера он провожал ее домой. Однажды, перед самым его отъездом, они даже поцеловались. Но все это помнилось, как детство…
Но вот ее рвущий душу вскрик, ее испуганно-жалобный взгляд во время этой нечаянной встречи Сиромаха забыть уже не мог. Сейчас он неожиданно увидел тяжкое страдание человека, знакомого, доброго, хорошего, и страдание бессмысленное, непонятное, стоящее почти что на пороге тайны… Как могла Софьюшка стать монахиней? Сиромаха тогда не очень-то разбирался в чинах ангельских и в монастырских званиях. Он не обратил внимания на то, что одни монахини были с белыми воротничками, другие в сплошь черном одеянии, потом уже он выяснил, что хор-то состоял из молодых послушниц, а монахини лишь сопровождали их, чтобы оградить от соблазна неустойчивые души.
Сиромаха простоял возле кафедрального собора с полчаса. Он запомнил, что Софьюшка шла в последнем ряду крайней слева. Если старшие монахини и станут оберегать ее, так только от человека в длинном резиновом плаще, которого могли приметить. Но в обычном штатском костюме они его не распознали бы в толпе любопытных.
На этот раз он встал с внешней стороны тротуара, замешавшись среди зевак. И ему повезло.
Софья снова шла в последнем ряду, но уже справа, как он и предположил. Старшие монахини шли впереди, шныряя глазами по толпе – должно быть, искали смутившего Софью человека. А Сиромаха сразу заметил белое, «будто меловое», как сказал он, лицо, глубокие грустные глаза, вдруг засветившиеся радостью, когда Софья вновь увидела его, и успел втолкнуть в ее слабо сопротивлявшуюся руку приготовленную заранее записку. В ответ она слабо выронила два слова, которые он скорее понял сердцем, чем услышал:
– Завтра здесь…
Сиромаха позвонил на строительство и попросил разрешения задержаться на одни сутки.
Утром он с рассвета дежурил возле собора. На дверях собора он прочитал объявленьице о том, что тут состоится служба в день покрова богоматери с присутствием хора женского монастыря Пресвятой Девы, и решил ждать хоть до окончания службы; если понадобится, пройти в собор, пробраться к самому клиросу…
Но ему повезло. Монахини шли той же дорогой. Опять он стоял у стены дома, снова увидел лицо Софьюшки, ее обрадованные глаза, а рука его перехватила маленькую, похожую на облатку записку. Пропустив монахинь, он бросился в переулок…
Софья писала, что тетка ее вышла замуж и принудила племянницу продать ей отцовский дом и пойти в монастырь. За дом Софья получила пять тысяч рублей и внесла эти деньги как монастырский вклад, так как без вкладов в монастырь не принимают.
Произошло это три года назад. Теперь Софья раскаивается в своем поступке, но никакого выхода нет. «От нас уходят, – писала она на маленьком клочке бумаги, – только в могилу…»
Сиромаха бросился на почту. Там он написал большое письмо. Столь тягостна была судьба Софьюшки, что он не удерживал своих чувств. Он просил у Софьюшки только разрешения помочь ей, а уж там он сделает все: взорвет, если надо, стены монастыря, украдет ее прямо из монастырской процессии, когда Софьюшка снова пойдет с хором в кафедральный собор… Одним словом, боюсь, что это было весьма необдуманное письмо. Впрочем, Сиромаха и сам подтверждал, что написано оно было только сердцем, без участия разума…
Но с передачей этого письма произошла неудача. Шедшая следом старшая сестра заметила, как он что-то передал Софьюшке… И, хотя Софьюшка писала в своем первом письме, что завтра будет снова петь в соборе, ее не оказалось среди монахинь. А Сиромаха, просидевший в городе лишние сутки, получил выговор на работе.
Приехав в город через несколько дней, Сиромаха пошел в монастырь, к воскресной службе. Софья пела в хоре.
Переждав, когда окончилась служба, Сиромаха стоял в притворе небольшой монастырской церкви. Монахини проходили мимо него парами. Софья не рискнула ни сказать ничего, ни передать записку, она прошла, не поднимая глаз. Но, когда Сиромаха, отчаявшийся и даже обиженный, выходил из церкви, какая-то пожилая монахиня вдруг сунула ему записку. Сиромаха торопливо вышел из монастыря.
Записка была от Софьи. Софья писала, что им надо быть осторожными, и советовала обратиться в городе к одной богомолке, которая часто бывает в монастыре, знает Софью и предупреждена, что к ней может зайти Софьин односельчанин.
Так наладился регулярный обмен письмами между монастырем и «волей», как называла Софья тот мир, в котором жил Сиромаха. И геолог понял, для Софьи монастырь давно стал тюрьмой…
Однако она боялась.
Она боялась всего: настоятельницы, другой жизни, любви, начальников Сиромахи. Боялась верующих и безбожников. Боялась побега и боялась оставаться в монастыре.
В нескольких письмах Сиромаха предлагал ей планы побега. Она отказывалась.
Зимой монахини почти не появлялись в городе. В монастырь Сиромаха не ходил – он мог примелькаться там, возбудить подозрения. Всех «истинно верующих» молодых людей привратницы монастыря знали, частое появление постороннего человека могло их насторожить. Он видел Софью всего три раза за зиму, и то приходилось с трудом подыскивать предлоги, чтобы выехать в город, – строительство, на котором работал Сиромаха, требовало его присутствия.
Но весной что-то случилось: Софья прислала записку, в которой просила о помощи. И вот Сиромаха и Зимовеев приехали в надежде вырвать ее из монастыря.
Зимовеев сидел у двери на стуле, часто курил и все прислушивался к шагам в коридоре. В путаную речь Сиромахи он не вмешивался. Только когда Сиромаха замолчал, буркнул:
– Теперь понятно, что там произошло. Переписку у Софьи отобрали и переполошились, как бы она не сбежала и не потребовала свои пять тысяч.
Только тут я вспомнил о вкладе Софьи.
– Не нужны нам эти деньги! – горячо вымолвил Сиромаха.
– Так они тебе и поверят! – иронически заметил Зимовеев. – Они все на деньги расценивают, даже свои убеждения. А кроме того, кому из церковников приятно будет, если монахиня уйдет?
– Она еще не монахиня! – вмешался я.
– В среду будет! – напомнил Зимовеев. – Настоятельница просто так не скажет!
Мы все подавленно молчали.
Сиромаха поднялся, прошел к своему чемодану, щелкнул замком и достал какой-то сверток. Покопавшись в нем, он вынул тетрадку из желтой оберточной бумаги, сшитую суровыми нитками, и протянул мне.
– Вот возьмите, – угрюмо сказал он, – вдруг пригодится когда-нибудь… Мало ли что может случиться после вашего разговора с игуменьей… Она ведь так просто этого дела не оставит… Но и мы ждать у моря погоды не станем!
Он сунул тетрадку мне в руки и пошел к двери. Зимовеев пытался остановить его, но он резко отстранил друга, буркнув:
– Идем к Володе! Слезами горю не поможешь!
Он выскочил из номера, оставив дверь распахнутой.
Зимовеев пожал плечами, словно просил извинить друга, взглянул на меня, ожидая, когда я выйду.
Вернувшись к себе, я снова услышал звон и царапанье металлической «кошки» по камню. Выглянув в окно, увидел Сиромаху и Володю. Сиромаха, сбросив пиджак и сорочку, в одной майке, старательно швырял «кошку» на выступы скалы, потом пробовал, как она зацепилась, и полз по выщербленному годами и непогодой камню, как настоящий скалолаз. Зимовеев стоял в стороне, наблюдая за его удачами и неудачами. Довгун и Зина опять стояли рядом у палатки в такой позе, будто собирались вот-вот обняться, а Володя с хмурым лицом то подавал советы Сиромахе, то поглядывал на Зину и метеоролога. И я снова подумал: «Как этот тихий, приятный паренек стал женихом этой девушки? Уж в их-то любви, наверное, не было никаких преград…»
И почему-то мне стало горько от этой мысли. Может быть, пройди они половину пути, какой предстоял Сиромахе, бегущему за своим счастьем, и у этой пары была бы добрая, дружная любовь… Почему-то мне уже казалось, что счастье Сиромахи, если геолог отыщет и добудет его, окажется сильным, чистым, светлым…
Сиромаха швырял «кошку».
Я отошел от окна, сел к столу и открыл желтую, сшитую суровой ниткой, такую необычную, напоминающую о грубой нищете и тюремной строгости тетрадь.
Вот выписки из нее.
2
«Беде моей никто не поможет, сама я в ней виновата…
За мирские помыслы мать настоятельница наложила на меня епитимью: ночное стояние в церкви и чтение евангелия от Матфея с первого стиха до последнего и с последнего обратно до первого, чтобы уяснила я всю складность жизни Христовой и его погибели за нас грешных. Три раза за ночь старенький батюшка наш открывал двери церкви и приносил мне воды, чтобы я не сомлела. Но мне не было страшно от темноты, в которой горела одна свеча над евангелием, а страшно мне было от моей гордыни, что я смею думать о мирской жизни. Зачем ты окликнул меня? И неужели голос твой был от сатаны, как говорит наша мать настоятельница, а не от доброты твоей? Ведь доброта согласна со словом Христовым, так учит и святая книга, а от сатаны идет только гордыня пагубная. Но ведь ты же хотел мне только добра! Разве не так?