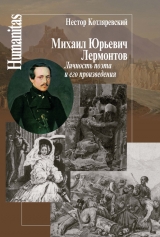
Текст книги "Михаил Юрьевич Лермонтов. Личность поэта и его произведения"
Автор книги: Нестор Котляревский
Жанры:
Языкознание
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 27 страниц) [доступный отрывок для чтения: 10 страниц]
II
Лермонтов иногда вспоминал свое детство и любил разукрашать его насчет настоящего. Когда в его еще совсем юной душе начались всяческие бури и волнения и на него легла трудная обязанность найти в жизни место и оправдание неясным стремлениям души, поэт, нервный и раздраженный, с грустью говорил о мирном, былом времени, когда его душевная гармония не была, как ему казалось, нарушена никаким идейным или сердечным диссонансом.
Еще в 1830 году, живя в Москве, он писал:
Зачем семьи родной безвестный круг
Я покидал? Всё сердце грело там,
Всё было мне наставник или друг,
Всё верило младенческим мечтам!
[1830]
Та же мысль выражена Лермонтовым и в другом стихотворении, но только более поэтично. Намекая на свою «бурную» жизнь, он сравнивал себя с волной и говорил:
…волна
Ко брегу возвратиться не сильна.
Когда, гонима бурей роковой,
Шипит и мчится с пеною своей,
Она всё помнит тот залив родной,
Где пенилась в приютах камышей…
[1831]
И в 1833 году мы встречаемся с тем ж настроением:
К чему, куда ведет нас жизнь, о том
Не с нашим бедным толковать умом;
Но исключая два-три дня да детство,
Она, бесспорно, скверное наследство.
[1833]
За скудостью посторонних сведений и ввиду молчания самого Лермонтова весь ранний период его жизни остается для нас полузагадкой. Мы можем с уверенностью сказать только одно, что основная черта лермонтовского характера – его грусть, его меланхолия, сказалась в нем необычайно рано, хотя в этот ранний период и сменялась иногда проблесками более светлого настроения, которое потом стало исчезать очень быстро.
Эта грусть, стремление во всех впечатлениях жизни отмечать их печальную сторону, была, несомненно, врожденной склонностью, даром природы, так как в самих фактах юношеской жизни поэта света было все-таки гораздо больше, чем мрака.
Такой дар самой природы был хоть и опасный и печальный, но он приучал мальчика рано вникать в смысл жизни.
В борьбе с трудными загадками этой жизни Лермонтов, как видно по его самым ранним стихотворениям, прошел прежде всего через ту полосу «романтического», неопределенного, малопродуманного томления, когда земное существование кажется тяжким бременем, когда грустный юноша готов на словах «прервать ток своей жизни», а на деле только начинает ощущать всю прелесть ее юных впечатлений. Жуковский лучше всех умел некогда выразить такое томление.
Чрез эту ступень развития Лермонтов прошел очень быстро, и только в самых ранних его стихах мы можем подметить туманное стремление вдаль, поэтичную тоску по надземному блаженству, томление по какому-то лучшему миру. Очень скоро эти мечты уступили место другому чувству, более определенному, но зато и более печальному.
Мальчик все больше и больше привязывался к земле и стал пристальнее присматриваться к ее явлениям. Томиться по иному миру он переставал, но над миром земным он произнес приговор очень строгий и мрачный.
III
Лермонтову было тринадцать лет, когда его привезли в Москву; он поступил в университетский пансион, а затем в университет, сначала на этико-политическое отделение, а потом на словесное.
В столице поэт сразу попал в совершенно новую для него обстановку. Вокруг него не было ни деревенской свободы и простоты, ни природы, которую он так любил и чувствовал. К тому же он приехал в Москву с несвободным сердцем, насколько может быть несвободно сердце тринадцатилетнего мальчика. В 1825 году, живя с бабушкой на Кавказе, куда она ездила с ним для поправления его хрупкого здоровья, Лермонтов испытал чувство первой сердечной привязанности, которое оставило глубокий след в его памяти.
Перемена обстановки и связанный с нею наплыв воспоминаний, всегда грустных, за отсутствием предметов, которые их вызывали, частые сердечные вспышки, семейные ссоры отца и бабушки, принявшие в Москве особенно острый характер, – все поддерживало в мальчике его меланхолическое, но теперь уже, временами, желчное настроение.
Прежний замкнутый образ жизни резко изменился. Приходилось сталкиваться с товарищами, с их интересами, университетскими и иными; приходилось, наконец, столкнуться и с вопросами общественными и политическими, которые в начале 30-х годов начинали волновать русское общество.
Ко всем этим новым для него сторонам жизни Лермонтов приноровлялся туго. Из рассказов его товарищей мы знаем, что в университете он занимал в их кругу совершенно обособленное место, друзей не имел и даже ни с кем из них не разговаривал. Верны ли эти рассказы о его угрюмом виде, о его дерзких ответах, о постоянном чтении в аудитории какой-то английской книги – утверждать трудно, но не подлежит сомнению, что Лермонтов держался в стороне от товарищей, хотя, вероятно, не из гордости или презрения к людям. Такое нелюдимое и угрюмое поведение Лермонтова объясняется отчасти тем, что поэт переживал как раз в эти годы (1829–1831) тяжелый нравственный и умственный кризис: целый ряд самых трудных и сложных вопросов взволновал сразу его ум и душу, и он, по природе скрытный и гордый, предпочел разбираться в них в тиши, не призывая никого на помощь.
Что, собственно, дал Лермонтову московский университет в смысле умственного развития, определить трудно[3]3
Лермонтов вспоминал о своем пребывании в университете с иронией:
Святое место!.. Помню я, как сон,Твои кафедры, залы, коридоры,Твоих сынов заносчивые споры,О Боге, о вселенной и о том,Как пить – с водой иль просто голый ром;Их гордый вид пред гордыми властями,Их сюртуки, висящие клочками.Бывало, только восемь бьет часов,По мостовой валит народ ученый.Кто ночь провел с лампадой средь трудов,Кто – в грязной луже, Вакхом упоенный,Но все равно задумчивы, без словТекут… Пришли, шумят… Профессор длинныйНапрасно входит, кланяяся чинно, —Он книгу взял, раскрыл, прочел… шумят;Уходит, – втрое хуже…
[Закрыть]. Насколько оживлены были тогда духовные интересы молодежи, – а ведь рядом с Лермонтовым на одной студенческой скамье сидели Белинский, Станкевич, Герцен, К. Аксаков и их друзья, – настолько, за весьма малыми исключеними, мертва была в то время речь преподавателей. Лермонтов, избегая близкого общения с товарищами, тем самым ставил себя и вне их умственных интересов.
Товарищам же бросалась в глаза его светская жизнь и тот круг блестящих барышень, в обществе которых он появлялся в театре и на балах. Внешний лоск молодого студента, сопоставленный с его нелюдимым поведением в аудитории, конечно, подавал повод обвинить его в высокомерии и гордыне.
Странным может показаться, однако, что, несмотря на видимое отчуждение от общей товарищеской жизни, Лермонтов принял участие в известном скандале, устроенном студентами профессору Малову. Но какую именно роль сыграл Лермонтов в этой университетской «истории», с точностью неизвестно.
Имеются также сведения, что Лермонтов ссорился с профессорами на экзаменах, а при тогдашних взглядах на субординацию такие стычки с начальством не могли, конечно, пройти даром. Отразились ли они непосредственно на положении Лермонтова в университете, неизвестно, но только в 1832 году мы застаем поэта в Петербурге со свидетельством от московского университета в том, что он прослушал двухлетний курс лекций и выбыл из числа слушателей.
IV
Московский период в жизни Лермонтова окончился, когда ему было восемнадцать лет. Чем мог поэт помянуть эти годы?
Жизнь текла однообразно, разделенная между семейными и светскими интересами, хождением в университет и домашними занятиями.
Семья и «свет» не могли наполнить его жизни. Для света Лермонтов был еще слишком молод, а в семье, несмотря на окружавшую его всеобщую любовь, положение его было не из легких.
Профессора давали мало пищи его уму, а шумная, но вместе с тем идейная жизнь товарищей не находила себе отклика.
Домашние занятия шли зато правильно и успешно; юноша быстро развивался, читал много, размышлял и наблюдал.
Недостаток внешних впечатлений вознаграждался, таким образом, для Лермонтова усиленной внутренней жизнью, тем анализом собственных чувств и мыслей, которому он всецело отдался. Плодом этого анализа была очень спешная и напряженная литературная работа. В этот именно короткий промежуток времени, с 1828 по 1832 год, Лермонтовым написаны все многочисленные его юношеские стихотворения, «Демон», «Измаил-бей», «Историческая повесть», несколько драм, поэм меньшого размера, набросков и отрывков.
В этих стихах и поэмах перед нами развертывается очень характерное миросозерцание совсем юного философа, стремящегося преодолеть необычайную трудность тех сложных этических проблем, на которые его наталкивала пока не столько сама жизнь, сколько раздумье о ней.
Юношеские стихотворения
I
Когда мы, ознакомившись с условиями, в которых протекало детство и юность Лермонтова, переходим к чтению его стихотворений, относящихся к этой эпохе, нас поражает в них несоответствие между поэтическим вымыслом автора и тем, что ему дала жизнь. Несложные и очень обыденные житейские явления не согласуются со сложным и совсем необычным духовным миром юного мечтателя.
Юношеские стихотворения Лермонтова затрагивают широкий круг вопросов и частного, и общего характера. Они частью скользят по ним, частью дают на них ответы. Соединяя эти разрозненные ответы в одно целое, мы получаем в итоге довольно своеобразную житейскую философию. Она иногда до того безотрадна и мрачна, до того нервна и подчас болезненна, что читатель, незнакомый с обстоятельствами жизни самого поэта, готов пожалеть гонимого, оскорбленного и несчастного человека, детские впечатления которого излились в таких скорбных и отчаянных песнях.
Но мы знаем, что Лермонтов не был ни гоним, ни несчастен, ни даже оскорблен. Он был от природы меланхолик, не по годам умен, очень впечатлителен и большой мечтатель – умен прежде всего, и, конечно, этот перевес ума, эта способность, не довольствуясь впечатлением, расчленять его и продолжать его в выводах, сыграла не последнюю роль в укреплении того печального взгляда на жизнь, с которым Лермонтов с детства сроднился. Ранний ум старит ребенка, и преждевременная утрата детской наивности вредно отражается на нем. Эта утрата может стать источником подозрительности и желчности, которая способна заставить человека думать, что природа его обидела, обошла на жизненном пиру, тогда как на самом деле она его слишком одарила.
Биографы поэта часто говорят об известном нам семейном разладе, о ранней смерти матери, о грустной затаенной привязанности ребенка к отцу, об опасной болезни Лермонтова в юности, о не совсем благоприятной его наружности, о его ранней любви, которая должна была разрешиться в тоскливое томление, – одним словом, о многих фактах, печаливших и сердивших поэта. Значения этих случайностей отрицать нельзя, они важны и могли иметь свое влияние на впечатлительную душу юноши, но они такое обыденное явление в жизни многих людей, что едва ли могут быть названы настоящей причиной того мрачного мировоззрения, которое открывается нам в юношеских стихах Лермонтова. И наконец, все эти огорчения искупались житейскими удобствами, заботливостью и теплой любовью, которой было окружено детство этого капризного ребенка.
Главный родник лермонтовского настроения заключается в самом душевном складе поэта, который дан был ему природой, предрасполагал его к ощущениям известного порядка, оберегал от других, и источников которого никто не уловит и не объяснит. Природа создала Лермонтова, по существу, меланхоликом и мечтателем, и мы можем только проследить, как на этот основной фон ложились временами более темные или более светлые краски.
Уже в юношеских стихах Лермонтова заметна одна черта, которая должна была усилить в нем его пристрастие к печальному. Это была ранняя склонность анализировать умом свои чувства и привычка восполнять мечтой недостаток живых впечатлений.
Лермонтов прожил свое детство и первые годы юности в кругу очень тесном. Интерес дня сосредоточивался на семейных мелочах; широкого общественного кругозора у людей, его окружавших, не было; вопросы литературы были вопросами книжными, а не живыми. Лермонтов читал, но не разговаривал с авторами. Читал он очень много; утверждают, что тринадцати лет от роду он знал уж почти всю русскую литературу и имел богатые сведения по литературам иностранным. Умственная жизнь юного поэта делилась, таким образом, на две неравные половины: с одной стороны, скудный и малоинтересный опыт житейский, с другой – богатый мир чувств и мыслей, вычитанных из книг. Строго разграничить эти два мира Лермонтов был, конечно, не в состоянии, но он был слишком большим мечтателем, чтобы не попытаться слить их: мелочи жизни он пригонял и приноравливал к тем сильным и картинно выраженным чувствам, с которыми он встречался в книгах. Отсюда вытекла его склонность преувеличивать собственные ощущения – привычка, не покидавшая его и в зрелые годы.
Наряду с этой привычкой восполнять мечтой недостаток житейского опыта и однообразие переживаемых ощущений поэт с самых юных лет сильно развивал в себе и другую склонность – расчленять разумом то, что он успевал схватить своим чувством. В сущности, разлад между действительностью и мечтой, разгоряченной чтением, был так велик, что многие неиспытанные чувства пришлось уяснять себе разумом; и многие испытанные ощущения добавлять тем же разумом, чтобы сделать их похожими на те, с которыми ум поэта успел уже освоиться по книгам. Эта способность оказала свое опасное влияние на развитие прирожденной поэту грусти.
Естественные и обыденные мысли и чувства, отданные во власть беспощадному анализу, могут привести человека к самым безотрадным и пессимистическим выводам, в особенности, если этот человек так юн, что не имеет за собой никакой жизненной опытности, никаких установившихся убеждений и, кроме того, по природе своей меланхолик. Так, например, чувство семейной горечи могло привести поэта к отрицанию всяких нравственных основ семейной жизни; чувство детской обманутой дружбы – к непризнанию в людях вообще каких бы то ни было благородных чувств: недовольство ребенком-женщиной – к целой теории женского коварства; смутное сомнение в своих силах – к бреду о собственном ничтожестве. Юношеские стихотворения Лермонтова дают нам разительный пример таких умозаключений, вытекавших из неизбежных мелких неудач и разочарований ежедневной жизни, замкнутой в себе и предоставленной на произвол логического анализа, лишенного всякой житейской опытности.
Меланхолический темперамент, однообразная и огражденная почти со всех сторон жизнь, раннее усиленное чтение, попытка привести это чтение в связь с тем, что удалось испытать на деле, и сильная склонность к рефлексии – вот те условия, при которых миросозерцание ребенка и юноши получило скорбную не по его летам окраску.
II
Прислушаемся к словам поэта. В своих юношеских стихах, в бесчисленных вариациях повторяет Лермонтов все одну и ту же песню об одиночестве, грусти и унынии. Иногда это простое признание в том, что «дух его страждет и грустит», что «уныния печать лежит на нем, потерявшем свои златые лета». «Отчаяния порыв» тогда охватывает его; он даже не может плакать и «страдает без всяких признаков страданья»; он – «воздушный одинокий царь» и «года, как сны, перед ним уходят».
Иногда это красивые поэтические сравнения. Поэт – как «постигнутый молнией лесной пень, который догорает, гаснет, теряет жизненный сок и не питает своих мертвых ветвей»; он «как пловец среди бури устремляет угасший взор на тучи и молчит, среди крика ужаса, моленья и скрипа снастей»:
…жалкий, грустный, я живу
Без дружбы, без надежд, без дум, без сил,
Бледней, чем луч бесчувственной луны,
Когда в окно скользит он вдоль стены.
[1830]
Его судьба, как «тот бледнеющий цветок, который в сырой тюрьме, между камней растет не для цветения, а для смерти». Он живет, как «камень меж камней, скупясь излить свои страдания»; он – «куст, растущий над морской бездной», «лист, оторванный грозой и плывущий по произволу странствующих вод». Зачем ему жизнь – ему, который «не создан для людей»?
Как в ночь звезды падучей пламень,
Не нужен в мире я.
Хоть сердце тяжело, как камень,
Но все под ним змея.
Меня спасало вдохновенье
От мелочных сует;
Но от своей души спасенья
И в самом счастье нет.
Молю о счастии, бывало,
Дождался наконец,
И тягостно мне счастье стало
Как для царя венец.
И все мечты отвергнув снова,
Остался я один —
Как замка мрачного, пустого
Ничтожный властелин.
[1830]
Любовная связь между ним и людьми порвана. В его сердце нет сострадания:
Хоть бегут по струнам моим звуки веселья,
Они не от сердца бегут;
Но в сердце разбитом есть тайная келья,
Где черные мысли живут.
Слеза по щеке огневая катится,
Она не из сердца идет.
Что в сердце, обманутом жизнью, хранится,
То в нем и умрет.
Не смейте искать в сей груди сожаленья,
Питомцы надежд золотых;
Когда я свои презираю мученья,
Что мне до страданий чужих?
[1831]
Да и за что любить людей? Лучше забыть их. Постараться —
Чтоб бытия земного звуки
Не замешались в песнь мою,
Чтоб лучшей жизни на краю
Не вспомнил я людей и муки,
Чтоб я не вспомнил этот свет,
Где носит всё печать проклятья,
Где полны ядом все объятья,
Где счастья без обмана нет.
[1831]
И что такое жизнь? – чаша обмана:
Мы пьем из чаши бытия
С закрытыми очами,
Златые омочив края
Своими же слезами;
Когда же перед смертью с глаз
Завязка упадает,
И все, что обольщало нас,
С завязкой исчезает;
Тогда мы видим, что пуста
Была златая чаша,
Что в ней напиток был – мечта.
И что она – не наша!
[1831]
Не лучше ли стать «уединенным жильцом шести досок» и протянуть дружественно руку смерти? «И ненавидя и любя, он был во всем обманут жизнью; пора уснуть, уснуть последним сном». Смерть – она не страшна; в ней покой и забвение, и прежде всего забвение людей:
Оборвана цепь жизни молодой,
Окончен путь, бил час – пора домой,
Пора туда, где будущего нет,
Ни прошлого, ни вечности, ни лет;
Где нет ни ожиданий, ни страстей,
Ни горьких слез, ни славы, ни честей,
Где вспоминанье спит глубоким сном,
И сердце в тесном доме гробовом
Не чувствует, что червь его грызет.
Пора. Устал я от земных забот…
Ужели захочу я жить опять,
Чтобы душой по-прежнему страдать
И столько же любить? Всесильный Бог,
Ты знал: я долее терпеть не мог;
Пускай меня обхватит целый ад,
Пусть буду мучиться, я рад, я рад,
Хотя бы вдвое против прошлых дней,
Но только дальше, дальше от людей!
[1830]
Наивен будет, конечно, тот биограф, который поверит этим словам и подумает, что юноша на самом деле готов был кончить счеты с жизнью. Но Лермонтов был искренен; и он был прав, когда писал:
Словам моим верить не станут,
Но клянуся в нелживости их:
Кто сам был так часто обманут,
Обмануть не захочет других.
[1831]
Он не обманывал, и все отчаянно грустные строфы в его песнях – правдивый отголосок одного неразрешенного, грозно нависшего вопроса: стоит ли любить людей и искать сближения с ними?
Этот вопрос получает более определенное решение в тех юношеских стихотворениях Лермонтова, в которых он говорит уже не о стоимости жизни вообще, а о ценности некоторых чувств, наиболее его возрасту доступных, – о ценности любви и дружбы.
III
В одном стихотворении поэт признается, что ввиду трудности задачи бытия он решился несколько упростить ее:
О, мой Отец! где ты? где мне найти
Твой гордый дух, бродящий в небесах;
В твой мир ведут столь разные пути,
Что избирать мешает тайный страх.
Есть рай небесный! звезды говорят;
Но где же? вот вопрос – и в нем-то яд;
Он сделал то, что в женском сердце я
Хотел сыскать отраду бытия.
[1831]
С этим обращением к женскому сердцу как спасительной пристани от всех мучительных вопросов мы переходим к новой черте лермонтовского характера, которая и усладила, и отравила ему впечатления его молодой жизни. Мы говорим о влюбчивости поэта.
Сам Лермонтов был очень откровенен в своих признаниях:
В ребячестве моем тоску любови знойной
Уж стал я понимать душою беспокойной;
На мягком ложе сна, не раз, во тьме ночной,
При свете трепетном лампады образной,
Воображением, предчувствием томимый,
Я предавал свой ум мечте непобедимой:
Я видел женский лик, он хладен был как лед,
И очи – этот взор в груди моей живет;
Как совесть, душу он хранит от преступлений;
Он след единственный младенческих видений.
И деву чудную любил я, как любить,
Не мог еще с тех пор, не стану, может быть.
[1830]
Я не могу любовь определить,
Но это страсть сильнейшая! – Любить
Необходимость мне, и я любил
Всем напряжением душевных сил…
… «О! когда б одно люблю
Из уст прекрасной мог подслушать я,
Тогда бы люди, даже жизнь моя
В однообразном северном краю,
Всё б в новый блеск оделось!»…
[1831]
Таких любовных признаний очень много в юношеских тетрадях поэта. Во всех, и веселых, и печальных, стихотворениях высказана одна и та же мысль – мысль о том, что единственным спасением и утешением в его страдальческой жизни была эта страсть, рано в нем проснувшаяся[4]4
Если верить Лермонтову, то он впервые влюбился, имея 10 лет от роду. Вот что он занес в свою тетрадку:
«1830 г. 8 июля. Ночь.
Кто мне поверит, что я знал уж любовь, имея 10 лет от роду? – Мы были большим семейством на водах Кавказских: бабушка, тетушки, кузины. – К моим кузинам приходила одна дама с дочерью, девочкой лет девяти. Я ее видел там. Я не помню, хороша собою была она или нет, но ее образ и теперь еще хранится в голове моей. Он мне любезен, сам не знаю почему. – Один раз, я помню, я вбежал в комнату. Она была тут и играла с кузиною в куклы: мое сердце затрепетало, ноги подкосились. Я тогда ни о чем еще не имел понятия, тем не менее это была страсть сильная, хотя ребяческая; это была истинная любовь; с тех пор я еще не любил так. О! сия минута первого беспокойства страстей до могилы будет терзать мой ум! И так рано!.. Надо мной смеялись и дразнили, ибо примечали волнение в лице. Я плакал потихоньку, без причины; желал ее видеть; а когда она приходила, я не хотел или стыдился войти в комнату. – Я не хотел говорить о ней и убегал, слыша ее название (теперь я забыл его), как бы страшась, чтоб биение сердца и дрожащий голос не объяснил другим тайну, непонятную для меня самого. – Я не знаю, кто была она, откуда, и поныне, мне неловко как-то спросить об этом: может быть, спросят и меня, как я помню, когда они позабыли; или тогда эти люди, внимая мой рассказ, подумают, что я брежу, не поверят ее существованию – это было бы мне больно!.. Белокурые волосы, голубые глаза, быстрые, непринужденность – нет, с тех пор я ничего подобного не видал, или это мне кажется, потому что я никогда так не любил, как в тот раз. Горы кавказские для меня священны… И так рано! в 10 лет. О, эта загадка, этот потерянный рай – до могилы будут терзать мой ум! Иногда мне странно – и я готов смеяться над этой страстью, но чаще – плакать. – Говорят (Байрон), что ранняя страсть означает душу, которая будет любить изящные искусства. – Я думаю, что в такой душе много музыки».
Лермонтов полюбил второй раз, когда ему было 12 лет. См. стихотворение «К гению» 1829 года.
[Закрыть] и дорогая ему, несмотря на все разочарования. Лермонтов был искренен, когда говорил о силе и благотворном влиянии этой страсти. Действительно, его рассудок, разлагавший все чувства, имел менее всего власти над этим чувством: сколько раз поэт считал себя обманутым в любви; сколько раз терял веру в ее постоянство, но в силу своей влюбчивой природы он всегда находился под ее обаянием. Он сам признавал, что для его всегда влюбленной души покой —
Лишь глас залетный херувима
Над сонной демонов толпой.
Но любовь неразрывно была сплетена в его сердце с печалью:
И отучить не мог меня обман;
Пустое сердце ныло без страстей,
И в глубине моих сердечных ран
Жила любовь, богиня юных дней;
Так в трещине развалин иногда
Береза вырастает молода
И зелена, и взоры веселит,
И украшает сумрачный гранит.
И о судьбе ее чужой пришлец
Жалеет. Беззащитно предана
Порыву бурь и зною, наконец,
Увянет преждевременно она;
Но с корнем не исторгнет никогда
Мою березу вихрь: она тверда;
Так лишь в разбитом сердце может страсть
Иметь неограниченную власть.
[1831]
В любви Лермонтов был мечтатель, также неисправимый. Влюбляться ему, конечно, приходилось пока в своих сверстниц; они подрастали, становились барышнями, он оставался мальчиком и мог играть при них только роль поверенного или шафера[5]5
Искреннее признание такого влюбленного мальчика сохранено в одном стихотворении:
Сон Я видел сон: прохладный гаснул день,От дома длинная ложилась тень,Луна, взойдя на небе голубом,Играла в стеклах радужным огнем;Всё было тихо, как луна и ночь,И ветр не мог дремоты превозмочь.И на большом крыльце меж двух колонн,Я видел деву: как последний сонДуши, на небо призванной, онаСидела тут пленительна, грустна;Хоть, может быть, притворная печальБлестела в этом взоре, но едва ль.Ее рука так трепетна была,И грудь ее младая так тепла;У ног ее (ребенок, может быть)Сидел… ах! рано начал он любить!Во цвете лет, с привязчивой душой,Зачем ты здесь, страдалец молодой?..И он сидел и с страхом руку жал,И глаз ее движенья провожал.И не прочел он в них судьбы завет,Мучение, заботы многих лет,Болезнь души, потоки горьких слез,Всё, что оставил, всё, что перенес;И дорожил он взглядом тех очей,Причиною погибели своей…[1830]
[Закрыть]. Эта роль, конечно, сердила и огорчала поэта, который вдобавок не мог убедить себя в том, что наружность его привлекательна. Он стал считать естественное развитие женских чувств черной изменой и обманом; увлекался по-прежнему, но не упускал случая при каждом новом любовном порыве нарисовать себе картину его печальных последствий. Вот почему в его любовных мотивах к гимну любви всегда примешивается печальная мелодия отвергнутого или обманутого сердца. Сколько нелестных эпитетов сказал он в своих стихах по адресу женщин! Он спрашивал, видел ли кто-нибудь женщин «благодарных»? Женщина и измена были для него часто синонимами; перед ним все мелькал лик неверной девы. Он испытал, «как изменять способны даже ангелы»; он состарился от первой любви, он грозил, что из гроба явится на мрачное свидание к изменнице; и много говорил он такого, что он позднее зачеркивал в своих тетрадях или отмечал словом «вздор». Но когда он писал эти строфы, он все это чувствовал, и иногда так глубоко, что чувство выливалось в настоящую художественную форму.
Как хорошо, например, стихотворение в прозе, озаглавленное «Солнце осени»:
Люблю я солнце осени, когда,
Меж тучек и туманов пробираясь,
Оно кидает бледный, мертвый луч
На дерево, колеблемое ветром,
И на сырую степь. Люблю я солнце,
Есть что-то схожее в прощальном взгляде
Великого светила с тайной грустью
Обманутой любви; не холодней
Оно само собою, но природа
И всё, что может чувствовать и видеть,
Не могут быть согреты им. Так точно
И сердце: в нем всё жив огонь, но люди
Его понять однажды не умели,
И он в глазах блеснуть не должен вновь,
И до ланит он вечно не коснется.
Зачем вторично сердцу подвергать
Себя насмешкам и словам сомненья?
[1831]
Или эта покорная жалоба непризнанной любви:
Сонет
Я памятью живу с увядшими мечтами,
Виденья прежних лет толпятся предо мной,
И образ твой меж них, как месяц в час ночной
Между бродящими блистает облаками.
Мне тягостно твое владычество порой;
Твоей улыбкою, волшебными глазами
Порабощен мой дух и скован, как цепями.
Что ж пользы для меня? – я не любим тобой,
Я знаю, ты любовь мою не презираешь,
Но холодно ее молениям внимаешь.
Так мраморный кумир на берегу морском
Стоит, – у ног его волна кипит, клокочет,
А он, бесчувственным исполнен божеством,
Не внемлет, хоть ее отталкивать не хочет.
[1831]
Все помнят, конечно, и знаменитое стихотворение «Нищий»:
У врат обители святой
Стоял просящий подаянья
Бессильный, бледный и худой
От глада, жажды и страданья.
Куска лишь хлеба он просил,
И взор являл живую муку,
И кто-то камень положил
В его протянутую руку.
Так я молил твоей любви
С слезами горькими, с тоскою;
Так чувства лучшие мои
Обмануты навек тобою!
[1830]
Но пусть суровый ум умерял восторг любви печальным раздумьем; при всей своей меланхолии поэт никогда не мог сказать, что он в любви разочаровался и стал ей недоступен. Он был слишком доступен ей и, зная свою слабость, защищался притворным хладнокровием и презрением. Забыть своей любви он не мог и говорил:
Я не люблю тебя; страстей
И мук умчался прежний сон;
Но образ твой в душе моей
Всё жив, хотя бессилен он.
Другим предавшися мечтам,
Я все забыть его не мог;
Так храм оставленный – всё храм,
Кумир поверженный – всё Бог!
[1830]
И этому Богу любви, не только торжествующему, но и низложенному, он в юные годы чаще всего молился.
Нельзя сказать, однако, что эта молитва мирила поэта с людьми. И в ней звучал вопрос – да стоит ли любить, когда столько страданий сопряжено с этой радостью? А за этим вопросом следовал другой – почему люди бывают так неискренни и жестоки, и если они таковы, то не лучше ли от них отвернуться? Даже если они отвечают любовью на любовь, то и тогда не предпочесть ли одиночество?
И Лермонтов как будто следовал этому правилу, если не в любви к женщине, то в чувстве дружбы.
В годы, когда зрел талант Лермонтова, культ дружбы и в жизни, и в стихах был особенно развит. Но в стихотворениях нашего молодого пессимиста таких мотивов почти совсем нет; есть два-три стихотворения, в которых он прощается с чувством дружбы, и лишь одно, в котором он ее приветствует.
Кажется, что и на самом деле у него в те годы близких друзей-сверстников не было… Это очень характерно. Итак, анализ ума коснулся и этих двух чувств, столь естественных и столь наивных в юношеском возрасте. Любовь и дружба вместо того, чтобы отвечать на запросы ума и сердца, как это обыкновенно в юности бывает, сами ставили молодому философу труднейший вопрос о своем нравственном оправдании.








