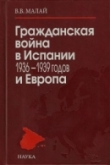Текст книги "Вельяминовы. Время бури. Книга первая"
Автор книги: Нелли Шульман
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 31 страниц) [доступный отрывок для чтения: 12 страниц]
Интерлюдия
Варшава, лето 1936 года
Над столиками кабаре висел папиросный дым, оркестр наигрывал какую-то джазовую песенку. В полутьме пахло духами, вином. По стенам развесили афиши еврейских мюзиклов. Мужчина в хорошем, летнем льняном костюме, пожевал сигару:
– Три миллиона евреев в Польше. Театры, радио, кино, книги, газеты, кабаре. Словно в Нью-Йорке, золотой век, – он наклонился к своему спутнику:
– Яблоку упасть некуда. Или это потому, что вы здесь, мистер Джордж? – он подмигнул. Пан Ежи Петербургский ставил автограф на афишке. Он убрал ручку:
– Сегодня исполняют мою новую песню, пан Гарри. Я хотел, чтобы вы посмотрели на певицу. Танго на польском, – он подмигнул американцу, – мне кажется, вы не забыли язык.
Гарри Сандерс, один из вице-президентов Метро-Голдвин-Майер, закатил глаза. Сойдя на землю Америки, на острове Эллис, его отец, первым делом поменял фамилию, и дал детям английские имена. Сандерс родился Гиршем-Цви Сандлером, в Познани. Он отлично говорил и на идиш, и на польском, и на немецком языке.
Поездка в Европу шла отлично. Французы и немцы, с удовольствием, закупали голливудские фильмы. В Польше, Сандерс тоже провел удачные переговоры. Он отплывал в Америку из Бремена, с подписанными контрактами в кармане. Босс, Луис Майер, должен был остаться доволен.
Сандерс никогда еще не навещал Берлин. Город ему понравился. Столица готовилась к Олимпиаде, блистала новыми, только что законченными зданиями, низкими, дорогими автомобилями, широкими дорогами. Сандерса повезли на киностудию в Бабельсберге. Техническое оснащение Universum Film AG было отменным. Они ходили по павильонам, знакомились с режиссерами и актерами. Сандерс пытался не слышать ядовитый голос Фрица Ланга, звеневший у него в голове:
– Я еле выбрался из Германии, как человек еврейского происхождения, а сейчас Майер и Сандлер собираются продавать нацистам американские картины.
– Фриц, – успокаивающе заметил Сандерс, – они хорошо платят. Твои фильмы они все равно не купят, поверь мне. Ты художник, занимайся своим делом, а бизнес оставь продюсерам, – «Ярость», первый голливудский фильм Ланга, только что появился на экранах. Картина обещала стать хитом, как они говорили, нынешнего года.
– Не надо его обижать, – напомнил себе Сандерс, – они все не от мира сего. Даже Чаплин, даже Дитрих, даже Роксанна Горр. Ланг нужен, он приносит деньги. Не спорь с ним.
Сандерс взглянул на освещенную прожекторами, пустую сцену кабаре. Бархатный занавес раздвинули. Перед отъездом Сандерс обедал у Роксанны Горр, на ее огромной вилле. Дом в испанском, колониальном стиле выходил на океан. Вокруг бассейна мерцали свечи, официанты разносили хрустальные бокалы с «Вдовой Клико».
Приехали Чаплин с Полетт Годдар, Марлен Дитрих, подруга дивы. Чаплин рассказал, что думает над сценарием комедии о Гитлере:
– Его тупость остается только высмеивать, Роксанна. Юмор убивает зло.
Выпрямив красивую спину, закинув ногу на ногу, Роксанна покуривала сигарету в серебряном мундштуке. Большие, серо-голубые глаза опасно заблестели. Темные волосы дива небрежно уложила на затылке. Подол шелкового, вечернего платья, цвета глубокой лазури, от Эльзы Скиапарелли, раздувался океанским ветром.
– Говорят, она не носит Шанель, – вспомнил Сандерс, – потому что Коко не нанимает еврейских манекенщиц.
Роксанна не держала дома вещей, произведенных в Германии. Дива не посещала приемы в немецком консульстве. В прошлом году, на церемонии вручения Оскара, она прилюдно отказалась пожимать руку послу рейха. Продюсер помнил знаменитый, низкий, немного хрипловатый голос: «Я родилась Ривкой Горовиц. Я не хочу касаться нациста, даже кончиком пальца».
– Ты прав, Чарли, – неожиданно согласилась Роксанна.
– Однако, поверь мне, – она отпила шампанского, – рано или поздно юмора окажется недостаточно. В Германии заполыхали костры, как во времена инквизиции. Мои предки тоже на них всходили, – накрашенные губы искривились, – в незапамятные времена, за то, что отказывались креститься. Если мы промолчим, то же самое, произойдет и в Берлине, – она резко ткнула сигаретой в мраморную пепельницу. «Евреи, ведущие дела с нацистами, – дива, со значением, взглянула на Майера и Сандерса, – по крайней мере, обязаны помочь своим братьям в беде».
Майер, неуверенно потер лысину:
– Но, Роксанна, все в безопасности. Марлен здесь, хоть она и не еврейка, Ланг здесь. В Швейцарии Ремарк, Цвейг в Англии, Брехт в Дании. Фрейд в Австрии, в конце концов, хоть он и не артист, – пожал плечами президент студии.
– А остальные? – ядовито поинтересовалась Роксанна, щелкнув пальцами: «Филипп, принеси письмо от моего племянника».
Четвертый муж Роксанны, красавец-француз, на двадцать лет ее младше, игравший героя-любовника в последнем фильме дивы, послушно отправился за конвертом.
– Мой племянник, – сообщила Роксанна, – раввин Горовиц, мог бы остаться здесь, работать в богатой общине, где-нибудь на Лонг-Айленде. Однако он поехал в Берлин, помогать тамошним евреям.
– Дорогая тетя, – начала Роксанна, – как раввин, я не могу ходить в кабаре, но, даже если бы и мог, то все равно, было бы некуда. Еврейским артистам запрещено выступать перед арийской аудиторией, будь то театр, фильм, или даже симфонический концерт. Из берлинской оперы уволили всех музыкантов-евреев. Зрители неарийского происхождения не могут посещать кинотеатры и театры для арийцев. У евреев осталось несколько частных театров и кабаре, но денег на билеты у людей нет, многие остались без работы. Музыканты, актеры и певцы выживают, кто, как может…, – Роксанна гневно сказала:
– Наш долг им помочь, господа. Мой племянник не разбирается в искусстве, поэтому я, лично, отправлюсь в Германию, и устрою прослушивания. Сделаю вид, что хочу посетить Олимпиаду, – Роксанна тонко улыбнулась.
– Ты, Луис, – она взглянула на Майера, – поедешь в столицу, поговоришь с конгрессменами. Нужна отдельная квота на визы, для артистов…, – Сандерс покашлял:
– Роксанна, я не сомневаюсь, что они талантливые люди, однако они не знают английского языка…
– Я выучила, – резко заметила Марлен Дитрих.
– И Фриц Ланг выучил. И они выучат, не беспокойтесь…, – она взяла руку Роксанны: «Спасибо тебе».
Дива подняла ухоженную бровь: «Просто мой долг, как еврейки, и как артистки».
– И ведь она поехала, с мужем, – почти восхищенно подумал Сандерс, отпивая вино.
Перед отплытием в Германию, Роксанна успела выступить на двух ралли в Лос-Анджелесе, в поддержку еврейских поселений в Палестине. Весь Голливуд знал, что Роксанна, каждый год, перечисляет большие деньги Еврейскому Национальному Фонду. Сандерс вспомнил флаги сионистов, огромный, забитый людьми бальный зал отеля «Билтмор». Роксанна, в роскошном, цвета слоновой кости платье, пела «Атикву», с оркестром.
Музыканты закончили мелодию. Конферансье, весело сказал, на идиш:
– Дамы и господа, наша несравненная, пани Анеля Голд, самая красивая девушка Польши!
Пан Ежи Петербургский усмехнулся:
– Она в прошлом году получила корону, на конкурсе мисс Полония. Она Гольдшмидт, на самом деле. Пан доктор ей свою фамилию дал, как многим сиротам.
Паном доктором в Варшаве называли Генрика Гольдшмидта, директора еврейского детского дома, на Крохмальной улице.
– Восемнадцать лет ей, – шепнул пан Ежи, – она снялась, в двух фильмах, на идиш.
Аудитория замерла, Сандерс, невольно, сглотнул. Низкий, страстный, немного хрипловатый голос запел:
– Teraz nie pora szukać wymówek
fakt, że skończyło się…
На сцену вышла Роксанна Горр, только, подумал Сандерс, на сорок лет моложе.
– И выше, – прикинул он, – она пять футов десять дюймов, кажется. Даже без каблуков.
Она сколола в узел темные, тяжелые волосы. Серо-голубые глаза сверкали, переливались в свете прожекторов. Щеки, цвета смуглого, нежного персика, разрумянились. Зрители, казалось, забыли, как дышать. Он смотрел на стройную шею, на узкий, с горбинкой нос, на четкий очерк упрямого подбородка.
To ostatnia niedziela
dzisiaj się rozstaniemy,
dzisiaj się rozejdziemy
na wieczny czas….
Кабаре взревело. Поклонившись, пани Голд звонко сказала: «Аплодисменты пану Ежи, господа, автору танго!» Она подмигнула аудитории: «Сейчас потанцуем!». Пани Анеля убежала за кулисы. Сандерс хмыкнул:
– Английского она, конечно, не знает. Правильно Марлен говорила, выучит. Восемнадцать лет, цветок в росе. Она отлично держится на сцене. Надо найти ее фильмы. Наверняка, она и перед камерой хорошо работает. Мы из нее сделаем новую Гарбо, обещаю…, – Подняв голову, Сандерс открыл рот. Он сам был таким мальчишкой, в Познани, в старом, с отцовского плеча костюме, в большой, съезжающей на затылок, кепке, в растоптанных ботинках. Пани Анеля, приплясывала, звенела скрипка.
Зал взорвался. Сандерс успел подумать: «Она и в комедиях будет отлично смотреться, как Полетт…»
Az der Rebbe Elimeylekh
Iz gevorn zeyer freylekh,
Iz gevorn zeyer freylekh, Elimeylekh…., —
Усидеть на месте было невозможно. Оставив пиджак на спинке стула, он вспомнил бар-мицвы в Нижнем Ист-Сайде, и танцы, с другими мальчишками. Сандерс, тяжело дыша, вернулся за столик. Пани Анеля крикнула: «Нахес, иден!». Пан Ежи, добродушно заметил: «Понравилась вам пани Голд».
Сандерс, мысленно подбирая ей подходящий псевдоним, вытирая пот со лба, кивнул. Пан Ежи развел руками:
– Пани Анеля нас покидает. Уезжает в Париж, на следующей неделе. Кабаре просто, – композитор указал на сцену, – увлечение. Пани Анеля заведует швейной мастерской, на Крохмальной, в детском доме. Она послала свои эскизы в ателье мадам Скиапарелли, и ее взяли ассистенткой. Пан Ежи поднял бокал: «Скорее, мы услышим о модном доме Голд».
– Не страшно, – сказал себе Сандерс.
– Даже хорошо. Французы не слепые, они ее не пропустят. Она выучит язык, приобретет знакомства. Потом ей придется платить больший оклад, как звезде, но Марлен тоже себе имя в Германии заработала. Так и сделаем. Подождем, года два, и найдем мадемуазель Аннет, – он занес имя девушки в блокнот: «Шампанского, пан Ежи. Я угощаю».
В уборной, Анелю, как обычно, ждали букеты и конверты. Цветы она забирала для своих малышек, на Крохмальной. Письма, пробежав несколько строк, девушка выкидывала. Ей приходили приглашения на обеды от еврейских и польских промышленников, адвокатов и даже депутатов Сейма. Анелю звали в Закопане, или на морское побережье, обещали снять квартиру на Маршалковской и повезти в Париж.
– Я и еду в Париж, – умывшись, девушка быстро переоделась в костюм своего кроя, из серо-голубого, тонкого льна.
На Крохмальной, работникам детского дома, позволяли носить любую одежду. Доктор Гольдшмидт вздыхал: «Хватает и того, что дети в форменных костюмах ходят». Анеля выросла в необычном детском доме. Они издавали газету и журналы, играли в театре.
Пятилетней малышкой, Анеля впервые оказалась на сцене. До этого времени все думали, что девочка онемела. Она плохо помнила раннее детство. Пан доктор сказал, что, первые три года, в Варшаве, она только повторяла свое имя, на разные лады: «Хана. Ханеле». Однако спектакль Анеля, до сих пор, помнила отлично. Репетировали ханукальное представление. На сцене стояли греки и евреи, зажигались светильники, пели гимн: «Ма оз цур».
Анеля забралась на задние ряды, ее никто не заметил. Она следила за репетицией, широко открытыми глазами. Услышав что-то знакомое, девочка вспомнила низкий, красивый голос, огоньки свечей, блестящий, белый снег за окном. Она ощутила крепкие, теплые руки, положила голову на его плечо.
– Ханука, Ханеле…, – ее покачали. Девочка протянула ручку к огонькам: «Ханука, тате!». До нее донеслась песня. Анеля, в первый раз за три года, улыбнулась. Уверенно встав, она пошла к сцене.
Девочка быстро начала болтать, на польском языке и на идиш. Доктор Гольдшмидт, к тому времени собрал несколько консилиумов, приглашая педиатров из Берлина, и даже учеников доктора Фрейда, из Вены. Анализировать ребенка, было бесполезно. Кое-кто предложил подвергнуть ее гипнозу. Пан Генрик, резко отозвался:
– Я запрещаю. Это опасная, сомнительная практика. В ее случае, после всего, что она перенесла, она просто может не очнуться.
Когда девочку привезли в Варшаву, ей, на вид, было около двух лет. Весила она меньше годовалого ребенка, и кишела вшами. Малышка ползала на четвереньках, раскачиваясь, подражая, как поняли врачи, животным. Ее нашли польские крестьяне, в конце лета двадцатого года, в глухом лесу, под Белостоком. Окрестности города недавно оставила армия Советов, под командованием Тухачевского, с конницей Буденного и Горского.
Местечки лежали в руинах. Сиротские дома в Белостоке наполняли потерявшие родителей дети. Девочка могла сказать только свое имя, Хана. По ночам она не спала, забираясь под кровать, жалобно крича, словно зверек. Пан Генрик сидел с ней, укачивая ребенка, напевая колыбельные. После двух операций, врачи обещали доктору Гольдшмидту, что Хана никогда не узнает о случившемся.
– В таком возрасте, – профессор смотрел на маленькую, хрупкую фигурку на кровати, – девочки обычно умирают, после подобного. Внутренние разрывы, кровотечение. Ей посчастливилось. Она, видимо, вырвалась, успела убежать. Повреждения были только внешними. Мы все привели в порядок.
В палате было тихо, ребенок лежал под наркозом. Пан Генрик погладил девочку по темноволосой голове. Ресницы дрогнули, она что-то прошептала.
– Хана, – улыбнулся доктор Гольдшмидт, – Ханеле. Все будет хорошо, милая.
Хана ни о чем не подозревала. Девочка знала, что она сирота, однако на Крохмальной все были сиротами. Пан Генрик сказал, что ее нашли под Белостоком, а больше, как объяснил доктор, им ничего известно не было. Она, иногда, просыпалась, слыша ласковый, женский голос, стрекот швейной машинки. Пахло чем-то сладким, ее касались, мягкие руки. Это была мамочка.
– Маме, – Анеля натягивала на себя одеяло, – мамеле.
Ни у кого из них не было родителей, но Анелю, многие, считали счастливой. Она была слишком маленькой, и ничего не помнила. На Крохмальной жили дети, видевшие, как убили их отцов и матерей.
Собрав цветы, попрощавшись со служителем у артистического входа в кабаре, девушка выглянула наружу. Прошел быстрый, летний дождь, в лужах отражались крупные звезды. Крохмальная была за углом, Анеля всегда ходила пешком. Она посмотрела на освещенные окна. В кабаре еще играл оркестр, танцевали пары. Анеля помотала головой:
– Все потом. Мне надо создать себе имя, открыть мастерскую…, – учителя, в детском доме, хвалили ее за серьезность и сосредоточенность. У нее были отличные способности, Анеля свободно говорила на французском языке. Когда детей водили в художественный музей, девочка зарисовывала картины. Пан Генрик пригласил к ней преподавателя из академии. У Анели оказался верный глаз и чувство пропорции. Девочка рисовала каждый день, чтобы набить руку. Дети занимались в швейной мастерской, Анеля стала делать эскизы платьев и шляпок. Голос у нее тоже оказался отменный. Пан Гольдшмидт, было, предложил Анеле поступить в консерваторию. Девочка отказалась:
– Я хочу стать модельером, пан доктор. Как мадам Скиапарелли, – покупая женские журналы, Анеля внимательно изучала крой платьев. Девочка легко повторяла модели, в мастерской. Она шила и по своим эскизам.
Для Парижа требовались деньги. С шестнадцати лет Анеля пела в кабаре. Ее заметил продюсер, с киностудии, где производили фильмы на идиш. Девушка сыграла две роли, маленькие, но со словами, танцами и песнями. Анелю даже похвалили в еврейских газетах. Деньги она аккуратно откладывала, отдавая часть заработков в детский дом. Пану доктору всегда нужны были средства, сирот меньше не становилось. Она не выступала в шабат, всегда зажигала свечи и клала монеты в копилку, для Еврейского Национального Фонда.
Корона мисс Полонии тоже принесла злотые. Анеля отправилась на конкурс ради смеха. Ее подговорили девчонки из швейной мастерской. Девушка легко прошла все этапы, и стала одной из десяти финалисток. Еврейские газеты в Польше пестрили фотографиями: «Сирота с Крохмальной, королева красоты».
Анеля спала в маленькой комнатке, увешанной рисунками, учила девочек шитью, и раздавала еду в столовой. Весной этого года, скопив достаточно денег на билет до Парижа, она послала мадам Скиапарелли свои альбомы.
Анеля позвонила у дверей детского дома. Сторож впустил ее, усмехнувшись:
– Девчонки не спят. Цветов ждут, как обычно.
На третьем этаже крыла, где размещались девочки, пахло пудрой и духами. Поднявшись наверх, Анеля возмутилась: «Первый час ночи идет, куда это годится!». Девчонки, в ночных рубашках, сидели кружком на старом ковре общей гостиной. Облепив Анелю, они разобрали цветы.
– Что с вами делать, – вздохнула девушка, – и корону принесу.
Корону мисс Полонии примерила каждая девочка в детском доме, даже совсем малышки. Анеля сидела с девчонками, расчесывая косы, напевая новое танго пана Ежи. Кто-то из девочек прижался к ней:
– Жалко, что ты уезжаешь, Хана. Но все равно, ты словно принцесса, что жила в заточении…, – Анеля рассмеялась, скалывая волосы шпильками на затылке:
– Обычно за принцессой приезжает прекрасный принц, на белом коне, а я еду в Гдыню, в вагоне третьего класса, и плыву в Гавр, почти в трюме.
Через Данциг Анеля отправляться не хотела, хотя из тамошнего порта кораблей ходило больше. Они знали, что происходит в Германии. Некоторые евреи, уехавшие из рейха, получали польские визы, и обосновывались в Варшаве. Здесь были еврейские школы, театры, газеты, радиостанции. Немецкие евреи говорили о запрете на профессии, о том, что им не разрешается вступать в браки с немцами. Нацисты могли арестовать тебя даже за связь вне брака.
Анеля, иногда, мимолетно, думала о юношах. Обучение на Крохмальной было совместным, она привыкла к мальчикам с детства. Ничего особо интересного в них Анеля не находила. В любом случае, мужскую одежду, всегда шили мужчины. Она отменно кроила и пиджаки с брюками, но предпочитала дамские платья.
– Вовсе я не жила в заточении, – твердо сказала Анеля, окинув взглядом стены гостиной, – я буду очень скучать по нашей Крохмальной, и по всем вам, мои дорогие!
Пан доктор гордился успехами выпускников. На стенах гостиной преподаватели вешали вырезки из газет, местных и палестинских. Многие юноши и девушки уезжали на Святую Землю. Анеля нашла глазами объявление. Завтра, в зале еврейской гимназии, выступал посланец из Палестины, Авраам Судаков. Она подогнала девочек:
– Давайте спать. Завтра уборка, а потом, – Анеля указала на афишу, – послушаем о кибуцах. Споем «Атикву», все вместе…
Раввины запрещали женское пение, однако пан доктор не был религиозным человеком. Гольдшмидт считал, что девочки могут изучать музыку и выступать на сцене. Анеля даже носила брюки, собственного кроя, но не на улице. В Варшаве новая мода пока не прижилась, хотя в Голливуде брюки надевали и Марлен Дитрих, и другие дивы.
Она проследила, как укладываются девочки. У себя в комнате, Анеля растворила ставни, присев на подоконник. Внизу шуршали шины автомобилей. Анеля полюбовалась большой, яркой луной, поднявшейся над Варшавой. Между листами блокнота она вложила польский паспорт, билеты, и письмо. Его Анеля перечитывала каждый день:
– Дорогая мадемуазель Гольдшмидт! Я могу предложить вам должность ассистентки, в моем ателье, на полный рабочий день…, – Анеля послала мадам Скиапарелли свои фото, в собственноручно сшитых платьях. Модельер написала, что мадемуазель Гольдшмидт должна демонстрировать модели ее студии.
Анеля купила путеводитель по Парижу, с картой. Она отметила адреса ателье мадам, крупных парижских магазинов и Лувра. Анеля обвела карандашом Монмартр и Монпарнас, где жило много художников. В Латинском квартале, сдавались дешевые комнаты. Она собиралась подрабатывать натурщицей. Анеля знала, что в ателье начнет с раскроя и обметки петель, но ее это не пугало. Ее вообще ничего не пугало. Захлопнув блокнот, она замерла. Внизу послышался стук копыт.
– Пролетка, – сказала себе Анеля, – или телега. Ничего страшного.
Анеля заставила себя умыться и лечь в кровать. Она заснула, едва ее голова коснулась подушки. Девушка ворочалась, что-то бормотала. На половицах комнаты лежала дорожка лунного света, ветер шевелил простую, холщовую занавеску. Темно-красные, изящно вырезанные губы задвигались.
– Александр, – внезапно, прошептала Анеля, – Александр.
Большой зал еврейской гимназии украсили флагами, на стене висела нарисованная детьми карта Палестины. Приезжая в Европу, Авраам выступал на немецком, в Праге и Вене. Он отлично знал язык, хотя в семье Авраама говорили только на иврите. Покойный Бенцион Судаков наотрез отказывался, живя на земле Израиля, произнести хотя бы слово на другом языке. Мать Авраама приехала в Палестину из Польши.
– Папа за ней начал ухаживать, – смешливо подумал Авраам, – а мама тогда на иврите едва ли десяток слов знала. Но договорились как-то, – мать научила Авраама идиш и польскому языку. Работая в библиотеке Ватикана, Авраам пользовался итальянским языком. В Риме его называли доктором Судаковым. Для него, такое обращение было еще непривычно. Авраам защитил диссертацию в прошлом году. Его приглашали остаться на кафедре, в Еврейском Университете, но Авраам взял себе один курс, разведя руками:
– Сами понимаете, в кибуце много работы.
В Риме Авраам жил в скромной комнатке, рядом с Ватиканом. Он много времени проводил в библиотеке, но успел выступить перед местной общиной. Евреи Италии никуда уезжать не собирались, многие вступили в фашистскую партию. В отличие от Гитлера, дуче заявлял, что итальянские евреи, такие же итальянцы, как и все остальные.
– Это ненадолго, – заметил Авраам, гуляя по Риму с Карло Леви, – увидишь. Ты в Париж отправляешься, а лучше бы, – Авраам остановился, – в Палестину. Ты еврей.
Они с Карло познакомились на выступлении Авраама, в римской синагоге. Леви, создавшего антифашистскую группу «Справедливость и свобода», сначала держали в тюрьме, а потом сослали в глушь, на юг Италии. Он был освобожден, по амнистии, и собирался обосноваться во Франции.
Они стояли на берегу Тибра, любуясь замком Святого Ангела. Коричневая вода подбиралась к опорам моста. Лето, даже здесь, было дождливым.
Карло щелчком выбросил папиросу в реку:
– Еврей, Авраам. Однако я, прежде всего, антифашист. Моя обязанность, сражаться с нацистами, с дуче…, – Карло указал, на фашистские штандарты, украшавшие мост.
– Например, в Испании, – прибавил он, – потому что именно там все начнется. Ты бы мог туда поехать, – он посмотрел на Авраама, – ты отлично стреляешь…, – Авраам пожал широкими плечами:
– Это не моя война, Карло. Я не коммунист, и даже не социалист. Мне важнее, чтобы Израиль обрел независимость от британцев, чтобы арабы убрались с нашей земли…, – Карло, было, открыл рот, однако напомнил себе: «Не надо. Его родителей арабы убили. И когда все только закончится?»
Вслух, он сказал:
– Как знаешь. Евреи, все равно, не должны пачкать себя сотрудничеством с нацистами, даже ради обретения собственного государства. А здесь…, – Карло присвистнул, – здесь случится то же самое, что и в Германии, обещаю. Тем более, если папа будет молчать. Итальянцы слушают его святейшество.
Пока что, папа Пий воздерживался от осуждения нацизма. Ходили слухи, что в Германии арестовывают католических священников, высказывающихся против расовой политики Гитлера. В Ватикане знали, что Авраам еврей, однако он занимался среди ученых, пусть и монахов со священниками. За папиросами и кофе, в обеденный перерыв, они предпочитали обсуждать средневековье, а не политику Гитлера, или Муссолини.
– В средневековье случилось то же самое, ничего нового, – мрачно подумал Авраам: «И во времена римлян, и вообще…». Он вспомнил неожиданно веселый голос Карло Леви. Они рассматривали стены Колизея, увешанные фашистскими знаменами.
– Говорят, – приятель кивнул на здание, – у императора Тита была любовница, еврейка. Не Береника, еще одна. У них даже сын родился. Тит ее из Иерусалима привез, после разрушения Храма.
– Такое никак не проверить, – усмехнулся Авраам.
Оглядывая зал, он отчего-то вспомнил римский разговор. Людей пришло много. Авраам, с удовлетворением, думал, что и в Праге, и в Вене, он уговорил кое-какую молодежь отправиться в Палестину. Несмотря на его настойчивость, это было непросто. Евреи в Австрии и Чехословакии не страдали от ограничений на профессии, или от антисемитизма, как в Германии.
Выступая, Авраам объяснял, что земля Израиля меняется. В Иерусалиме и Хайфе открыли университеты, появились театры, кино, и даже консерватория. По приезду, ему надо было забрать Циону из кибуца. Племянница отправлялась в школу при Еврейском Университете, где устроили интернат, для одаренных детей. Авраам вздохнул:
– Ционе переезд не понравится. Но госпожа Куперштейн говорит, что ей надо серьезно заниматься музыкой. В кибуце такое невозможно. Конечно, с ее дедом…, – покойная тетя Шуламит, всегда держала фото отца Амихая на фортепьяно. Официально считалось, что она училась у Малера. В семье об этом не говорили. Бенцион, после смерти сестры, заметил сыну:
– Она из Вены уехала потому, что Малер на другой женщине женился. Ей предлагали контракты в Нью-Йорке, в Париже. В то время она считалась одной из самых одаренных пианисток Европы.
Госпожа Куперштейн ничего не знала о деде девочки, но говорила, что у Ционы редкий исполнительский талант.
– Придется ее переупрямить, – решил Авраам. Раздались аплодисменты, он начал говорить. Здесь, в Польше, он выступал на идиш. Рассказывая о жизни в кибуцах, он всегда упоминал, что города, Иерусалим, Тель-Авив и Хайфа, постепенно становятся все более современными.
Авраам вырос в деревне, но любил, подростком, гостить у тети Шуламит, в Тель-Авиве. Тетя жила в Неве Цедек, по соседству с домом писателя Агнона. В ее салоне собирались журналисты, музыканты, ученые. В ее гостиной Авраам познакомился с Давидом Бен-Гурионом. Кузен Амихай тоже учился в Венской консерватории, и встретил будущую жену в Австрии. Девушка приехала вслед за ним в Палестину. В салоне тети Шуламит говорили на иврите, но часто переходили на французский и немецкий языки. Отец Авраама саркастически, замечал: «Интеллектуалы должны присоединиться к нам, и обрабатывать землю, а не писать в газетах».
– Ты сам интеллектуал, папа, – весело отзывался подросток. Бенцион отмахивался:
– С тех пор, как мы основали кибуц, с философией покончено. Нужны трактористы и солдаты, а не философы.
– Папа был неправ, – понял Авраам: «Нужны все, не только рабочие и солдаты. Нужен каждый еврей». Он говорил, что для Израиля ценен любой человек, говорил о газетах и театрах, об архитектуре и музыке, о школах и университетах. Авраам заметил детей и подростков, одетых в форму:
– Ребята мне рассказывали. Они из сиротского дома, на Крохмальной. С ними учительница пришла. Но какая красавица…, – высокая, тонкая девушка, в светлом, летнем костюме, при шляпке, сидела рядом с малышами. Авраам, невольно, улыбнулся, глядя на стройную шею, на темные волосы, спускавшиеся на плечи. Спели «Атикву». Авраам слышал ее голос, низкий, мелодичный. Начали задавать вопросы, на столах готовили кофе и чай, а он все следил глазами за девушкой. Она, вместе с детьми, занималась устройством ярмарки. Ученики принесли сюда поделки, и продавали их в пользу Еврейского Национального Фонда. Авраам пообещал себе, что непременно, к ней подойдет.
– Я просто хочу поговорить, – он понял, что краснеет, – узнать, как ее зовут…
Приезжая в Тель-Авив, или в другие кибуцы, он никогда не стеснялся знакомиться с девушками. Они в Палестине были другими, особенно те, что тоже родились в стране. Дома все было легко, а здесь в диаспоре, люди вели себя иначе.
– Она, может быть, помолвлена, – угрюмо напомнил себе юноша. Авраам разозлился: «Подойдешь к ней, и все узнаешь».
Девушка его опередила. Он услышал веселый голос:
– Господин Судаков, где вам шили костюм? В Палестине? Меня зовут Хана. Хана Гольдшмидт…,– она протянула Аврааму тонкую руку, юноша, осторожно, ее пожал. У нее, неожиданно, оказались жесткие кончики пальцев. Авраам подумал: «Наверное, тоже музыкой занимается».
Анеля, из-под ресниц, посмотрела на него:
– Какой высокий. И рыжий, как огонь. А глаза серые. У нас я таких юношей и не видела…, – он держал ее руку. Анеля услышала стук копыт лошадей, скрип двери, почувствовала крепкие, надежные ладони. Кто-то поднимал ее, прижимал к себе, накрывал чем-то теплым. У Анели забилось сердце. Она даже поморгала, чтобы успокоиться. Юноша не отводил от нее глаз, признавшись:
– Да. В Тель-Авиве, портной. Он из Берлина приехал. Вам не нравится? – озабоченно, поинтересовался, Авраам. Девушка склонила набок изящную голову:
– Отчего же. Отменный крой. Я сама портниха, – объяснила она.
За чаем, они говорили о Палестине. Пани Анеля уезжала в Париж. Юноша, все время думал:
– Она похожа на Аарона, странно. Та же стать. У Аарона только глаза темные. Он говорил, что у его сестры и брата светлые глаза, серо-голубые. Как у нее…, – на нежных, смуглых щеках девушки играл румянец. Пани Анеля рассказала, что осталась круглой сиротой после погромов двадцатого года:
– Дядя Натан здесь пропал, в Польше, – вспомнил Авраам, – когда война началась. Не надо ей о таком говорить, она родителей потеряла…, – он предложил:
– Приезжайте к нам, пани Гольдшмидт. Откроете мастерскую, в Тель-Авиве. Я бы у вас первым клиентом был, – отчаянно добавил Авраам, – или вы на мужчин не шьете?
Темно-красные губы улыбались:
– Я на всех шью, господин Судаков. И вяжу…, – она достала из сумочки вязаную, белую кипу с голубым щитом Давида:
– Мои девочки продают. Возьмите, на память…, – Авраам, хоть и не покрывал голову, но кивнул:
– Я буду ее беречь, госпожа Гольдшмидт…, – он хотел предложить девушке сходить вечером в кино, или театр, но не успел. Она прощалась, желая ему удачи. Авраам заставил себя сказать: «Вам тоже, в Париже».
Пани Анелю позвали девочки, Авраама обступила молодежь из варшавского клуба Бейтар. Он смотрел вслед темным волосам, пока девушка не пропала в толпе. Авраам вздохнул: «Счастья ей, где бы она ни была».