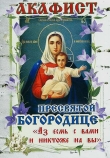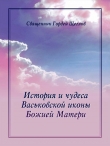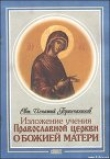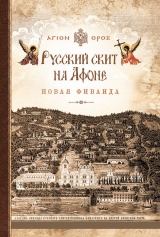
Текст книги "Русский скит на Афоне. Новая Фиваида"
Автор книги: Автор Неизвестен
сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 11 страниц)
Удивительные случаи со схимонахом Аполлосом и схимонахом Лазарем

Схимонах Аполлос, уроженец Астраханской губернии Енотаевского уезда, из казаков, прибыл в Фиваиду почти в начале ее основания, то есть в 1883 году, будучи 59 лет от роду, и жил в пустынной келье. Хотя он и обладал достаточными физическими силами, но послушания никакого не нес, а безмолвствовал в тиши пустынного уединения. До прибытия в Фиваиду он ездил с Афона в Россию, на родину и в другие места казачьих станиц, чтобы сделать сбор денег, что ему и удалось.
Заболев к смерти, отец Аполлос пролежал несколько времени в больнице. Не замечая у себя особенно опасной болезни, он было один раз вознамерился уйти без разрешения доктора, как непривычный к многолюдству, но на пути к своей каливе, как он сам рассказывал, услышал голос: «Не ходить тебе на пустынь, а умирать в больнице!» Этого голоса он послушался и воротился обратно в больницу, где в скором времени скончался 3 ноября 1892 года. Но через несколько времени он пришел в себя и стал просить, чтобы скорее позвали духовника, но в то время по скорости такового не нашли.
К его койке подошел один из старших братьев, монах Андрей (ныне здравствующий), и, видя, что умерший ожил, весьма удивился. В это время еще подошли братия. Тогда отец Аполлос всем окружающим его начал говорить: «Простите, отцы, я погрешил. Когда я ездил с Афона в Россию, то мне дали две благочестивые девицы (чернички) на вечное поминовение трех душ жертву 120 рублей – два имени поминать еженедельно, а одно ежедневно, но я эти деньги удержал у себя и употребил их потом на свои потребности – на постройку каливы и прочее. И вот, когда я умер, то был обличен в этом грехе, и повелено мне было объявить об этом, дабы эти имена были церковно поминаемы. Ради этого я и возвращен из загробного мира. Посему прошу вас, отцы святии, скорее запишите их на помин в синодики, а меня простите».
Видя такое необычное явление с умершим, все ужаснулись. Монах Андрей тотчас же записал эти имена на клочок бумажки и уверил ожившего, чтобы он не беспокоился, что имена будут внесены в синодики церковные и будут поминаться, после чего отец Аполлос перекрестился, сказал окружающим братиям: «Простите меня» и тут же при всех скончался.
Подобный этому случай произошел и со схимонахом Лазарем, который также лежал уже без всякого дыхания, но через некоторое время открыл глаза и слабым голосом подозвал к себе больничного служителя и сказал: «Пришлите мне сейчас же моего духовного отца, мне необходимо сказать ему неисповеданный мною один тяжкий грех». И когда оживший исповедал духовнику этот грех, то ему сделалось лучше и он выздоровел. За его великий грех ему дана была и епитимия великая – на 6 месяцев, которую он с радостью принял и исполнил. О, Божие милосердие и неисповедимая тайна! Лишь только кончился срок наложенной на него епитимии, то и он кончил свою жизнь и с миром уснул навеки как оправданный и иерейской властью разрешенный от греха.
От этих двух поразительных случаев невольно трогается сердце, и благодарный вздох ко Господу возносится из уст фиваидцев, вздох о загробной судьбе Его рабов, о которых так любвеобильно Он, Всеблагой, печется, не желая вечной погибели их душам. Сколько отрадной надежды проливается в сердца иноков от подобных таинственных возвещений, которые воспламеняют их к любви и ревности к своему Создателю.
В недавнее время с одним умирающим фиваидцем также произошел подобный случай, как бы приподнявший несколько завесу загробной участи иноков-фиваидцев и снова воодушевивший их и окрыливший их дух надеждой на будущее.
О схимонахе Георгии-огороднике

Был здесь схимонах Георгий (в миру Григорий Яковлевич Терещук Киевской губернии). Послушание в последнее время он исполнял на верхнем огороде и в то же время проводил пустынную подвижническую жизнь, имея вблизи огорода свою каливу, откуда он и был взят на послушание. Все время проводя в монашестве строгую жизнь, он не любил празднословить, избегая столкновений и бесед, всячески старался пребывать в молчании и самоуглублении и усердно занимался молитвой Иисусовой. Одним словом, он был примерным иноком и внимал своему спасению.
Отца Георгия постигла лютая болезнь, и он был помещен в больницу. У него была нестерпимая боль в груди, сильное воспаление не давало ему покоя ни днем, ни ночью, вся его внутренность словно горела огнем. Так он страдал несколько недель. От величайшей боли он стонал, даже кричал и, как человек, от чрезмерных страданий стал роптать. Никто из служащих больницы не мог ему угодить, кроме одного монаха С., которого отец Герасим подзывал к себе, обнимал ему шею обеими руками и повисал на ней, чтобы хоть несколько облегчились его страдания, которые не позволяли ему ни сидеть, ни лежать.
В такой мучительной болезни он и приблизился к смертному концу. Он умолк, жизненные силы его оставили, почти незаметно было признаков жизни, и он казался умершим. Но эта безжизненность продолжалась не особенно долго. К удивлению иноков, отец Георгий очнулся и сел на койку. В это время подошел к нему инок П., тоже огородник. Не зная ничего о происшедшем и видя его сидящем, он стал спрашивать отца Георгия о том, как его здоровье, как он себя чувствует, а он ему и говорит: «Да ведь я уже было умер и был там». – «Где же, где, скажи, отец Георгий?» – «Да там, в таком чудном месте, в каком-то саду, и видел наших отцов». Инок отец П. был поражен и стал допытываться, кого же он там видел. Отец Герасим ответил, что он видел отца Анфима (духовника), видел отца Протасия (тоже духовник) и его ученика Иакова (схимонах), и еще назвал нескольких лиц, которых отец П. запомнил. «Ох, как им там хорошо, – продолжал отец Георгий, – какой чудный сад, я желал с ними там остаться, но они мне сказали: “Нет, еще не пришло тебе время быть здесь. Воротись назад, а потом вскоре будешь с нами”». И после этих слов он умолк.
Подробности видения выпытал у отца Георгия больничарь монах С., к которому, как выше сказано, больной имел расположение. Приставая к нему, отец С. умолял сказать ему откровенно, для своей душевной пользы, что именно он видел и кто его водил в те райские места. Долго колебался отец Георгий, не хотел говорить, но когда отец С. смиренно, но настойчиво стал упрашивать поведать ему, то видно стало, что он пересиливает себя и, наконец, откровенно стал рассказывать, неспешно, с передышкой и остановками: «Когда я как будто умер, то увидел ангела Божия и святого великомученика Георгия (имя которого носил отец Георгий). Они привели меняв какой-то необыкновенный чудный сад, а посреди него я увидел неописанной красоты величественный дом наподобие соборного храма, где я и видел многих наших фиваидских монахов». – «Скажи же, кого из них ты помнишь?» – «Видел отца Анфима, отца Протасия, его ученика Иакова, видел иеросхимонаха Афанасия и прочих. Все они в хорошем
месте, но больше всех во славе отец Анфим. Эх, как мне хотелось остаться в этом месте! Но мне сказали, что не пришло еще время: “Ты должен еще возвратиться на малое время, а тогда придешь сюда”». И больше после этих слов отец Георгий ничего не стал говорить.
С этого времени он весьма переменился и уже не было слышно от него ни ропота, ни крика. Хотя болезнь его была жестокая, но он переносил свои страдания, как было видно, с покорностью воле Божией и с надеждой на будущую блаженную загробную участь. Прожив после этого всего только шесть дней, напутствованный Святыми церковными Таинствами елеосвящения и причащения Святых Христовых Таин, отец Георгий тихо и спокойно предал дух свой Господу, Которому благоугодно было заранее открыть сему страдальцу те блага, которые приготовлены в загробной вечности любящим Его. Скончался он 3 октября 1914 года 65 лет от роду, из них подвизаясь в Фиваиде 28 лет. Царство тебе Небесное и вечная память!

Глава 3
Святыни пустыни

Икона Божией Матери Владимирская

В пустынь Фиваиду в 1886 году прибыл на жительство духовник иеросхимонах отец Савва и от себя пожертвовал святую икону Божией Матери Владимирскую (копию с чудотворной), мерой вышины 7 вершков, шириной 6 вершков, в приличном киоте под стеклом, в серебряной позолоченной ризе с венчиком, украшенном камнями. К этой иконе привешен военный орден – крест святого Владимира 4-й степени, и другой небольшой грудной крестик, и цепочка серебряные. Об этой святой иконе отец Савва сообщил, что она ему досталась в благословение от старца его, иеросхимонаха отца Мелетия, с которым он несколько лет жил в келье на Афоне, а отцу Мелетию эта икона досталась также в благословение от его старца, иеросхимонаха отца Нафанаила, а сей последний соорудил ее, когда жил в Воронежском мужском монастыре, и привез ее с собою на Афон в сороковых годах сего XIX столетия. О происхождении этой святой иконы сохранилось старческое предание следующего содержания.
Вышеупомянутый старец иеросхимонах отец Нафанаил (мирское его имя отцу Савве было неизвестно) до вступления в монашество был человек военный в чине полковника. В молодости несколько лет он был под командой знаменитого полководца А. В. Суворова, затем, по наступлении французской войны, в 1812 году участвовал во многих битвах, из которых особенно для него памятна была битва под Лейпцигом в 1813 году. На память своему ученику отцу Мелетию отец Нафанаил рассказал один случай из своей военно-страннической жизни, живо напоминающий историю Сусанина.
Однажды вечером, во время военно-наступательных действий во Франции, к начальнику отряда, в составе которого был и полк отца Нафанаила, явился с неприятельской стороны лазутчик, объявил себя врагом своего отечества, на всех своих был ужасно недоволен и посему был готов действовать против своих. Он предложил начальнику отряда провести вечером русские войска известным ему кратчайшим путем на те позиции, на которые они направлялись, но дороги куда не знали, чтобы они могли без всякого урона занять их. Начальник отряда поверил ловкому лазутчику, отдал приказ, и войска вечером выступили в поход.
Проводник повел их сперва местами низменными, а затем ввел их в топкое и болотистое место, так что пришлось шагать по кочкам в воде, а наконец и совсем уже нельзя было идти – впереди и вокруг раскинулось топкое болото. Тогда лазутчик объявил, что он их обманул и, жалея свое отечество, с целью завел их в болото. Его тут же изрубили на мелкие части, и, кто мог, стали возвращаться обратно.
Трудно было усталым, изнуренным и измокшим воинам: куда кто ни направится – болото как море, и конца его нигде не видно. Действительно, воины очень поспешно шли за проводником, надеясь, что скоро выйдут из топкого места, как о том и проводник им говорил с той целью, чтобы завести войска подальше в глубь болота. В короткое время они ушли далеко, а когда стали возвращаться, то болото им казалось как море безграничное. Некоторые ослабели до крайнего изнеможения. К этому горю вскоре прибавилось другое – не стало хлеба.
Потянулось время безотчетного и неизвестного пути. Шли и конца не находили. Среди войска стали проявляться заболевания, и многие умерли от холода и голода. «Станешь, – говорил отец Нафанаил, – ногой на кочку, опираясь о другую ружьем. Не успел укрепиться, глядь, уже в воде выше колен». Тогда-то отец Нафанаил и простудил ноги на всю жизнь. На Афоне, особенно по старости, он и короткое время не мог стоять, но все сидел, церковные службы, кроме Литургии, и келейное правило выполнял сидя; на ногах же у него из костей во многих местах образовались от простуды костяные наросты вроде сучьев.
Итак, положение русских солдат было крайнее опасное, даже опаснее, чем на самой жаркой битве, – смерть неминуемая. Никто не знал, что делать. Уже каждый из воинов потерял надежду на выход из болота. Прошло несколько дней такого бедственного положения.
За это время некоторым из наиболее сильных воинов удалось возвратиться к своим войскам. Было сделано необходимое распоряжение, на помощь послали достаточно солдат и съестных припасов и наконец вывели измученных людей из болота и подкрепили их пищей.
Вскоре после того, как отец Нафанаил со своими солдатами был освобожден из болотной засады, его полк в составе остальных русских войск двинулся на Париж. При помощи Божией взяли город, и был объявлен войскам трехдневный отдых, гуляние и дозволение распоряжаться полной свободой: пить, есть и брать, что кому угодно. Многие из начальников, товарищи отца Нафанаила, набрали себе золота и других ценных предметов, а отец Нафанаил ничего не взял себе. «Что же, – он сам себе говорил, – наберу денег, и тут же убьют меня? Какая мне будет польза из этого?» И поэтому он не взял себе ни золота, ни других ценных вещей, но пил и кушал, что ему нравилось.
По возвращении в Россию товарищи его купили себе богатые имения, женились и стали хозяйничать, а отец Нафанаил подал в отставку и определился в число братства Митрофаниева монастыря, где вскоре был пострижен в мантию, а затем и рукоположен во иеромонахи с именем Нифонт. Послушание ему было дано стоять при гробе и мощах святителя Митрофания; на этом послушании отец Нифонт прожил семь лет.
В числе братства Воронежской обители был весьма благоговейный и святой муж, иеродиакон и иконописец (имени его отец Нафанаил не помнил). Этому-то иеродиакону отец Нифонт поручил написать для себя, в свою келью святую икону Божией Матери Владимирскую. Иеродиакон исполнил заказ. Святую икону он писал в посте и молитве красками, составленными на святых мощах со святой Богоявленской водой, наподобие того, как инок Иамвлих писал святую икону Божией Матери Иверскую. Благоговейный иконописец написал святую икону в самом прекраснейшем, можно сказать, художественном виде: выражение ликов Богоматери и Богомладенца Господа Иисуса неуловимы при взгляде на святую икону, но в душе чувствуется благоговение, страх Божий и какая-то необъяснимая духовная радость и утешение.
Святая икона Божией Матери стояла в келье у отца Нафанаила. Он сделал для нее массивную серебро-позлащенную ризу, которая и теперь на ней, и привесил свой военный орден – крест святого Владимира 4-й степени. Прожив несколько лет в Воронежской обители, отец Нифонт пожелал поклониться святым местам Палестины и Афона. Выхлопотав себе увольнение, он отправился в путь, куда взял с собою и свое сокровище, келейную икону Божией Матери.
Прибыв на Афон в Пантелеимонов монастырь, он вскоре по прибытии опасно заболел, вследствие чего был пострижен в схиму и назван Нафанаилом (постригал его иеросхимонах отец Иероним). По выздоровлении своем отец Нафанаил с Русика перешел на Капсал. Там, вблизи Андреевского скита, он купил себе келью с церковью во имя святых архангелов, в которой и жил до самой своей смерти. Когда в конце сороковых годов посещал Святую Гору министр А. Н. Муравьев и был в Андреевском скиту (тогда еще келья Серай), то имел свидание с отцом Нафанаилом. Несколько раз он был у него в келье, причем весьма благосклонно и уважительно разговаривал с ним, отдавал ему честь как герою и старому русскому воину.
Учеником у отца Нафанаила был иеросхимонах отец Мелетий, которому и досталась от него и келья, и святая икона в благословение, а затем, уже по смерти отца Нафанаила, в ученики к отцу Мелетию поступил послушник Сергий, который затем принял монашество с именем Саввы и был рукоположен в иеромонахи.
Святая икона Божией Матери Владимирская, пожертвованная отцом Саввой, составляет незаменимое украшение церкви пустыни Фиваида. Ей присуща благодать укреплять силы иноков на предлежащий подвиг и терпеливое несение иноческих скорбей.
Икона Божией Матери Казанская
В 1896 году, марта 15 дня, по благословению игумена отца Андрея в пустынь Фиваиду прибыл на жительство монах отец Мина (в миру подполковник Василий Николаевич Котельницкий, потомственный дворянин Смоленской губернии). Вскоре по прибытии он пожертвовал от себя в соборную церковь преподобных Афонских собственно ему принадлежащую святую икону Божией Матери, именуемую «Казанская» и являющуюся точной копией с чудотворной иконы Божией Матери Казанской, находящейся в городе Казани в женском Казанском монастыре. Эта святая икона мерою вышины в 1/8 вершков, ширины 5 1/8 вершка в массивной серебро-позолоченной ризе с камнями и другими украшениями, при ней привешены два золотых венчальных
кольца и военный орден Василия Николаевича, крест святого Владимира 4-й степени.
Старцы и братство пустыни Фиваиды были очень довольны бесценным приношением отца Мины и благоговейно отнеслись к этому благодеянию. Святую икону поставили в церкви преподобых Афонских, впереди левого клироса, где она и ныне стоит в ценной раме в складном, очень искусно сделанном киоте с развернутыми дверками. Вместе с прочими келейными иконками отца Мины она составляет приличное по благолепию украшение для церкви. При входе в церковь внимание входящего останавливается на сем киоте, имеющем вид маленького иконостаса, а при взгляде на пречистый образ Владычицы, сияющей при ночном освещении, страх Божий и благоговение проходят в теле, и от них бывает в душе необъяснимая радость и утешение, как говорили о том многие из братий. Новый киот для этой святой иконы взамен прежнего был сооружен боголюбивейшим архимандритом Андреевского скита Иосифом.
Отец Мина сообщил сведения об этой Казанской иконе Божией Матери, а также поведал и о том, как она ему досталась.
Как уже сказано, отец Мина, в миру Василий Николаевич Котельницкий, был человеком военным. Он служил в Бутырском пехотном полку, участвовал в Севастопольской войне, затем, в 1859 году, в чине капитана со своим полком перешел для квартирования в город Корсунь Симбирской губернии. Здесь в свободное от своих служебных обязанностей время он познакомился с помещиком, потомственным дворянином Василием Александровичем Сабаниным, происходившим из древнего рода владетельного казанского князя из татар Сабани. Имение Василия Александровича село Зимненки было недалеко от города Корсуня, и посему Василий Николаевич часто бывал в доме Сабанина и близко познакомился с его семейством.
В одно время, когда по какому-то особому приглашению в доме Василия Александровича Сабанина было много гостей из родных и почетных граждан, Василий Николаевич, который также был в числе гостей, сделал предложение о браке Надежде, болезненной дочери Василия Александровича. Она изъявила согласие на брак, чему все гости, и особенно ее родители были очень рады. «Тогда же, – рассказывал Василий Николаевич, – в присутствии всех гостей родители Надежды благословили нас своей семейной святыней, этой святой иконой Божией Матери Казанской, которая принадлежала еще казанскому князю Сабану, современнику царя Иоанна Грозного, и благоговейно чтилась всеми его потомками». Об этой святой иконе в роде Сабаниных хранилось весьма важное предание.
Вышеозначенный князь Сабан был магометанином. До покорения города Казани в 1552 году он весьма сопротивлялся царю Иоанну Грозному и не уступал города Казани, за что был наказан Богом слепотой. В сохранившемся предании не указывается, сколько она продолжалась, но достоверно известны обстоятельства его исцеления.
Ослепшему Сабану было видение: ему явилась во сне святая икона Божией Матери Казанская, от которой был глас: «Если примешь христианскую веру и крестишься, Я исцелю тебя». Ослепший тут же дал обещание принять христианскую веру и, с произнесением обета, получил исцеление – стал видеть обоими глазами, как и прежде. Немедленно принял он святую веру и крестился, а затем пожелал иметь в своем доме и святую икону Божией Матери, которая являлась ему в видении и от которой он слышал глас.
Виденная им икона была чудотворная Казанская, находившаяся в женской общине в городе Казани. Там же была и точная копия этой иконы, называемая аналойной. Вот об этой-то иконе уже после покорения Казани князь Сабан обратился к царю Иоанну Грозному и просил у него дозволения взять ее к себе в дом. Царь позволил, и Сабану была дана святая икона Божией Матери Казанская аналойная, копия с чудотворной, о которой здесь и повествуется. Эта самая икона по наследству от князя Сабана переходила из рода в род и дошла до Василия Александровича, которым и дана в благословение новобрачным.
Василий и Надежда вскоре после этого были обвенчаны и жили мирной супружеской жизнью, неразлучно при них пребывала святая икона Казанской Божией Матери. Впоследствии по распоряжению начальства Бутырский полк передвигался в разные места, за ним по долгу службы везде следовал Василий Николаевич со своей женой Надеждой, и при них была святая икона.
Наступил 1877 год, началась Русско-турецкая война. По распоряжению начальства Василий Николаевич в чине подполковника был назначен начальником 7-го Петербургского госпиталя, с которым и командирован на место военных действий в Турцию, при нем поехала и его жена в качестве добровольной сестры милосердия. По прибытии в Турцию 7-й госпиталь был расположен близ Плевны. Василий Николаевич и его жена усердно исполняли свои обязанности и всего более оказывали любовь и милосердие к страждущим воинам. Святая икона, их неразлучная спутница, была установлена в особой палатке и перед ней неугасимо теп лилась лампада.
Все русские воины благоговейно чтили пречистый образ Владычицы и усердно молились перед ним Царице Небесной, вручая Ей свою жизнь, просили Ее милостивого заступления и помощи. Молитвы их не оставались тщетными. Владычица мира не посрамила их упования и явила им Свое материнское милосердие, благодатное заступление и помощь, вполне и очень явственно сознаваемые всеми воинами, как видно будет из последующих обстоятельств.
Башибузуки, известные своей свирепостью и зверообразным нравом, не один раз покушались истребить госпиталь и всех раненых изрубить, но нисколько не преуспели в своих зверских замыслах. Несчетное число раз они нападали, и всегда были отражаемы какой-то необъяснимой силой, самый же госпиталь во время их нападений был окружен огненным светом, от которого башибузуки, как бы ослепленные, приходили в замешательство и отступали, ничтоже успев. Об этом с особенным удивлением рассказывали сами башибузуки, попадавшиеся в плен, воины же русские, слыша такие рассказы, еще усерднее молились Царице Небесной пред Ее пречистым образом и со слезами благодарили Владычицу мира за Ее покровительство, помощь и заступление.
После взятия Плевны в войсках стал свирепствовать гнилой тиф. Можно полагать, что болезнь эта произошла от множества разлагавшихся трупов. От нее многие умерли, скончалась и сестра милосердия Надежда Котельницкая, жена Василия Николаевича. В предсмертные часы, будучи в полном сознании, Надежда обратила свои страдальческие взоры ко святой иконе Божией Матери Казанской и просила у Царицы Небесной милостивого заступления ее душе, приготовляющейся к исходу. С детской преданностью она всю себя вручала Ее материнскому покровительству, молилась о себе и о муже Василии, который был тут же при ней. Умирающая без слов просила Матерь Божию быть свидетельницей ее предсмертного завещания и, обратясь к мужу, слабым голосом сказала ему: «Василий! По окончании войны не связывай себя узами второго брака, но исполни свой обет, данный Богу, и вступай в монашество». Сказав сие, Надежда мирно скончалась.
«Война окончена, и я, – говорил Василий Николаевич, – возвратился в Петербург, немедленно сдал свои дела и от службы уволился. Затем вскоре подал в отставку, которую и получил с определением полного пенсиона по чину, даже несмотря на то, что о моем намерении поступить в монашество знали все начальствующие.
Освободившись от служебных обязанностей, вспомнил я о минувших годах, о всех переворотах, происходивших в моей жизни, во время которых незаметным образом у меня созревала мысль о заветном желании вступить в монашество и укреплялся мой дух к мужественному терпению всего скорбного, всего непредвиденного на пути к Царствию Небесному. С особенным чувством благоговения и благодарности молился я пред святой иконой Божией Матери. Вспомнил я и свое предложение о браке, сделанное некогда болезненной моей Надежде как будто необдуманно, опрометчиво. И действительно, удивляться следовало моему предложению, ведь я знал, что Надежда больная, и несмотря на это согласился вступить в брак. В то время я этому удивлялся, а теперь благодарю Господа и Его Пречистую Матерь, ибо теперь только вижу, что своим как будто необдуманным бракосочетанием я сберег свое здоровье от расстройства и душу от погибели, которая мне грозила от развратной жизни, в которую в наше слабое время погружаются в большинстве молодые люди. Дивны и непостижимы судьбы Божии, и милостивое заступление Царицы Небесной для меня необъяснимо! Под прикрытием брака, – говорил отец Мина, – я провел большую часть своей жизни мирно, и теперь, на закате своих дней, освободился, и путь к иночеству стал для меня невозбранен. За все слава Богу!
По окончании своих служебных дел мне одно оставалось – поступить в какой-либо монастырь в Петербурге. Это мне советовал и даже предлагал преосвященный митрополит Исидор, которому я лично был известен, но дух мой не был расположен к местным обителям, и на предложение митрополита Исидора я не согласился.
По указанию известного старца иеромонаха отца Феодосия, подвижника Юрьевского монастыря Новгородской губернии, я собрался и отправился на Святую Афонскую Гору и с собой взял святую икону Божией Матери Казанскую. Дело было в конце семидесятых годов, хорошо не помню, в каком именно году. Прибыл я на Афон благополучно и остановился в Свято-Андреевском скиту, был принят в число братства и в 1882 году с высочайшего соизволения и по благословению архимандрита Феодорита удостоен пострижения в ангельский образ (в мантию) с именем Мины.
Несколько лет я прожил в Андреевском скиту здоро́во и благополучно, а затем заболел возвратным тифом, и меня с Андреевского отправили в Константинополь на излечение, святая же икона Божией Матери осталась на Афоне. По прибытии в Константинополь я был помещен в Николаевской больнице. Все усилия докторов, все способы лечения не действовали на мою серьезную болезнь, и вскоре доктора уже объявили, что мне уже немного осталось жить, даже час смерти моей был назначен. Слабые и болезненные мои чувства уже созерцали приближающуюся кончину. При мысли о том, с чем явлюсь пред Господом, я дрожал всем телом и, хотя не мог молиться как должно, но изнемогающие силы духа и ума возводил ко Господу и Его Пречистой Матери. Я просил их милости, молил об отсрочке наступающего часа смерти, чтобы дано мне было хоть малое время на покаяние. О том, как спастись, помышлял я на смертном одре.
Уже наступала предсмертная агония – не часы, а, может быть, минуты отделяли мою жизнь от смерти, – говорил отец Мина, – и в эти последние минуты явлено мне было милосердие Божие по ходатайству Владычицы мира, моей Покровительницы. Напротив моего одра на стене я увидел святую икону Божией Матери. На этой иконе Она была изображена сидящей в царском величии и славе, на пречистой Ее главе была царская корона, украшенная и сияющая. Богомладенец Иисус Христос с выражением творческой мудрости и славы на лике сидел на коленях у Пречистой Своей Матери, с левой стороны поддерживаемый полуогибающей его рукой Царицы Небесной, на длани которой был изображен земной шар – знак самодержавия и власти. Правая же рука Матери Божией была положена на коленях Богомладенца Господа Иисуса, Который в правой руке держал царский скипетр, а левой указывал вверх, символически выражая Свою Божественную волю даровать нам небесное Его наследие и как бы говоря: “Покайтесь и ищите Царствия Божия”. Всматриваясь в этот пречистый образ, я как будто забыл о наступающем смертном часе. Вдруг я заметил в нем перемену: в левой руке Матери Божией вместо земного шара увидел я потир, в который Пречистая Владычица опустила Свою правую руку и, омочив ее в крови, перстами вверху одежды на своей груди большими буквами написала мне ответ на мой вопрос, как спастись, – слово “сердце”. Я внимательно смотрел, не опуская глаз. После этого я увидел, что Матерь Божия стала отирать пальцы омоченной Своей руки об одежды на груди и немного стерла написанное слово, затем, обратясь ко мне с невыразимой материнской любовью, сказала: “Дается тебе срок на покаяние, а икону Мою военную отдай туда, куда Я укажу”. После этих слов видение скрылось от меня, и я почувствовал себя здоровым. Немедленно я встал и всем объявил, что здоров. Мое неожиданное выздоровление привело в ужас и удивление всех докторов и служащих в больнице, те из них, кто были религиозны, прославляли со мною все святое имя Божие и благодарили Царицу Небесную за мое чудесное исцеление.
Получив исцеление от болезни, – рассказывал отец Мина, – я стал собираться обратно на Афон, где была моя драгоценность – святая икона Божией Матери, пречистый образ моей Исцелительницы, в видении названный военным. Большую часть своего времени я посвящал молитве и благодарственным воздыханиям к Матери Божией, моей Путеводительнице и милостивой Заступнице.
Во всем подчинившись Всеблагому Промыслу Божию и материнской любви Владычицы мира, я не загадывал, что и как сделать по возвращении на Афон, но предполагал, что вновь получу назначение в братство богоспасаемой общины Свято-Андреевского скита. Для меня так и осталось необъяснимым, почему дело сложилось иначе, однако через посредство русского посла в Константинополе господина Нелидова и по благословению добродушного старца батюшки игумена отца Андрея я отправился на Афон не в Андреевский скит, а в пустынь Фиваиду, состоящую под ведением Русского Пантелеимонова монастыря. Туда же я взял с собой и святую икону Божией Матери Казанскую и пожертвовал ее от себя братству пустыни Фиваиды в утешение. Фиваидцы во главе своих старцев приняли святую икону с особенной благодарностью и поставили ее в церкви преподобных Афонских на левой стороне впереди левого клироса, на приличном и Ею Самой избранном месте. Отныне Своим пречистым образом Матерь Божия украшает церковь видимо, невидимо же благодатью Своей Она охраняет братство Фиваиды от козней и нападений вражиих.
Слава Богу за все! Слава и благодарение Матери Божией, моей неусыпной Попечительнице и всех верных Помощнице, благоволившей оказать Свою милость братству скромной Фиваиды явлением Своего пречистого образа в благословение и в утешение! Во всех необычных стечениях обстоятельств моей страннической жизни я ясно вижу Ее неусыпные заботы о спасении меня, заблудшего. Всегда вспоминаю Ее утешительный глас мне умирающему: “Дается тебе срок на покаяние, а икону Мою военную отдай туда, куда я укажу”. Святая Ее икона доставлена мною, недостойным, на место, к которому Она благоволила и благоволит, где и я грешный получил себе уголок, и данный мне срок на покаяние еще тянется. Еще жив, но час смерти близок; окружающие меня и все более и более усиливающиеся болезни ежеминутно напоминают мне: “Готов к смерти?” Но горе мне, немощному! Дело о спасении как-то не спеется, мысль о смерти не держится, и все прочее, относящееся к душевному спасению, забывается, при всем же этом жизнь моя для меня самого более тягостна, чем отрадна. При сознании своей немощности с детской покорностью и преданностью преклоняюсь перед моей неусыпной Попечительницей Матерью Божией, в изнеможении сил приношу Ей мое поклонение и благодарение и умоляю: “Владычица моя Пресвятая Богородица, спаси меня! В час смерти не оставь меня и помоги мне, немощному!”»