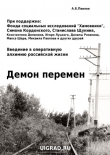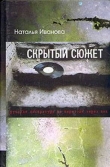Текст книги "Газета День Литературы # 169 (2010 9)"
Автор книги: Автор Неизвестен
Жанр:
Публицистика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 9 страниц)
Андрей РУДАЛЁВ – Захар ПРИЛЕПИН НУ, ЛЕОНОВ... НУ, НЕ ЗНАЮ...
Об особом отношении Захара Прилепина к творчеству Леонида Леонова известно давно. Весной в серии ЖЗЛ вышла биография этого писателя, который прошёл практически через весь XX век, но для наших современников является совершенно неизведанным и покоящимся под спудом ярлыков «официальный советский».
После прочтения биографии захотелось задать несколько вопросов автору о личном, интимном, восприятии этого классика. Захар Прилепин считает, что крайне неверно рассматривать литературу прошлого века как историю борьбы писателей с советской властью, а деление их на советских и антисоветских необходимо преодолевать. Сам он ищет издателя, чтобы издать отредактированный роман Леонова «Пирамида», готов делать его редактуру и страстно желает вернуть Леонова для читателя.
– Можно ли говорить о двух Леоновых, по крайней мере, такое ощущение может возникнуть?
– Нет, Леонов целен... причём он был целен, как мало кто из числа его современников.
Другой вопрос, что восприятие его критикой, а впоследствии и читателями, начиная с послевоенного времени, было тотально ошибочным – но Леонов никак не пытался переломить такое вот восприятие своих текстов. После нервотрёпок 30-х он предпочитал пожить в тишине.
В итоге мы имеем сегодня удручающую картину: Леонова почитают за безусловную величину, а то и за гения те, кто всерьёз прочёл его, а те, кто не читал – и знать не хотят. Для них что Леонов, что Бабаевский, что Георгий Марков – всё одно и то же.
– Чего о нём не знали в Советском Союзе?
– Ну, самый элементарный ответ: никто не знал его белогвардейского архангельского прошлого и трёхлетний период активной антисоветской журналистской работы в архангельской газете «Северное утро». Думаю, что исследователь Леонова Владимир Ковалёв, работавший в архивах, был в курсе – но он ни разу даже не намекнул на это в своих работах.
А вообще про леоновскую молодость даже его близкие и родные не знали вплоть до середины 90-х годов.
– Приближенность к власти, титул официального советского писателя сказалось на его восприятии?
– Конечно, сказались, да и не только на его восприятии. У нас как произошёл этот чудовищный слом в конце 80-х – начале 90-х, так ситуация и не исправилась.
Надо выходить из этих никчёмных градаций советский-антисоветский, они уже ничего не объясняют. А то у нас всё какой-то детский сад творится: Пастернак хороший, потому что его травили (а то, что он долгое время был одним из главных официальных советских поэтов, мы вроде как и не очень помним); Булгаков, конечно же, тоже хороший (а про «Батум» мы сделаем вид, что это он проявил слабость – но простительную, простительную потому, что железный маховик и век-волкодав); и Платонов хороший – оттого, что «разочаровался» – а если б не разочаровался, мы б тогда ещё подумали; и Твардовский тоже ничего – потому что «Новый мир», и либерализация, и зелёный свет Солженицыну – а если б не всё это, мы б тогда ещё подумали и про Твардовского; зато Бродский – точно икона, потому что гений, ссылка, не печатали, а оду на отделение Украины кто-то другой написал, а не он... Ну и так далее. В итоге, разве что графа Толстого Алексея Николаевича ещё раз спас его графский титул, и очевидная мощь книжки «Пётр Первый»; зато Шолохова недотыкомки и упыри теперь уже будут терзать во веки веков, не отдавая ему его же «Тихий Дон», а все остальные советские величины, в лице того же Леонова, или Всеволода Иванова, или Федина, внимания в университетских программах получают примерно столько же, сколько, например, писатели народов Севера.
Всю эту колченогую иерархию надо ломать. Лично мне, очевидно, что «Дорога на Океан» Леонова – роман более сильный, чем «Доктор Живаго», а «Партизанские повести» Иванова – не менее литература, чем «Собачье сердце» Булгакова. Ну и так далее, вплоть до конца века – где величина Юрия Кузнецова никак не уступает величине того же Бродского. Я вовсе не ратую за то, чтоб первых оставили, а вторых зачистили. Я ратую за равноправие.
История русской литературы XX века – это не история борьбы писателей и поэтов с советской властью. Давайте больше не будем эти очень далёкие друг от друга вещи смешивать.
– Вот ты у себя ощущаешь какие-то черты, близкие Леонову? Что тебя в его личности, так скажем, коробит?
– Леонов – по-человечески вполне чуждый мне тип. Я описывал его почти столетнюю жизнь, и только в 2-3 ситуациях ловил себя на мысли, что поступил бы здесь так же, как он.
Это не значит, что он поступал дурно. Он как раз жил последовательно, упрямо и честно, – но сам его путь, рисунок его судьбы – во мне физически не отзывается сердечным пониманием и таким, знаешь, трепетным восхищением – с которым мы можем смотреть на, к примеру, Есенина или там Хэма.
Повторяю, меня в Леонове ничего и нисколько не коробит. Я просто к финалу книги смотрел на него уже ни как на человека, а как, скажем, на огромный камень, или как на старое, тяжёлое дерево. Как это может коробить? Это живёт по иным законом, чем я.
– Что для тебя было самое трудное в написании биографии?
– Сверять каждую строчку с источниками. Жизнеописания писать тяжелее, скучнее, муторнее, чем беллетристику.
– На твой взгляд, насколько сейчас его творчество актуально, чем может быть интересно? Что нужно переиздать у него в первую очередь?
– Если Леонова экранизировать – для, как правило, ленивых и нелюбопытных людей, – актуальным станет всё. Потому что актуальны во все времена безупречно сделанные вещи. «Необыкновенные рассказы о мужиках», повести «Петушихинский пролом», «Белая ночь», «Провинциальные рассказы», «Саранча», «Evgenia Ivanovna», романы «Вор» и «Дорога на Океан» сделаны безупречно. На таком стилистическом уровне не писали в XIX веке, и почти не пишут до сих пор.
А про «Пирамиду» я вообще молчу... Её стоило бы ещё раз отредактировать, конечно, и я ищу издателей для того, чтоб они готовы были опубликовать почищенный текст (я взялся бы организовать работу над редактированием «Пирамиды» совершенно бесплатно), – но даже в нынешнем состоянии «Пирамида» – это нечеловечески мощная работа, мучительно интересный текст.
– Твои прогнозы: будет ли Леонов прочитан нашими современниками? Или его время ушло/ не пришло?
– Нет, он ещё не прочитан, и это очевидно. Я знаю поимённо несколько человек, которые знают и понимают Леонова – Дмитрий Быков, Олег Кашин, Алексей Коровашко, ещё пять, шесть, семь читателей. Остальные представители литературной, так сказать, общественности сплошь и рядом кривят лица: ну, Леонов... ну, не знаю...
Время его придёт ещё – хочется в это верить. По крайней мере, я точно поработаю на это.
– Какие его книги могли бы быть написаны в наши годы?
– Все его книги в наши дни могли бы быть написаны, кроме нескольких пьес и «Русского леса». Это самый ангажированный его роман.
– Мог бы ты его ощущать нашим современником? О чём бы спросил, если пришлось побеседовать?
– Леонов для меня такой же современник, как Диоген или Аввакум. Хотя с ним как раз я вполне мог побеседовать – в 1993 году мне было 18 лет, и «Пирамиду» я купил, когда Леонов ещё был жив. И уже в 18 лет я, читая первую главу «Пирамиды», с восхищением сказал себе, что такой насыщенной, вкусной, восхитительной прозы на русском языке я ещё не читал.
Но вообще я вряд ли стал бы отнимать у него время на разговоры даже сейчас. Он скрытный был, одно и то же говорил из года в год. И мне сказал бы то же самое, что и десяткам других своих знакомых.
Мне интереснее с его текстами работать – там сказано в сто раз больше, чем он мог бы мне сказать в состоянии самого задушевного алкогольного опьянения. А он и не пил к тому же.
– Как считаешь, если бы Леонид Леонов, будь он жив, сейчас засел за роман, какую бы он тему взял?
– Он ещё лет 25 правил бы «Пирамиду». Большей темы, чем взята там, и быть не может.
– Стал бы он сегодня писателем, приближённым к власти, и имел бы титул «официального»?
– Да ну, ерунда. И сегодняшней власти никакие писатели не нужны, и у Леонова был, знаете, хороший вкус. В 30-е, 40-е, 50-е понимал, что имеет дело с Историей – там было страшно, порой омерзительно, но зачастую жутко интересно жить. А уже с конца 60-х, потом в 70-е он начал испытывать глубочайшую тоску от всего. Он же вышел из состава Верховного Совета – такие вещи тогда мало себе кто позволял. Леонов – это не Сергей Михалков, у него другие задачи были.
В 90-е он, по сути, уже брезговал властью, не желал иметь с ней ничего общего. С чего бы ему было поменять своё мнение в «нулевые»?
– После написания биографии остались ли для тебя в Леонове какие-либо тайны?
– Если я возьмусь перечитывать его тексты заново, я наверняка обнаружу ещё десяток удивительных, тайных тропок и перепутий в его текстах. И опять испытаю чувство восхищения и благодарности к нему.
– Когда я весной гулял по питерской книжной ярмарке, продавец у стенда издательства назвал твою книгу главным претендентом на премию «Большая книга». Но вот она не попала в шорт-лист... Как ты сам определяешь место в современной литературе биографии, которую ты написал?
– Да мне всё равно, я получил уже тележку премий, и некоторые из них я очень ценю. Но вообще – одной меньше, одной больше. Почему я не попал в шорт-лист «Большой книги» я знаю, но кричать об этом на каждом углу не буду.
В данной ситуации меня судьба книг Леонида Леонова куда больше волнует. Я хочу, чтоб его переиздали и прочитали. Премия могла бы этому помочь. Не помогла. Значит, будем искать другие пути. Жизнь длинная, придумаем что-нибудь.
Альберт ЛИХАНОВ «ДАЙ БОГ ДОСЛУЖИТЬ СВОЕЙ ПАРТИИ ДЕТСТВА!»
Альберту Анатольевичу Лиханову, известному писателю, педагогу, академику, лауреату Государственной премии России и многих других наград, руководителю Российского детского фонда и президенту Международной ассоциации детских фондов 13 сентября исполняется 75 лет.
Беседа Олега Юшкова с Альбертом Лихановым
– Альберт Анатольевич, у вас юбилей, довольно солидная дата, и, наверняка, многим читателям, поклонникам интересно: а сколько же лет по внутренним мироощущениям даёт сам себе «адвокат детства»?
– Я не знаю, сколько мне лет, это острый вопрос. По тому, что ещё предстоит сделать, где-то лет пятьдесят, а по тому, что знаю о детских страданиях, наверное, – лет двести. Жаль, что у меня мало времени и жизни бороться с бюрократами, уговаривать состоятельных людей помочь детству. Из-за этого чувствую себя немощным старцем.
Вот лишь один пример. К нам обратилась женщина, работник подмосковного детского туберкулезного санатория, которому из-за кризиса прекратили выделять средства на санитарную обработку помещений. Нет обыкновенных моющих средств, швабр. По сути, санаторий превратился в антисанаторий! Наш фонд помог, собрав нужное. Но здравнице вообще нужен срочный ремонт. И хотя требуется не так уж много денег – порядка двух миллионов рублей, но и их, как ответили на наше обращение к губернатору Московской области Борису Громову из областного Министерства здравоохранения, для тубсанатория нет. Помощь обещал «Лукойл», но пока денег нет.
– Расскажите, как взрослел сначала Советский, затем Российский детский фонд?
– Сейчас общественный фонд легко могут создать три человека, «скинувшись» паспортами и написав устав, а когда в 1987 году я инициировал создание Советского детского фонда, требовалось решение Политбюро и Совета Министров СССР. Так что я до сих пор поражаюсь, как всё получилось. Просто тогда был проявлен интерес к самой проблеме – сиротскому детству и выказано настоящее доверие «гражданскому обществу», о чём сегодня так любят поговорить. Народ, от пионеров до пенсионеров, с радостью и желанием поддержал нас, присылая хоть и небольшие деньги, по рублю-полтора, по 10 рублей, но их число измерялось сотнями тысяч. По утрам мы получали огромные крафт-мешки с корешками переводов.
За время нашего существования мы сделали многое и именно на государственном уровне. Например, в домах ребёнка Советского Союза разукрупнили все группы с 20 до 10 малышей, таким образом, увеличив число работников (до этого полагалось лишь по 2 няни, неизвестно как справлявшихся со своими обязанностями), а на зарплату им выделили наши общественные деньги. На них же почти всем детским домам купили около 1500 автобусов и грузовиков.
У нас были такие проекты, на мой взгляд, неповторимые сегодня вообще, например, медицинский десант. С 1988 года в течение трёх лет посылали медиков в регион Средней Азии и Казахстана на 90 дней (2000 медиков в первый год, 1500 во второй и 1000 в третий). Это была работа в полевых условиях. Врачи спасали от младенческой смертности ребят, которые гибли от дизентерии. За три года детская смертность в Советском Союзе снизилась на 16%! Потом мы учредили институт специальных доверенных врачей, отправив в каждую область республик Средней Азии по три врача, работавших там по три года. Мы финансировали их, а они от имени Минздрава требовали исполнения санитарных, медицинских норм и боролись не только с младенческой смертностью, но и за всё состояние детского здравоохранения.
– Назовите число мальчишек и девчонок, стоящих за вашими с Фондом спинами.
– Такой учёт никто не ведёт. Делая добро, не следует считать облагодетельствованных, ждать благодарности, хотя за годы работы порой видели и чёрную неблагодарность.
Могу только сказать, что 10 тысяч детей Чернобыля военными самолетами мы вывезли на лето в 30 стран мира, 800 детей прооперировали в США – операции на открытом сердце, теперь эта работа продолжается в России, в Центре сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева, десяткам тысяч бесплатно вручали слуховые аппараты, глюкометры для детей с диабетом. Последние три года оказываем психологическую поддержку и медицинскую защиту детям из Южной Осетии. В 2008 году, когда произошли военные действия, мы собрали ребят у нас в реабилитационном центре, в прошлом году организовали три смены, в этом – две.
У нас есть и «штучные» проекты. После захвата школы в Беслане мы выявили, что 40 детей в результате гибели одного из родителей стали полными сиротами. Мы каждому открыли счёт на 50 тысяч рублей, 20 человек уже подросли и мы помогли им устроиться в вузы, получить шанс на счастливую жизнь. Сейчас они уже взрослые люди, но мы не забываем о них.
Была программа «Фронтовые дети Чечни», шефство над которой взял Иосиф Кобзон. Около 80 ребят, получивших огнестрельные ранения во время чеченской войны, проведены по жизни индивидуально, им мы открыли счета, собирая каждому по возможности по 20 тысяч долларов. Некоторым семьям на эти средства покупали целые дома. Один мальчик, потерявший руку и глаз, уехал с мамой в Казань, там мы им купили квартиру. Мальчик поступил в Казанский университет на физический факультет, закончил аспирантуру, специалист по ядерной физике. Ещё одну четырёхлетнюю девочку, у которой одним снарядом оторвало обе ножки и убило мать, раз в полгода возили в Москву делать новые протезы. Много лет так делали, ведь человечек растёт!
Ещё хочу сказать о семье Мининых, сильно пострадавшей в южно-сахалинском землетрясении в 2007 году. Погибли четверо детей, родители жены, другие близкие родственники, чудом выжили только муж и жена, которой ампутировали обе ноги. Супругов отправили в Хабаровск, в качестве компенсации дали однокомнатную квартиру. С горя они запили, и тогда приняли удивительное решение – спастись рождением новых детей. И этим двум детям мы назначили наши скромные стипендии по одной тысяче рублей в месяц до их совершеннолетия. Мининым и многим другим требуется признание, чтобы кто-то понял, что они победили невзгоды и продолжают жить. Перед таким подвигом надо снять шляпу!
– С одной стороны – вы писатель, приверженец слова, образа, с другой – организатор, с последовательно вытекающим счётом перевёденных для Детского Фонда средств, отправляющихся затем на помощь детям. Так всё же, по прошествии лет, какую из сторон в своей жизни вы считаете действенней – буквенную или цифирную?
– Слово, конечно, выше, оно должно облагораживать людей, подстёгивать к попытке анализа, в литературе я и стремлюсь к этому, хотя никакой миссии в этом не вижу и не признаю. Я пишу для себя, пишу, о чём болит сердце, что считаю требующим соучастия, сострадания. А цифры и деньги для меня не самоцель, лишь способ помочь кому-то. Отношусь к ним, как к исполнительской функции Фонда.
– За так называемый кризисный 2009 год число долларовых миллиардеров в России возросло почти в два раза. По идее во столько же должно было увеличиться меценатство (если, конечно, вообще такое понятие ещё живо, смещённое спонсорством, сколько дающим, столько и «отбивающим» обратно).
– Сейчас наш Фонд находится в состоянии конкурентной борьбы за выживание. Да, нам помогают, но среди спонсоров у нас нет олигархов, поскольку мы общественная организация, а они содержат личные, корпоративные фонды, через которые оказывают свою помощь. Для нас средств у них не находится. Но нам помогают бедные, средние, слабые, и программы решаются, как раньше.
– Одной из самых острых проблем незащищённого детства считаю «порочный круг», когда не устроившиеся и потерявшиеся во взрослой жизни сироты, детдомовцы, дети из неблагополучных семей рожают и бросают потомство, обрекая его на повторение своей истории жизни.
– Да, тиражирование сиротства печально. В России много подкидышей, живущих сначала в доме ребёнка, потом в дошкольном и школьном детских домах. Они просто не знают, что такое жизнь в семье, не имеют достойного развития, не понимают, кому они нужны после наступления совершеннолетия и как вести себя дальше!
Поэтому в 1988 году мы и создали систему семейных детских домов, которую тогдашнее государство поддержало, а новое в 1996 году свернуло. Идея состояла в том, что люди, имеющие нравственный и педагогический потенциал, берут в свою семью сразу не менее пяти детей, становятся для них родителями, родными навсегда. Такие семьи, кстати, очень продуктивны в сельской местности, дети обучаются быту, воспитываются через труд, если надо – и за огородом присмотрят, и корову подоят. Для родителей это должно признаваться работой, госслужбой, с зарплатой старшего воспитателя, социальным пакетом. В России мы создали 368 СДД, хотели бы и далее распространять это полезное изобретение, ведь только семья спасает сироту, в ней происходит освобождение ребёнка от комплекса бессемейного человека. Примечательно, что после закрытия семейных детдомов взрослые детей не бросили, но они оказались в экономическом, нравственном проигрыше, поняли, что особо-то государству не нужны.
– Четыре года назад в одной публикации Вы душераздирающе кричали «Не верю!», прося власть отказаться от идеи уничтожения детских интернатов и малокомплектных сельских школ, а, следовательно, от уничтожения жизни в глубинке. Закрывать их всё-таки стали…
– Да, я тогда написал статью в газету «Трибуна» – «Ямщик, не гони лошадей!». Это было косвенное обращение к президенту не закрывать сельские школы и детские дома, остановиться, придумать другие варианты. Не нравственный, не социальный, не психологический, а экономический интерес является главенствующим в этом вопросе. Содержание одного ребёнка в детском доме обходится от 150 до 300 тысяч рублей в год (большей частью идущих на персонал и коммуналку). Государство ввело термин «приёмная семья», которая в отличие от СДД может взять и одного ребёнка, а деньги выделяются лишь на содержание детей и так называемое «вознаграждение» родителям – этакий гонорар.
По нашим данным, сначала в приёмные семьи раздали 90 тысяч детей, а в 2007 году эти семьи вернули обратно 4,5 тысячи детей, в 2008 – 7,5 тысяч, в 2009 – 9 тысяч. Уже 30 тысяч детей вернули! А детских домов уже нет, их и землю под ними благополучно продали, а в которые возвращают – переполнены. Вот результат поспешно реализованной «стахановской» идеи, на грех всем нам и на беды, которые сегодня ещё не просматриваются. К сожалению, нет социально-этической и этнографической прогностики в этих областях, мы не знаем, сколько из этих возвращённых детей состоятся в жизни, получив травму повторно брошенных.
Что касается закрытия малокомплектных сельских школ, это вообще страшное преступление против России. Да народ вымирает, уходит из деревень. Но нужно было разработать, и сейчас, и впредь разрабатывать политику и тактику, чтобы люди не уезжали, а, наоборот, возвращались. Власть должна сохранить деревни, 19 тысяч из которых уже закрыты за последние двадцать лет. Есть три условия жизни на селе – церковь, фельдшерско-акушерский пункт и школа. Вот пример. Недавно в Белгородской области жители одной деревни пожелали строить храм, губернатор их поддержал. И что же? Со всех сторон стали съезжаться люди жить там. Я считаю, что церкви нужно энергично строить в деревнях, это один из ключей их возрождения.
С 1991 года по начало этого из 40 миллионов детей страна потеряла 13 миллионов. Можно говорить о демографической впадине, но на самом-то деле причина в том, что люди не хотят рожать! Они не хотят плодить нищету, не понимают, как быть, если ребёнок родится нездоровым, при условии платного здравоохранения и образования, а если живут в сельской местности – нет уверенности, что школу не закроют. Людям отрезают пути к моральной уверенности. Из-за отсутствия надежды сегодня много разводов. Нация рассыпается.
– Состоите ли в какой-либо политической партии?
– У меня своя партия – защиты детства, нужно ей, дай Бог, дослужить!
– Есть ли в современной детской литературе молодые прозаики и поэты, способные продолжить дело Корнея Чуковского, Самуила Маршака, Агнии Барто, Сергея Михалкова?
– Я бы не решился называть имена, и в этом нет вины тех, кто работает и придёт к соответствующему уровню. Чтобы стать классиком, нужно долго жить, много работать и, если говорить про литературу, часто печататься. Кроме этого, в детской культуре – величайшем феномене, созданном в советские годы, до которых были лишь отдельные вкрапления и имена, есть большая проблема: только выстроили эту культуру, как началось её порушение.
Нужно срочно переломить такую ситуацию. По моему предложению министр культуры Александр Авдеев создал Общественный совет по детской культуре, и уже прошли два заседания. Тема первого – чем может помочь культура детям риска, и второго – что происходит с детскими библиотеками. Только представьте себе: люди безродные, больные, вдобавок ещё и безграмотные! Кто из них вырастет? Самообразование и самовоспитание происходят именно при чтении, в детстве – детских рассказов, стихов, сказок. А мы их отдаём на беспривязное содержание телевидению.
– А если количество детей у нас ежегодно уменьшается, то, возможно, исчезнет и потребность в писателях для них?
– Но может получиться и так, что родятся новые люди и спросят: а где наша духовная пища? Что им отвечать? Извините, у нас был кризис, те, старые, уже несовременны, а новых, увы, не вырастили...
В моём возрасте трудно быть оптимистом, зная, что в нашей стране 130 тысяч детей в год оказываются без родителей. Свой юбилей встречаю с чувством обречённости, большой печали и некоего утешения, что я и мои близкие родились и выросли в другое время и в другой стране, когда мы ничего не боялись, не было взяток, репетиторов, и становились людьми благодаря своим личным желаниям, а не обстоятельствам и спросу.
– Дайте тогда детям, подросткам, всем молодым людям совет для сегодняшней жизни?
– Желаю молодым не оступиться и не ошибиться, добиваясь желаемого статуса. Увы, им теперь нужно обладать качествами совершенно не молодёжными, а взрослыми, я бы сказал, математическими, и точно высчитать свою дорогу в достаточно жёстких реалиях именно этого времени.