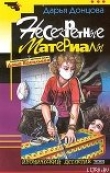Текст книги "Смерть на вилле. Часть первая (СИ)"
Автор книги: Неизвестен Автор
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 3 страниц)
На другом фрагменте обнаженный мужчина висел в петле, его голова судорожно запрокинулась, руки безжизненно свесились вдоль тела, и длинный исписанный свиток готов был вот-вот выпасть из них.
Третий представлял художника, прямо перед мольбертом полоснувшего себя по шее: на пустой холст, приготовленный к работе, струями лилась кровь из рассеченного горла.
Наконец, на четвертом фрагменте танцовщица летела с высокой башни, на лету изображая мудреное па. Здесь окружение сохранилось в наибольшей цельности: группа людей застыла у подножия башни в ожидании падения балерины. Но это не была театральная публика – их одеяния и позы явно отсылали к какому-то ритуальному обряду.
Чем дольше я смотрел на картины, тем больше находил подтверждений тому, что их автор – Босх. Решительно все говорило об этом, кроме одного – самого сюжета. Утверждать что-либо, не видя целого, сложно, но мотив самоубийства был налицо. Артисты-самоубийцы – тема слишком экстравагантная даже для Босха.
Настойчивый стук в дверь вывел меня из глубокой задумчивости. Слуга пришел сказать, что меня ожидают в столовой. Я поспешил за ним.
7.
Столовая была просторная, со светлыми стенами, и на них, как в выставочном зале, равномерно висели картины с изображением смерти.
В глаза мне сразу бросилось полотно, на котором худой юноша, почти мальчик, будто бы уснул в своей темной каморке под самой крышей: он лежит на бедной кровати, полуразвернувшись, бескровное лицо открыто взглядам, одна рука покоится на груди, другая свесилась до пола, и прослеживая ее линию, мы видим по одну сторону раскрытый сундучок и разбросанные клочки бумаги, а по другую – аптечную склянку, опрокинутую на бок, пустую. Этот мальчик мертв. Перед смертью он перечитывал свои стихи, рвал и комкал листы в безнадежной ярости, а потом принял средство от всех невзгод. Ему было семнадцать лет. Его звали Томас Чаттертон.
– Ну! И долго ты собираешься пялиться на картины? – крик Базиля вернул меня к действительности, и я переключил внимание на ту часть комнаты, где стоял продолговатый черный стол с закругленными углами. За столом в напряженно прямых позах сидели десять таких же черных скелетов, грудные клетки и черепа высились над столешницей, а кости рук покоились на невидимых подлокотниках. Они были выполнены столь реалистично, что казалось, будто Базиль и Авесоль сидят на коленях у скелетов.
Я тоже устроился за накрытым столом. Кресло оказалось удобным. И теперь у меня перед глазами были другие две картины, не менее известные, чем «Смерть Томаса Чаттертона».
На одной мужчина буднично застрелился на полуразобранной постели, кругом бедная обстановка меблированной комнаты. На другой красивая женщина в вечернем платье бросилась с небоскреба и теперь лежала, раскинув ноги и руки, глядя живыми глазами прямо на зрителя; вокруг головы лужа крови, и нижний край рамы весь в кровавых потеках.
– Эй! Casagrimo! – снова крикнул Базиль. – Вина выпей!
Я удивился такому предложению, но Базиль уже наливал в бокал, расписанный черепами, из графина, инкрустированного черепами. При этом ревел он, как рыночный зазывала:
– Это же не вино! Это ар!те!факт! Намасское! от Ричарда и Беренгарии!.. Нет! с Обеда Пяти королей!
Я выпил вина и взялся за приборы – их серебряные рукоятки были в виде скелетов, молитвенно воздевающих руки. Обдумав тон, я заговорил не слишком заинтересованно, но и не равнодушно.
– В моей комнате на картинах тоже сюжеты с самоубийством.
– Ха! Ты зайди в мою! Там такая выставка ритуальных орудий, что! любо-дорого!
– Самоубийство есть наивысшая степень проявления человеческого самосознания, – сказала Авесоль, спокойно управляясь с ножом и вилкой. – Из всех видов смерти я ценю его наиболее высоко. И предметы, выражающие его, выделяю особо.
– Предметы, выражающие его? – переспросил я, больше думая о своем.
Базиль заухал, как филин, но по-человечески ничего говорить не стал.
– Грань между сущностью и выражением очень тонкая. Между самоубийством и картиной, изображающей самоубийство, разницы почти никакой. Искусство предъявляет саму суть акта, его настоящий смысл, провал или торжество. – Авесоль обернулась на падающую с небоскреба женщину. – Процесс континуален, и в этом смысле картина более, чем реальность, является подлинником.
Пребывая во власти терзавших меня сомнений, я слушал Авесоль без внимания, однако слово «подлинник» сработало, как спусковой механизм, и я воскликнул:
– Но подлинников здесь быть не может! Эта картина, – я указал на работу Фриды К***, – находится в Художественном музее города Феникс, штат Аризона. Вот та, – я кивнул на Клода М***, – принадлежит частному музею в Швейцарии. А «Смерть Чаттертона» хранится в Tate-gallery!
– Я говорила о другом, professore, – с опасной вкрадчивостью ответила Авесоль. Она отвернулась от картины и смотрела на меня запавшими седыми глазами с дымчатой точкой зрачка. Я не окаменел, и она
продолжила: – Но разумеется, только подлинник имеет значение.
– О подлинник! – вскричал Базил, воздевая руки, как дурачок. – Велика сила твоя!
– Лишь подлинник, – не глядя на Базиля, говорила Авесоль, – становится фактом бытия. Копия – это бессмысленный набор цветовых пятен, она просто повисает в воздухе и ее уносит ветром, как старую газету с выдуманными сплетнями. В моем доме все вещи настоящие. Настоящая мебель, настоящая посуда, настоящее искусство.
– Все для ис!пользования по! назначению! Вот правда же! созерцание подлинника становится фактом! биографии!
– И Босх в моей комнате настоящий, – недоверчиво сказал я.
Авесоль кивнула.
– Ой да! А какое здесь собрание vanitas! А dance macabre! Все настоящее! Прими как данность! Пойдем!Ты увидишь! Я тебе сейчас все покажу! – и Базиль принялся энергично утираться салфеткой.
– Сделай одолжение, – согласилась Авесоль. – До обеда полно времени.
– Полно! Как же! Успеем только второй этаж пройти! И то! если этот! – кивок в мою сторону – не будет без конца па!ра!зудить! Ну! вставай же! – прикрикнул он на меня. – Идем!
Но я все-таки сперва закончил завтрак.
8.
Коридор на втором этаже мерцал в сумраке белым мрамором. Вдоль стен стояли гигантские бронзовые канделябры – задрапированные в тоги скелеты в человеческий рост. Слегка изогнувшись и выставив из складок одеяний костлявые колени, они придерживали на черепах широкие чаши, в которых горели толстые мертвенно-желтые свечи. Я почувствовал себя персонажем готического романа.
Базиль молчал!
Мы словно шли по царской усыпальнице, где веками хоронили потомков могучего рода. Склеп справа, склеп слева, там, во тьме – саркофаги ли? полки ли с гробами?.. Впереди было непроходимо темно и неясно, заканчивался ли где-то коридор или уходил в бесконечность.
Конец и бесконечность, смерть и вечность связаны неразрывно: одно одновременно и отрицает другое, и осуществляет его. Если бы не идея бессмертия, смерть была бы незначимой частью бытия, настолько частным событием, что никто, кроме непосредственного участника, не обращал бы внимания на процесс. Идея бессмертия сделала каждую смерть частью великой тайны, и теперь даже мимолетное упоминание о гибели незнакомого, затерянного в веках человека, заставляет любого из нас хоть на полмгновения, но почтительно замереть внутри себя. Таким образом, простой биологический акт превращен в последний удар мистического колокола, который делает известным роковой час, и свершившаяся жизнь ложится еще одним фрагментом вечности.
Но так же, как бессмертие наделяет значимостью смерть, так и смерть – единственный проводник в бессмертие. Лишь она одна способна обратить вечное становление в свершившийся и непреложный факт, объективно вечный. Если жизнь окончена – она состоялась, и ни время, ни пространство, ни человеческая память не может отменить эту данность. Вспомнит о ней кто-нибудь или нет, чья-то жизнь, освященная смертью, становится частью Космоса навсегда.
Смерть и бессмертие одинаково непостижимы по отдельности и обретают смысл только рядом друг с другом. Они как причина и следствие, которые постоянно меняются местами.
9.
Гостиная была воздушно-голубого цвета. Под потолком по всему периметру шли снежно-белые рельефы, столь изящные, сколь и замысловатые. Они изображали убаюкивающие пасторальные картинки, только вместо пастушков и пастушек были скелеты. Например, один из них, сидя в беспечной, нога на ногу, позе, выпускал через тростинку мыльные пузыри. Мрачный смысл аллегории контрастировал с ажурной легкостью и радостным цветом рельефа, – вот таково же соотношение жизни и смерти: беглая кисть жизни выписывает красивые завитки, но сколько бы они не вились, какой бы замысловатый узор не образовывали в совокупности, лишь смерть придает ему окончательный, непременно мрачный, смысл. И как на этом рельефе, присутствие смерти постоянно, – жизнь во всякую секунду проникнута смертью, которая незрима и неосязаема, но в любое мгновение может проявить себя. Лишь поверхностный взгляд видит жизнь самоутверждающей; нет! Жизнь всегда говорит нам о смерти, о каких бы ее проявлениях не зашла речь… Вот сейчас умерло мгновение. И другое за ним. И следующее. Так умолкнет вся жизнь, выступит неведомо откуда смерть, вся из маленьких светящихся мгновений-мотыльков, и пойдет рядом, возьмет под руку, начнет толковать о бессмертии.
Бессмертие. Оно погрязло в словах, как вон на том полотне распятие утопает в куче лоснящихся, избыточных фруктов. Из груды винограда, лопнувших гранатов, вишни и инжира сбоку торчит тонкий деревянный крест. Он не распятие само по себе – он символ, и даже не самостоятельный, а лишь уточняющий: он сообщает, что в данной композиции лопнувший гранат не является эмблемой плодородия, как то могло бы быть, а означает искупительную жертву Христа; жертву, которую люди забывают в постоянной суете грехопадения (виноград), занятые всякими разными приятно-увлекательными делишками (инжир и вишни – эротические символы). Вот так же и с бессмертием: завалили пышными образами, пафосными речами, философскими терминами, и оно превратилось во вспомогательное, полное условностей понятие. Тогда как бессмертие – это вам не тема для диссертации. Это реалия, требующая всей сосредоточенности понимания. Средневековые художники, некоторые из них, знали о том. Но их попытки приоткрыть завесу всегда оканчивались констатацией отчаянного бессилия, что представлялось совершенно очевидным в зале, где Авесоль собрала коллекцию vanitas.
Картины размещались очень плотно, стены буквально были ими увешаны, большие работы окружались меньшими, все походило на мозаику, на первый взгляд довольно бессмысленную, однако стоило вглядеться, и символы начинали выстраиваться в прекрасную полифонию смыслов, ведущих зрителя, впрочем, к все равно закрытой наглухо двери. Песочные часы. Курительная трубка. Цветы. Колоски. Раковины. Зеркала. Бутылки. Все они – не случайные предметы, и вообще не предметы, а эмблемы и символы, части криптограммы, которой является каждая картина жанра vanitas. Ты тянешь ниточку от символа к символу, азарт разгорается, процесс превращается в увлекательную погоню, летишь от разгадки к разгадке и со всего лёта ударяешься о непроницаемую непостижимость. Вот она, ее констатация – сургучная печать на манускрипте. Означает тайну, которая не может быть разгадана. Смерть не перестает быть тайной ни издали, ни вблизи. Даже если умираешь прямо сейчас, смерть остается как всегда таинственной и для тебя, и для всех. Тайна – глухой покров. Наивные люди принимают ее за какой-то секрет, к которому можно поискать и найти подходящий ключик. Но тайна – совсем иное. Чтобы передать это, живописцы vanitas придумали изображать сломанный ключ. Он лежит на виду, ключ от заветной двери, но абсолютно бесполезен, так что дверь как была заперта, так и останется. Навсегда.
– Ну? Каково?! – громыхнул у меня над ухом Базиль. – Как тебе подборочка? Вон того Класа я, между прочим, добывал лично!
Я скользнул взглядом по картине, на которую указал Базиль. Там говорилось о неотвратимом уделе книжника, которому ни пытливость, ни познания не помогли; и чаша жизненных удовольствий опрокинута, и светильник угас, ибо масло в нем закончилось.
– Как добывал? Лично из музея выносил?
– Представь себе! Угадал!.. Но когда охранник назвал стоимость своей услуги! Я думал, что даже Авесоль откажется!
– Ты правда хочешь сказать…
– Да будет тебе! Все же ясно, как белый дым! – Базиль любит «потрясать основы» и превращать устоявшиеся выражения в абсурдные, зато, по его мнению, оригинальные.
– И что, в этом зале все работы краденые?
–Нет, конечно! Вот тот Ле Хим! куплен на аукционе!
Я снова окинул комнату медленным взглядом. В ней выставочный зал и гостиная, существуя в одном пространстве, хранили каждый свою отграниченность. Они не мешали друг другу, и тот, кто хотел, мог начисто игнорировать гостиную, или наоборот. Но была и такая точка ракурса, из которой они, накладываясь, становились едины, – тогда жилое помещение превращалось в помещение, сакрализованное смыслами, и функционал комнаты бесконечно расширялся.
Заявление Базиля меня не шокировало.
Искусство – это дух, интеллект и благоговение. Загонять искусство в музеи – все равно, что консервировать воздух: и не увидеть, и не надышаться, – там не может быть ничего, кроме рам и холстов, а попытка разглядеть нечто большее будет так же успешна, как мазурка в бочке. Музейный базар – не место для молитвы. Музейная индустрия, как похоронное агентство, плодит кладбища искусства, по которым мечутся очумелые толпы, воображающие, будто можно набиться впечатлениями, как жратвой у шведского стола. Искусство не может принадлежать толпе. Безграмотному ни к чему наполненный вековой мудростью манускрипт. Для непосвященного не имеет смысла священная реликвия, тогда как святой Антоний видит в самом простом распятии отражение Вселенной. Поэтому одно полотно в потайной комнате для одного стоит всех увешанных картинами коридоров Лувра и анфилад Эрмитажа. Как художнику нужны краски, чтобы высказаться, так картине нужен зритель, чтобы состояться, но невежда не может быть таким зрителем. Для него эта наполненная молитвенными знаками комната – только гостиная, без вариантов.
– Меня теперь не удивляет, – сказал я, – что сюда непросто попасть. Удивляет, что люди отсюда уходят.
– Вот! – крикнул Базиль. – Вот об этом! особо! Тут, знаешь! и вход, и выход платные!
– Вроде бы я ничего не платил.
– Значит! возьмут с тебя двой!ную таксу!
10.
В большой библиотеке высокие узкие шкафы с застекленными дверями стояли вдоль стен и поперек зала, образуя особые зоны, где можно было удобно разместиться на диванчике либо за столом.
Вся стена слева от входа от пола до потолка была занята портретами писателей – они висели ровными рядами, все одинакового размера, в одинаковых рамах и выполненные в единой манере в коричневых тонах. Даже беглый взгляд уверил меня, что все они написаны одним мастером, почему-то неизвестным мне. Художник был виртуоз: портреты являли ускользающую суть, которая не может быть высказана.
Вглядываясь в звездное небо, мы всем существом чувствуем его божественность, но Бога не видим. Когда мы держим в ладонях что-то живое, мы осязаем его, но нисколько не приближаемся к пониманию истоков той энергии, которая пронизывает его каждую клетку. Можно сколько угодно вглядываться в покойника, но это не приблизит нас к разгадке смерти. Звездное мерцание заключает в себе тайну Бога, как всякий организм заключает в себе тайну жизни, а всякий покойник – тайну смерти, но они непостижимы для нас. Они на виду, но сокрыты. Таково и искусство: всегда есть непрочитываемый элемент, в котором заключено главное и без которого картина остается просто раскрашенным куском ткани, картона или дерева.
Среди изображенных персоналий я видел писателей из различных эпох, и в том числе тех, кто завершил земной путь относительно недавно. Стало быть, портреты не могли быть написаны в XVII веке. Более того, по некоторым приметам я понял, что автор – современник мне.
Роберт Бертон. Генрих фон Клейст. Жерар де Нерваль. Мисимо Юкио. Ян Потоцкий… Странный выбор. Почему английский XVI век представляет Бертон, а не Шекспир? Почему от немцев здесь фон Клейст, а не Гете? Почему де Нерваль, а не Гюго? Мой взгляд остановился на лице Пьетро делла Винья. И вдруг померещилась струйка крови, стекающая по широкому лбу из-под волнистых прядей. Немедленно в памяти всплыли строки Данте:
Когда душа, ожесточась, порвет
Самоуправно оболочку тела…
Потоцкий застрелился самодельной серебряной пулей. Де Нерваль повесился. Юкио покончил с собой ритуальным мечом. Гаршин сбросился с лестницы в подъезде, Успенский зарезался в переулке, Писарев утопился, Маяковский застрелился…
– А почему здесь Пушкин, Толстой и Гоголь? – обернулся я к Базилю, копавшемуся в ближайшем шкафу.
Он выглянул из-за дверки.
– Что? Что? Почему Пушкин? Почему Толстой? Так они ведь тоже! того!
– В каком смысле?
– А по-твоему, что ли, вызвать на дуэль стрелка, который регулярно попадает в карточного туза с десяти шагов, – это не самоубийство? А в восемьдесят лет уйти из дома куда глаза глядят – это не самоубийство? Да больше шансов у висельника, что веревка оборвется!
Я подумал и спорить не стал. Кто разберет этих русских: они стреляются без намерения умереть и живут в поисках погибели.
Желание смерти – эхо жертвоприношения. Желание освободиться, прекратить, но и обрести, переменить, искупить. Обменять. Жизнь – на смерть. Выкупить. Смертью – жизнь. В принесении жертвы выражается теснейшая взаимозависимость жизни и смерти, основ Бытия. Поэтому жертвоприношение есть стержень мироустройства и в том или ином виде присутствует в каждом мифе, в любом ритуале. Однако если жертва не просто покорна необходимости, а сознательно принимает гибельный венец, тогда ее сакрализация достигает высшей точки, и обмен происходит по самому большому счету. Покончив с собой, Геракл поднялся на Олимп и стал богом. Один человек, добровольно взошед на крест, вернул нам бессмертие, тогда как толпы зарезанных безымянных пленников никак не оправдали надежд ацтеков.
Здесь мне непроизвольно вспомнился некто, найденный спустя шесть тысяч лет после погребения. Сначала его лишили пола, перебив лобковые кости. Когда раны заросли, то есть примерно через год, его подвергли огненной ордалии и вынули глаза, заменив их на угли, после чего умертвили посредством усекновения головы и похоронили, приставив голову обратно к телу. Чем больше ожидания, тем изощреннее процесс жертвоприношения.
Я отошел от портретов и приблизился к книжному шкафу, в котором продолжал рыться Базиль.
– Книги тоже все о смерти?
– В каком-то смысле, – ответил Базиль и продекламировал: – Все говорит о том, что час пробьет – и время унесет мою отраду!
– Ты притупи, о время, когти льва, – отозвался я и вынул из ряда книг один древний фолиант.
Готический переплет был превосходно сохранен. Старая кожа как-будто сообщала пальцам некие особые импульсы; касаться древней книги для меня было отдельным от всего прочего переживанием, имеющим с удовольствием столько же общего, сколько с ним имеет молитвенный экстаз.
Касаться древности – это само по себе прикосновение ко времени, но старинная книга привносит в категорию времени особый останавливающий смысл, ибо высказанная мысль навсегда пребывает в настоящем, как оконченная жизнь навсегда становится свершившимся фактом. Даже позабытая, она продолжает объективно существовать.
Ни прошлое, ни будущее не властно над изреченной мыслью, хотя и то, и другое у нее есть. Правда, совсем не такое, как у нас. Наше прошлое – рождение – всегда в прошлом. Наше будущее – смерть – всегда в будущем. По дороге времени мы идем только в одну сторону. Все конкретно, грубо, материально, тогда как…
– Ну! – крикнул Базиль. – Что ты там вытащил?
Я раскрыл книгу.
– «Pseudomonarchia Daemonum». Вейер. 1583 год.
– Вейер-Вейер, – задумался Базиль и вспомнил: – А! Милость к падшим призывал!
Можно было сказать и так.
Йоган Вейер, английский врач и гуманист, в самый разгар европейской охоты на ведьм выступил с призывом прекратить борьбу с последствиями и обратиться к причинам. Ведьмы, заявил он в тактате «De Praestigiis Daemonum», суть не причина, а следствие: они стали орудиями сатаны, поскольку по слабости ума не cмогли противостоять его демонам. Но нельзя же истреблять людей за глупость – вернее было бы обратить гнев против истинного виновника, дьявола.
– Да! – продолжал Базиль. – Благими намерениями! он стольким бабам! вымостил дорожку на костер!
Действительно, «De Praestigiis Daemonum» вызвал такой резонанс, что написаны были еще десятки трактатов, куплетов и памфлетов, – все с последовательным опровержением идеи милосердия. И ведьм стали жечь с удвоенной энергией.
– А эта!.. псевдомонархия!.. это что-то там про обращение с демонами! вроде инструкции, так?
«Pseudomonarchia Daemonum» была написана из сугубо практических соображений – чтобы вооружить охотников покомандовать демонами, Вейер составил рекомендации «по безопасному пользованию», сочинив также характеристики на каждого известного ему черта.
– Давай! – толкнул меня Базиль. – Открой двадцать третью страницу! Пятая строка сверху! Ну!
И там я прочел:
– “Artium cognitionem dat, interim dux omnium homicidarum” (“Дарует познание искусств, в то же время являясь главой всех человекоубийц”).
– Тьфу ты! – сказал Базиль.
11.
Следующая комната была еще больше библиотеки и так напоминала зал католического храма, что мне даже померещилось в темной глубине гигантское распятие.
Справа помещались ряды деревянных скамей на фоне стены, расписанной грандиозным dance macabre. Полуразложившиеся мертвецы увлекали длинный хоровод дам и кавалеров туда, где над залом возносилась большая кафедра. Словно вырастая из пола, она покоилась на толстых будто бы выпирающих корнях; корпус оплетали большие ветви – они, как столбы, поддерживали навес, на котором царственно раскинулась сама Смерть в богатых ризах и с гигантской косой. Ее широкое лезвие торчало вверх. Смерть полулежала, положив локоть, как на подушку, на отрубленную мужскую голову; мертвое лицо с закатившимися глазами имело страдальческий вид. Смерть нахально усмехалась из-под античной короны.
На левой стене не от пола до потолка, но от края до края протянулся жуткий светящийся витраж. В пышном дворцовом зале по бледно-желтым трупам пробирается серое костлявое чудовище. Огромная коса в его руках перечеркивает черным зигзагом всю картину. Чудовище подбирается к царю, восседающему на троне в ярких парадных одеждах; подбирается и алчно глядит на царский скипетр; глядит и протягивает к нему свою мертвую длань с крючковатыми пальцами. И хотя смерть еще далеко, она только начала свой путь от двери и чтобы достичь трона надо пройти еще через весь зал, царь видит ее, не может оторвать от нее взгляда, и на лице его ужас.
Эти две фигуры, застывшие по разные стороны пространства поражали воображение, но смерть как возмездие – примитивный взгляд. Смерть не может быть наказанием потому же, почему не может быть наказанием неизвестно что. “Я не знаю, что я с тобой сделаю!” – в сердцах грозится человек обидчику и сам не понимает, что выражает таким образом желание убить. Смерть по сути непостижима, можно лишь уловить отдельные смыслы, оттенки, как отсветы на гранях кристалла, чья сердцевина остается скрыта. В этих отсветах становится видно, как смертью осуществляется человеческое бытие, как смерть превращает бесконечное становление в свершившуюся бесконечность, как делает непонятное осмысленным, завершает несовершённое. Когда становление замирает и приобретает законченность, только тогда и можно понять и оценить его масштабы, его намерения и степень и качество их воплощения. Если бы не смерть, мы вообще никогда ничего не стремились бы довести до конца.
Я прошел в конец зала, совершил за смерть путь к престолу, и оказался у подножия еще одного гигантского артефакта, – это его я издали принял за распятие. Я не то чтобы совсем ошибался: Христос был там. Он лежал на коленях вытянутого, как жердь, скелета.
– Sancta muerte! – крикнул Базиль. – Мексика!
– Так выглядит pieta у мексиканцев? – спросил я.
– Ха! Вроде того! Это у них теперь вместо Коатликуэ! Святая Смерть! Всеблагая, справедливейшая, одинаковая для всех! Христианские проповедники триста лет вдалбливали в туземцев Отца и Сына и Святого Духа; заставили сдать в музей древних божков в ожерельях из отрубленных рук и вырванных сердец, но! мексиканец без культа смерти – это вздор! Вот вам, пожалуйста! Святая Смерть! Которая одолела даже католического бога! Такая вот фига европейцам! Я привез скульптурку для Авесоль, а она соорудила из нее алтарь!
Смерть всегда была объектом поклонения в большей степени, чем жизнь, – это связано с изначальным интуитивным пониманием, что именно смертью обусловлено бессмертие. Как новое рождение неизменно приводит к мысли о конечности сущего, так попытки постичь смерть неминуемо вызывают размышления о бесконечности: человеку идея исчезновения, аннигиляции, представляется абсурдной, невозможной, неприемлемой. Однако отрицая смерть и вставая на путь осмысления бессмертия, человек так же скоро приходит и к его неприятию, ибо вечность – это слишком долго для понимания человека. Таким образом, человек одинаково сомневается и в смерти, и в бессмертии, но в разное время, с разного расстояния и разных позиций. Чем ближе человек к смерти, тем разумнее ему представляется идея бессмертия, и наоборот. Человек как-будто бы помещен на прямой отрезок между этими двумя понятиями, и по мере приближения к одному, от другого он закономерно удаляется. Древний человек жил бок о бок со смертью и не мог игнорировать вопрос бессмертия. Вообще, теория Спенглера, утверждающая происхождения религиозного культа как такового из первобытного поклонения смерти, мне представляется довольно аргументированной. Храмы – трансформация могильника, молитвы – отголосок воззваний к умершим, ритуалы – тень древнейших погребальных обрядов.
Скульптура Santa Muerto была деревянной, выполнена и раскрашена грубо, но в ней чувствовалась первобытная мощь и подлинность, достойная роскошного окружения, и она не выглядела чуждой рядом с шедевральными кафедрой, витражом и фреской.
– Здесь проходят религиозные собрания? – спросил я.
– Как сказать! – отозвался Базиль. – В каком-то! смысле все! собрания – религиозные! Тут иногда собирается спе!ци!фическая компания, и у них имеются вполне! оформленные фетиши! У них есть что-то! во что они верят! и кто-то! кому они поклоняются!
– Я полагаю, это Авесоль.
Базиль вздохнул и вдруг загрустил.
– Н-даа, – сказал он, снова вздохнул и будто задумался.
– Так а что ты привез сюда в четвертый раз?
– А?! – встрепенулся Базиль.
– Ты рассказывал, а я слушал, что в первый раз ты притащил сюда алтарь богини Хель, культа которой больше не существует. Была картина Ле Хима, не так ли? И эта статуя, Sancta Muerte. А что еще, ведь ты был здесь четыре раза, если я правильно запомнил?
Базиль некоторое время хлопал на меня глазами, а потом буркнул:
– Идем, покажу!
12.
Стены рабочего кабинета Авесоль были обиты узорчатым шелком. На черном фоне перемежались сероватые черепа, грязно-белые перья и бледно-розовые лилии – цветы невинноубиенного.
Словарь символов смерти вышел бы увесистым фолиантом, все внесли свою долю. Шумеры представляли умерших в одеждах из птичьих перьев. У африканцев смерть – белого цвета. Египетская преисподняя Дуат обозначалась кругом со звездой в центре. Образ смерти в виде скелета накрыл Европу ребристым сводом готического храма – в каркасной системе готической архитектуры с ее стрельчатыми арками, нервюрами и контрфорсами ясно видится четвертый всадник Апокалипсиса. На острове Пасхи смерть ассоциировалась с черепом.
Обширная коллекция человеческих черепов с элегантной небрежностью была расставлена по всей комнате. Каждое пространство, достаточное того, чтобы череп там поместился, было занято им: на письменном столе, в книжном шкафу, в нишах, на каминной полке, на тумбочке возле дивана, на этажерке у двери. Здесь были череп православного монаха с черной старославянской надписью на лбу; тибетская габала, богато украшенная резьбой; индийская габала, обделанная золотом и каменьями; череп с посмертной глиняной маской на нем, как это принято было в Вавилоне; мумифицированные головы из Южной Америки и Африки… и великолепный образчик старинного часового мастерства – на тонкой мраморной подставке, покрытой металлической пластиной, на перекрещенных медных костях лежал медный же череп в натуральную величину; на лбу у него крепился бронзовый циферблат с крупными римскими цифрами.
Письменный стол стоял точно посреди комнаты и в окружающем его хаосе из вещей и вещиц являл эталон космического минимализма: сам он был прост, прямоуголен, и такие же простые прямоугольные вещи аккуратным образом располагались на его поверхности, – письменный прибор из черного оникса, тонкий ноутбук с опущенной крышкой и стопка чистой бумаги под пресс-папье. Островок супрематизма среди излишеств живописи позднего Средневековья.
Базиль с порога оглядел комнату, что-то выискивая, а найдя, по-хозяйски прошелся по кабинету туда, где стоял роскошно инкрустированный вирджинал. Там, вперемешку с тканями, бумагами, цветами и драгоценностями тоже лежали несколько черепов. Базиль помедлил, выбирая, и наконец, взял один. Затем он вернулся к столу, убрал пресс-папье и на его место водрузил череп со словами:
– Ты хотел знать, что я привез в четвертый раз? Это!
Инсталляция получилась занятная. Во лбу черепа отчетливо виднелось маленькое аккуратное отверстие.
Средневековые лекари дырявили черепа живым людям в попытке избавить их от душевных недугов – “меланхолии”. На известной картине из одного дурака таким образом достают “камень глупости”. Я вспомнил любопытную игру смыслов, в которой старые устоявшиеся обретают новое значение: пара башмаков, стоящих под стулом пациента и обычно обозначающая супружескую верность, на этой картине стала знаком такого же нерушимого союза глупости и обмана.
– Ты привез сюда череп, Базиль? – спросил я задушевно.
Он потупился, легонько постукивая пальцем по костяному темени.
– Это Николас К***, – сказал он. – Художник.
– Который рисовал стрелки и породил шумную дискуссию после того, как застрелился? – вопрос я задал рассеянно, так как расположение вещей в кабинете постепенно завладело моим вниманием.
Картины, книги, статуэтки, канделябры, шкатулки, музыкальные инструменты, различные аксессуары, а так же странные предметы из металла и дерева, назначения которых я не мог угадать, – своим изобилием они напоминали недавно увиденные средневековые полотна vanitas или работы упомянутого Босха: так же плотно они размещались на ограниченном пространстве, отвечая желанию автора вместить как можно больше знаков, высказаться полнее, ни о чем не забыть. Хаосом все это казалось только на первый взгляд. Я задержал взгляд на виргинале, откуда Базиль забрал один череп. Среди нотных листов, черепов и драгоценностей там лежали искусственные розы столь изумительной работы, что я почти что уловил тонкий аромат, будто бы исходивший от них. Кому-то розы говорят лишь о красоте и любви, но среди всех ее символических смыслов, коих список предлиненн, выражение смерти и жизни, именно в такой последовательности, наиболее древний. Розами напутствовали своих покойников древние римляне и вслед за греками они утешали смертную тоску картинами пышно цветущего Элизия: “Ты мне, Венера, пролей свет Елисейских полей, Где… Щедрый кустарник возрос благоухающих роз”. Для живущих роза служила знаком смерти, – и сейчас еще суеверный садовод от греха подальше обрезает кусты перед морозами, а то не дай бог распустится одинокий цветок недвусмысленным обещанием скорых похорон. Но для умерших эта же роза являлась знаком возрождения, – форма полураспустившегося бутона стала образом чаши с эликсиром вечной жизни. Зацветающие по весне розы дарили надежду на непременное возвращение. И почему бы мертвым тоже не оживать весной хоть ненадолго, если все вокруг оживает и так прекрасно? Символ столь тесного существования смерти и жизни не мог случайно оказаться рядом с нотами и музыкальным инструментом, ибо музыка – такое же олицетворение как смерти, так и ее преодоления; чтобы явилось что-то новое, говорит нам музыка, старое должно умереть: так гибнет жертвенное животное, из костей которого сделают флейту, а из шкуры – тимпан. Нескончаемая череда смертей и рождений, этот космический круговорот, человеческим осмыслением которого стало жертвоприношение, и проще, и полнее, и понятнее всего выражается именно музыкой, оттого музыка – язык богов, коим единственным надлежит разговаривать с ними, если желаешь попытаться быть понятым.