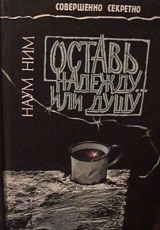
Текст книги "До петушиного крика"
Автор книги: Наум Ним
Жанр:
Разное
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 5 страниц)
Вадима завели в кабинет, и там да столом, колюче растопырив локти, сидел маленький полковник, начальник тюрьмы, пожелавший увидеть лично ту мразь, которая его испугала, хотя, конечно же, не испугала, а позволила продемонстрировать всем выдержку и умение молниеносно принимать верные решения. Самое же верное – не вымещать злость на этом, уже обделавшемся со страху ублюдке, чтобы никто не мог сказать, что он мстит за пережитый испуг, ведь не может он мстить такому вот недоноску, тем более что и испуга-то никакого не было; самое верное – растоптать этого мерзавца, выдавить на него все, кроме страха, покорности и раскаяния, ебтит-его-рас-туды.
Вадим кивал, бормотал что-то, старался быть понезаметнее, угодливо улыбался, снова шел за кумом, теперь уже в его кабинет, и там опять кивал, улыбался, соглашался, вовремя изображал скорбь и раскаяние и так преуспел, что заметил вдруг рядом медсестру, осматривающую его иссиненную кисть и смазывающую чем-то, от чего боль сразу отступила. Что-то Вадим подписывал, какую-то бумагу ему читали, а потом опять повели долгими переходами и всунули в тесный бокс, прозванный арестантами за свою непомерную высоту при крохотном квадратике пола стаканом. Там его наконец оставили одного.
Вадим потыкался в шершавые стены и свернулся на полу, подгибая половчее ноги – даже полусидя ноги вытянуть было некуда, да и спине больно было упираться в ноздреватые неровности стены. Вадим долго устраивался, укручивался, пока не затих, не замер, свернувшись на удивление удобно. Ничего ему сейчас не хотелось – единственно только: чтобы никто не трогал, чтобы забыли о нем, оставили в покое. Выпотрошенный пережитыми потрясениями, Вадим безучастно лежал свернутой кучей грязного тряпья, и только раскрытый глаз с удивительным вниманием рассматривал пятнышко истертого пола прямо перед собой. Здоровенный таракан вступил на эту видимую территорию, зашевелил гигантскими усами, почувствовал диковинную необычную преграду и, увидев в искривленном огромном зеркале зрачка перед собой кашмарное чудище, бросился наутек, исчезнув мгновенно из обозримого пространства.
Вадим прокрутил в себе все, что произошло с ним после освобождения из наручников, «…обязуюсь беспрекословно выполнять все требования режима….» – вспомнилось ему из только что подписанной бумаги, и он усмехнулся непроизвольно тупости тюремщиков, собирающих такие вот подписки зримым свидетельством раскаяния; а совсем уж дико упорство тех, кто отказывается подобную чушь подписать – что толпу от их упорства?.. Что толку?.. Еще какая-то бумага никак не хотела выскользнуть из памяти, что-то показывал кум, что-то связанное с женой… Ах, да – исполнительный лист – при том, как ее Вадим обеспечил, ей еще чудятся алименты отсюда? Теперь-то ясно, почему все это время не было от нее никаких известий. А он думал, что она развелась с ним не всерьез, а только чтобы конфискация была поменьше… А как он бесился, получая передачи от матери из деревни – жалкие банки консервов, которые, передавая, вскрывали полностью, и хоть ешь все сразу, хоть выбрасывай… Он ругал старуху, что она своими передачами всегда ровно к первому числу перебивает передачи жены и выставляет его консервами этими на посмешище, не передавая даже курева – всегда она боролась с вредной привычкой… Но и стыдно ему сейчас не было за эту свою несправедливую злость к матери, все чувства его омертвели, не отзываясь никак на воспоминания и на все, что осталось у него в жизни… Что толку? – равнодушно выстукивало в висках, и в этом дурацком присловье, так часто слышанном им в камере, вдруг открылся мудрый смысл: самый мудрый из всего известного. Эти два слова при монотонном их повторении не только раскрывали истину, но и вбирали в себя все тревоги и переживания, действовали гипнотически и успокаивающе… Что толку?.. Что толку?.. Что-толку-что… – и действительно ведь, какой толк во всем этом колготении, да и в жизни самой, если появляется вдруг какой-то Костя, раздувшийся на женском импортном белье, и приковывает тебя блестящей цепью к батарее?.. Что толку?.. Что-тол-ку-что-тол-ку-что-тол…
Про Вадима забыли. Обед, суета, пересменки, так и не подписанное «хозяином» постановление на карцер, оформление обоснованности вызова бригады усмирения. Кум закрутился и никаких распоряжений не оставил, и только уже после ужина в вечернем пересчете снова забегали дубаки по камерам, готовые в панике объявить и тревогу (побег). Несколько раз все камеры продола выгоняли на пересчет, потом проверили по карточкам, и определили недостающего; долго созванивались с кумом, и уже перед отбоем взмыленные всей этой нервотрепкой дубаки распахнули шипастую дверь «стакана» (чтобы не колотили по ней изнутри, какой-то остроумец придумал наварить на двери боксов сетку острых шипов). Подняли Вадима пинками, и он все никак не мог очнуться, хотя гнали его по коридорам во весь опор.
…Вадим помялся у двери камеры, стараясь не смотреть, на свесившиеся отовсюду неприязненные лица, и наконец боком, неловко двинулся к своему месту.
– Ты куда, падла? – перед ним стоял в проходе Веселый, а дальше маячил Пеца, и Вадим зажмурился, не зная, чем еще заслониться от нового кошмара.
– Не бей, – выдавил он из себя, – я не хотел… Пропусти на место, я же не нарочно…
– Во падла, во Падла, – не находил слов возмущенный Веселый.
– Ды-дай мне, – отодвинул Пеца Веселого и вплотную подошел к Вадиму. – Ты, с-сука, хату в-всю… под вилы… – Он принюхался. – На пы-параше твое м-место, – заорал он. Тут и остальные учуяли клоачный дух и углядели Вадима целиком.
– Куда прешь, вонючка, – взвился Ларек. – Вона и матрац твой у параши уже…
– От страха перед ментами уделался, пидерастюга, – выпалил в Вадима Веселый и на одно маленькое мгновение замер, приготовясь на всякий случай встретить отпор – слово было сказано, и промолчать – значит согласиться, а согласиться, значит там тебе и быть… но отпора не было. Вадим повернулся и поглядел в угол у толкана, где умещался Танька, сейчас вот высунувшийся и глаз не сводящий с Вадима.
Ворона уже распоряжался:
– Танька, приготовь напарнику местечко, и на толкан его – обмой, чтоб не воняло…
– Хавку ему выдели, – бросил Ларек. – У тебя сегодня с запасом было.
Вадим не сознавал, что происходит. Издерганное тело радовалось, что не били, не мучали его больше, наслаждалось водой, которой Танька обмывал со всех сторон. Трудно было представить даже, как бы Вадим со всем управился без ловкой заботы Таньки. Тряпки вадимовы он частью выбросил тут же в парашу, частью принялся отстирывать под той же хлещущей из трубы над толканем водой. Вадиму дал что-то из своего тряпья, и вот уже Вадим может привалиться на свой матрац, прохладно мокрый, услужливо расстеленный Танькой рядом с собой, и – главное – откуда-то из-под шконки Танька вытащил шлюмку загустевшей овсяной баланды и поставил перед Вадимом: даже желудок сжало и слезы на глаза навернулись…
– Ну вот, теперь у нас два петуха – жизнь становится веселее, – где-то у окна балагурил Веселый. А Вадим думал, откуда же появился второй петух.
– Так имя ему надо, – вмешался Ларек.
– Эй, загаженная Саламандра, – окликнул Веселый, – тебе какое имя больше нравится?
– Как звали?.. На воле? – услужливо отозвался Вадим.
– На воле – неважно как, – смеялся Ларек, – там ты мужчиной был, а здесь ты уже не мужчина, и имя тебе надо женское.
– Как это женское? – ахнул Вадим и перестал есть.
– Так ты ж петух теперь, – поразился Ларек. – Мужики, он что – чокнутый или дурочку гонит?
– Ты похавал? – Перед Вадимом стоял Веселый. – Ты согласился, что – пидер? Ты с пидером хавал? Так ты кто, если не петух, или тебе мозги вправить?
– Так я же не настоящий, – пискнул даже Вадим…
– Ой, не могу, – зашелся смешливый Ларек. – Так сделаем настоящего – не горюй… Или вон Танька сделает…
– И че он недоволен? – гнусавил поодаль Ворона. – Сам же просил, чтобы Саламандрой не звали.
– Манькой будет, – решил Пеца. – У меня баба была – Манька…
– А теперь надо выяснить, кто из петухов будет главным. – По проходу разгуливал Веселый, и, почувствовав развлечение, исходящие маятой и скукой люди высунулись из нор. Веселый достал моток тонкого шнура, сплетенный кропотливо из разных ниток и необходимый в камерном обиходе. – А ну, Танька – Манька, – ко мне!
Обмякший Вадим ничего уже не соображал и опасливо поглядывал на Веселого, хорошего для себя не ожидая и надеясь только, что от совсем плохого как-нибудь убережет. Прежде чем что-то сделать, он косился на Таньку и повторял за ним, боясь все же сделать что-то не так. По приказу Веселого они оба разделись и нагишом уселись в проходе примерно на метр друг от друга. Веселый, разматывая клубок крепкого шнура, стоял между ними и притворялся, что не замечает любопытно устремленных на него отовсюду взглядов.
– Сейчас я вам, петухи-задиры, дам по куску шнура с петлей на конце, и вы в петли эти всунете свои причиндалы, а потом мы и выясним, кто главный петух. Эй, кто-нибудь, подайте «трамвай».
Ларек подхватил от общака деревянную лавку и всунулся с ней в проход. Веселому пришлось раздвинуть сидящих, так как лавка была побольше метра и между ними не вмещалась.
– Ну, зацепили мошонки свои, кукарешники? Теперь я пропускаю шнурки между ножками трамвая, зацепливаю за ножки, чтобы ослабить тягу, и конец от танькиной петли даю в руки Маньке, а от манькиной – Таньке… Все понятно? Ну и теперь вам по моему сигналу тянуть, кто не выдержит – проси пощады, проиграл, значит, не главный, значит. Ну, а кто главный, того другой во всем слушаться будет. Ясно? Начали! – Веселый для затравки поддернул сам оба шнура.
Боль показалась вдруг на удивление не сильной, ведь все существо готово было сразу к чему-то совсем непереносимому, но это ощущение продолжалось ровно столько времени, в которое и успело вместиться само удивление от того, что при боли вот можно и еще о чем-то думать и даже чему-то удивляться; и сразу же онемели ноги, и все внутренности начало вытягивать, и пошло… И выше, и выше, и вот уже вроде из самого мозга потянуло, да с перекрутом выматывающее что-то – ослепительная струна накручивала на себя все новые внутренности, шилом пронзая тело, нанизывая его на себя… Это была новая какая-то боль, не знакомая по всем прошлым несчастьям; боль с онемением, с потерей постепенной разных частей – где сейчас вот его ноги? Да и что это такое, ноги? Все вадимово лицо стянуло в левую сторону и продолжало стягивать, сжимая, вминая всю его голову в страшный кулак возле уха… Искривленным взглядом Вадим уцепил Таньку с выпученными глазами, и по этим глазам понял: Танька не выдержит, Танька сейчас отступит – дернул сильнее… Сам он ни за что не сдастся, здесь уж он не отступит… Вот перед ним, наконец, явный враг, сволочь… Сво-о!-о!-лочь! который причиняет такие страдания и для того только, чтобы подчинить его, Вадима, себе… Зримый враг, но его Вадим одолеет… На секунду какую-то включился звук, и врезался в голову взрывом хохот и гром, но снова исчезло все, и голову свернуло полностью, выдавливая глаза, и теперь-то, столько уже выдержав, он не уступит… Ни на что – о, сволочь, о, сво-о-о-о-о-о…
Вадим с искривленным, стянутым в одну сторону лицом, сжав зубы и растопырив толстые свои губы, выл, плакал и выл, тянул на одной пронзительной ноте страшный тонкий крик, мотал головой, не видя ничего от слез, набухающих на глазах взамен скатившихся крупных капель. Облепленный со всех сторон судорожным хохотом, не видя даже, что Танька раскусил уже всю забаву (понял, что невидимым в переплетении под трамваем шнуром сам себя терзает, – и тоже смеется теперь, утирая слезы, смеется, хотя не схлынула у него еще своя боль); отгороженный от всех своей ненавистью, своим упорством, всеми своими несчастьями, Вадим кричал тоненько и рвал сам свои же ткани, рвал, пустив уже себе кровь, не соображая ничего…
…Неожиданно тонкий вопль – жалобный, но с переливами в возмущение, злобу, и вновь истончающийся до плачущей жалобы, пронзил заполненную хохотом камеру. Давно уже и бесследно испарились утреннее благодушие и покойная радость. Сколько еще позволят пролежать мне здесь, под светом, на мягком, при книге и куреве? Завтра и послезавтра, скорее всего, еще тут, а в понедельник дубак обязательно доложит про «голодовку», и – покатится… Карцер и потом… что потом?.. Раздражал хохот, громыхающий вокруг, и еще более хохота – недовольство собой… чего я требую голодовкой своей?.. Не придумать хоть сколько-нибудь разумного… значит, впереди совсем уж сумасшедшие испытания… не для чего… А назад, на попятную?.. Нет уж – главное, не помогать им побеждать… ведь именно это – главное, тот минимум, который зависит от меня только… Ну, кто там воет?! – Это же невыносимо. Господи!..
Тут только я увидел Вадима.
Давно когда-то подобное уже было со мной. Прижатый со всех сторон к решетке обезьянника, я боролся с тошнотой и сильным, сразу выдавившим холодный пот головокружением. Не было сил протолкнуться сквозь ревущую и хохочущую толпу, да еще – боязнь неудержимой тошноты среди всех этих разинутых жарких пастей, а там, внутри клетки, рвался жалкий, никудышный шимпанзе из случайного капкана… Сильно тошнило, и как тогда, в зоопарке, хотелось забиться куда-нибудь, подальше отсюда, к чертям деловое свидание, из-за которого я сюда пришел, куда угодно, лишь бы – одному, лишь бы никого, совсем никого… Да и вообще, зачем все это?.. Именно, все – зачем? Разве вся жизнь не такое же вырывание себя – в кровь?.. Не тот же жалкий, плачущий, злобный и негодующий вой?.. Почему же я не вою в голос, взахлеб?.. Почему все не воют? Или воют, только никто не слышит, потому что у всех в ушах такие же клочки рыжей ваты, как у меня? Специально ведь и затолкал ее в уши… Для того и затолкал, чтобы не слышать никого, чтобы не мешал никто… Это ведь только такая вот скотская забава, такой вот и не человеческий уже вопль пробиться смогли, а у других, а у всех – та же вата, только забито по-плотнее…
Лязгнула кормушка… Отбой.
Шконки колыхались, принимая на ночь разом потускневших арестантов. Теперь, без легкости общих забав и общих бед (да, да, и беды, если они соединяют, – легки), враз окунувшись каждый в свои собственные горести, тревоги и надежды, расползались по своим норам обитатели «девять-восемь», оставаясь на всю тоскливую ночь наедине со своими же охами и ускользая постепенно в оживающую в эти вот тревожно-маетные часы сумасшедшую веру в чудо, в маленькое и вполне возможное завтра же чудо.
Шконка колыхалась, но уже вместе со стенами и со всей камерой. Все, оказывается, проницаемо в мягкости своей, и я проваливался вместе с матрацем куда-то вниз мимо медленно оползающих туда же вниз стен…
– Подъем, – заорал конвоир, и я очнулся в своем закутке за барьером, в отгороженной этой клетке у стены пустого судебного зала.
Жалко было расставаться с теплой дремотной успокоенностью, но конвоир гремел уже дверью, собираясь выводить, а я все молчу, и надо стряхнуть оцепенение, надо встряхнуться – ведь это мое «Последнее слово». Судья за длиннющим столом и двое «кивал» собирают уже бумаги, а прокурор спит себе за своим столиком, и надо что-то сказать – другой возможности не будет…
– Вот вы спите себе, – укоризненно проговорил судья, – а нам приходится за вас работать.
– Это вы спите, – возразил я, – спите себе и не видите, что вокруг творится, знать не хотите, как по вашей милости над людьми издеваются. Вам бы одно только – устроить вокруг темень и ночь…
Вдруг я понял, что они меня не слушают и слушать не могут. Они попросту меня слышать не могут, так как у всех уши заткнуты клочками желтой ваты. «Кивалы» еще и глаза прикрыли, а судья вынул вставную челюсть и копается всей пятерней во рту, но зато проснулся прокурор:
– Железным законом… – прокричал он в пустой зал и снова заснул.
– Не будет по-вашему, – неуверенно сказал я. – Ночь кончится, и вы все растаете, как ночные тени. Сейчас вот прокричит петух – и кончится ваша ночь.
И вдруг я понял, что несу чушь, ведь они исчезнут, когда услышат крик петуха, но они его не услышат, потому что у них вата в ушах, и, значит, не исчезнут.
– У вас вата в ушах, – я заспешил, так как слышал уже хлопанье крыльев, – вам необходимо вытащить вату…
– Каленым железом, – снова проснулся прокурор.
– Ну что ты с ними разговариваешь, – повернулся конвоир. – У них же вата в ушах – они не слышат.
– Не так, – заорали на меня откуда-то появившиеся в зале представители общественности. – Крикни посильнее.
– Это не по правилам, – я потерянно оглядывался, – уже петух кричит, а у вас вата в ушах…
– Никаких нарушений законности я не обнаружил, – вскинулся прокурор, – и не потерплю.
Я чувствовал, что надо закричать – иначе они так и не услышат меня, и ничего уже нельзя будет сделать с ними, и никуда они не денутся, а, наоборот, я превращусь в серую тень. Но крик май застревал в горле и поздно уже… Поздно. Конвоир тряс меня за плечю, петух тихонечко кукарекал, и последним умоляющим взлядом я попытался привлечь внимание сидящих за зеленым столом.
Маленький шимпанзе сидел в центре, рассматривая свои челюсти, а две крупные гориллы спали, закрыв глаза, и только рыжая вата подрагивала в ушах. С огромного герба над ними свесил вниз голову тощий петух и, глубоко вздохнув, расправил крылья, стараясь не задеть острый серп.
– Вы же не люди, – засмеялся я, все поняв. – Вы сансару.
– А ты кто? – закричал над ухом конвоир. – Кто?!
…Я проснулся от громкого крика и лежал, не открывая глаз, стараясь не забыть что-то важное из того, что только что понял во сне. «Сансару» – древняя фигурка трех обезьянок, закрывающих глаза, уши, рот… Почему же это казалось только что таким важным?..
– Так кто ты? – орал Веселый. – Я те счас все крылья повыщипываю и гребень на уши выверну, петушара! А ну, Танька, гони его сюда!
По проходу, подгоняемый танькиными пинками, толчками, как-то замирая на каждом шагу, продвигался Саламандра. Он затравленно оглядывался вокруг, и я, не успев отвернуться, поймался в безумный его взгляд. Увидел себя в черном омуте расширенного зрачка – маленькая искривленная обезьянка с торчащими из ушей клочками ваты – сансару… И не вырваться мне уже из этой горящей ненавистью бездны – я шевельнулся, пробуя выбраться, вынырнуть, но не слушались омертвевшие руки, и я с головой погрузился в темень зрачка… уже навсегда…







