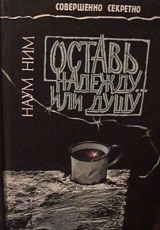
Текст книги "До петушиного крика"
Автор книги: Наум Ним
Жанр:
Разное
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 5 страниц)
Плотный воздух камеры подрагивал, смягчая редкие движения и жесты арестантов, а поближе к окну и вовсе причудливо выгибал в плавных колебаниях лица и даже голоса. Тонкие золотистые иглы, которыми солнце проникало сквозь насверленные в наморднике отверстия, прошивали задымленную гущу, налитую внутрь каменного куба. Яркая, давящая круглосуточно на глаза лампочка не могла пробить толщу смрадного воздуха и высвечивала только самый верх, а внизу, куда стекал плотный сумрак, лишь эти игольчатые солнечные струйки пытались взмешать непригодную для дыхания густоту. Раскаленный намордник начинал свою адскую работу: плавил все, с ним соприкасающееся, в однородное марево. Это марево толчками продвигалось к двери, а навстречу ему пульсировали волны вязкой вони из угла.
– Эй, мужики, кипяток кто еще будет? – слова дежурного медленно поплыли по камере вперемежку с хрипом дыхания (слово – вздох, слово – вздох), а сам он блестящей рыбиной извивался возле фаныча. – Ну, тогда я помою… пока силы есть.
– Очумел… – остановил его Голуба. – Загнемся тут… Наоборот, вытри все, чтобы ни капли влажной нигде, сваримся к чертям в испарениях. Ночью помоешь.
Дежурный, чертыхаясь и охая, выливал кипяток в толкан. Плеск, бормотания, охи – все это оставалось там же в углу, не распространяясь, как учили в школе, равномерно по всем направлениям с одной скоростью; да и вообще все эти школьные законы и правила тут не работали – в этом мире все жило по своим законам.
Голоса затихли, только хриплое дыхание, только труд вогнать, втянуть густую массу воздуха внутрь.
Вадим знал, что скоро тело его примирится с невозможностью жить в печи, расслабится и даже как бы растворяться начнет; и от этого могло бы стать легче, если бы намордник не накалялся адской сковородкой и дальше. Главное сейчас – дожить до прогулки, когда откроется дверь и холодным душем хлынет в камеру свежий коридорный воздух…
Вадим сидел на полу в своем проходе, спиной упираясь в свернутый впритык к стене матрац, уткнув голову в колени. Долго так сидеть он не мог – выпирающие кости начинали болеть. По этим вот признакам – по неудобству сидеть, лежать – острее всего ощущалось, как он сдал, и сейчас вот единственно духота мешала ему упиться снова болезненной жалостью к своему исхудавшему телу. Он пересел на матрац, откинувшись спиной на изгаженную штукатурку стены. Попытался окунуться в припрятанные с утра впечатления от сна, размотать их заново, но утренние размышления были запечатаны наглухо, и мысли его, тупо ворочаясь, только тянулись глухо в слово «зверинец», не отозвавшись никаким чувством.
– Шаньпаньского бы сейчас со льда, – выполз сверху тянучей змейкой мечтательный вздох Берета, да так и свернулся над ним. – Эй, Саламандра, приколол бы чего, а? Шоркни, как ты в ванну с шаньпаньским девок кунал…
– Да он спит, – отозвался слева от Вадима услужливый голос молоденького пухленького юнца, у которого на гладких щечках не росло еще ни волосинки и всех жизненных воспоминаний – единственная история о том, как он пытался взять ларек, так Ларьком и прозванного.
– Большое дело – спит, – лениво вступил Ворона, – толкни.
– Не-а, – отказался Ларек, – сон в тюрьме – святое.
Ларек этот, никогда не унывающий, услужливо готовый всем помочь, сохранял какую-то неистребимую детскую наивность, оберегавшую его от крупных неприятностей. Неприятности же грозили именно из-за этой его услужливости, желания угодить и чтобы все вокруг было хорошо и радостно. Он не различал, где необходимая помощь, а где унизительные поручения типа «подай-принеси», и всегда готов был бежать, нести, подавать и помогать. Если бы не покровительство Матвеича, быть бы ему давно камерной «шестеркой».
Вадим представил, как он в этом вот отрепье, в этих трусах одних сидит за своим столиком и пьет из бокала холодное полусладкое. Увидел грязные пальцы и старающуюся улизнуть из них тоненькую ножку бокала, увидел презрительную губу вышколенного официанта Саши и неловкость сидящей напротив Светы; впрочем, нет, Света будет глядеть посмеиваясь и жалостливо приговаривать: «Бедненькой обезьянке жарко, бедненькой обезьянке плохо».
По этой приговорке, по звуку голоса мысли легко соскользнули в недостижимый еще минуту назад след утренних сновидений, которые Вадиму удалось благополучно сохранить, не расплескать в продолжающемся кошмаре нынешней невозможной жизни.
Скрывая снисходительной улыбочкой стыд от того, что он оказался в толпе зевак, получивших неожиданное развлечение, Вадим выбирался в прохладу тенистых дорожек зоопарка. Радость от паузы в хлопотливом дне уже испарилась. (А как возникла пауза? Несостоявшееся свидание? Точно. Вадим приобрел случайно партию дешевой бумаги, в зоопарке должен был встретиться с покупателем, но тот не пришел.) Хотелось добраться побыстрее до машины, и если уж выпало в знойный день барахтаться в городе, то окунуться в искусственную прохладу привычного уголка в ресторане «Интурист».
На краю асфальтовой дорожки стоял мольберт, мимо которого сновали расплавленные жарой страдальцы с неугомонными детишками. Мольберт был поставлен неудобно, именно так, что любой проходящий оказывался между ним и натурой. Хозяйка деревянного сооружения устроилась босиком на траве газона. Такое расположение живописных принадлежностей не только мешало писать с натуры (А может, она вовсе и не с натуры?), но и не давало возможности заглянуть в картину или что там у нее. Вадим с усмешкой подумал, что, может, и не картина там вовсе, а стоит себе эта особа, разложив перед собой столик, и вкушает прохладительные напитки; так нелепа была эта мысль, что Вадим не поленился вернуться и пройти обратно, нагло попирая ногами траву газона и вместе с ней общественный порядок.
Увы, на мольберте была картина (чудес не бывает), и Вадим почувствовал обиду, будто его обманули, будто ему обещали что-то и потом посмеялись, а он, дурачок, поверил. Он мазанул взглядом по яркому пятну на плотном листе и прошел бы мимо, если бы не зацепился за одно пятнышко в неразличимом издали фантастическом многоцветии.
Девушка не заметила приближения зрителя, погруженная даже не работу, а скорее в себя. Вадим глядел из-за ее плеча, чувствуя подступающую тошноту и не в силах оторваться.
На картине бесновались, орали, наседали друг на друга полчища маленьких обезьян в ярких летних платьях и костюмах. Вадим глянул на толпу у клетки – по крайней мере цветовое пятно на картинке соответствовало тому, что было перед ним. Он прищурился от слепящего солнца и прищуре увидел, что сумасшедший рисунок более соответствует реальности, чем можно было бы подумать. Лист бумаги приковывал глаз, не позволяя ему, посмеиваясь, увильнуть в сторону. Но и не этот даже взгляд на окружающий мир, не этот прищур молоденькой рисовальщицы, случайно повторенный Вадимом, обстолбенил его – в центре цветастого пятна на листе, в центре клетки рвалась в беззвучном вопле на волю маленькая обезьянка в кремовой пижонской рубашке. Мордочка ее была стянута в левую сторону, будто кто-то жестокой пятерней ухватил ее за левую щеку и сжимал неумолимо, скручивая болью всю голову. Это было невероятно: это ведь его, вадимово, это он так перекашивается от боли всегда, с детства еще; в сравнении с этим сходство рубашек было уже и излишним…
– Так вы и видите всех нас – смешными, глупыми обезьянами? – Девушка смотрела на Вадима, даже не слушая его, просто смотрела, склонив голову к плечу и покусывая кончик кисти (Когда она его заметила? Может, она и все время так смотрела на него?) – Вот так вы – единственный человек в этом зверинце – и видите всех нас?
– Почти так, – она не заулыбалась ответно на натужную любезную улыбчивость Вадима, а, повернувшись, ткнула кончиком кисти в голубое пятнышко с краю листа.
Там же, на листе, в легких голубых брючках стояла за мольбертом симпатичная обезьянка.
– Тогда не страшно, – держался Вадим привычной интонации. – Если вместе с вами, то я согласен и в зверинце.
Его несло: главным для него стало сейчас пробиться сквозь грустно-снисходительный прищур тоненькой рисовальщицы, хоть совсем и не в его вкусе была эта девушка, хоть и не ко времени было ему это новое знакомство (куда-то надо было еще успеть, но куда?).
– Кстати, – Вадим наседал, – вам не кажется, что пришла пора кормить зверей? Слышите, какой шум в тигрятнике? Может, и мы вкусим, от звериных радостей, тем более что другие с вашей точки зрения нам недоступны?..
И вот уже они сидят за вадимовым угловым столиком (значит, она согласилась), и невозмутимый Саша наставляет и наставляет перед ними все новые блюда.
– Звери должны хорошо питаться, – Вадим залпом выпивает бокал ледяного полусладкого, но никакого облегчения: та же жара и та же жажда. – Ну, а как у нас, у обезьян, принято? Имена у нас есть? – Он не дает ей и рта раскрыть и говорит, говорит, с одним желанием увлечь, поразить, завоевать… – Вас, вероятно, зовут Света, впрочем, достаточно, что я буду вас звать Света… Так вот, скажите, Света, как вы относитесь к такому еще бытующему мнению, что люди сотворены Богом, а не произошли от обезьяны? Или вам ближе идея, что люди действительно не произошли от обезьяны, все еще не произошли от нее, все еще пытаются произойти, но не могут?..
– Бедненькая, голодненькая обезьянка, – Света смеется, сдувая падающую на глаза прядь. – Ну зачем вам Бог? Разве вам приелись уже обычные обезьяньи радости?
– Ну знаете ли… – Вадим растерялся даже, но нашел в себе силы засмеяться, – скучно как-то, если без Бога.
– Ах, ему скучно, – сердито рявкнул над самым ухом официант Саша и впрыгнул на свободный стул, ловко перебросив фалды фрака через спинку. – Все мы под Богом ходим, макака ты несчастная. Вот у нас ревизия была…
– Саша, не волнуйтесь, – Света протянула длиннющую руку и почесала официанту под манишкой (Вадим тут же сообразил, чего ему не хватает, и, перехватив в левую руку котлету по-киевски, правой принялся расчесывать живот под резинкой трусов), – сейчас я все объясню. – Света задрала к лепному потолку свою симпатичную мордочку. – Бог – это вся Земля, вся-вся, и когда Земля себя сделала на загляденье, то и захотела кого-нибудь осчастливить, чтобы кто-то оценил, как все здорово, а не просто, чтобы бродили по ней, жевали и размножались. Вот она и выбрала одно обезьянье племя, предположив, что оно способно будет оценить, и, воздействовав как-то там радиацией или еще чем, добилась мутации – ведь время для Земли совсем другое, чем для нас: нам – сотни лет, а ей – минута, может. Ну, а обезьяны они и остались обезьянами – всех-то изменений, что научились обезьянность свою прикрывать тряпками да словами разными… Теперь-то Земля пытается от этой пакости, ею же созданной, избавиться, пока саму ее эти ее создания не взорвали или еще как не изуродовали неисправимо…
– Глупый какой-то у вас Бог.
– Ну, представьте: построили вы великолепный дом и захотелось порадовать кого-нибудь – пригласили кучу знакомых, чтобы жили они и радовались, а они на ковры гадят, подрались – стекло разбили… Что делать?
– Выгнать.
– Некуда.
– Поссорить, чтобы жизнь невмоготу стала, чтобы перебили друг Друга.
– Могут во время ссоры и дом поджечь.
– Значит, заразить чем-нибудь, чтобы сами передохли.
– Может, и возникнет что-то, чего лечить не успеют научиться.
– А вас вши не мучают?
– Мыться надо, макака паршивая, – снова загремел Саша. – И искаться не лениться каждый день. – Оказывается, он во все время разговора с ошеломительной скоростью ел, и теперь на столе только обглоданные кости наполняли дорогую посуду. – А чесаться за столом неприлично, – Саша выхватил из руки Вадима котлету по-киевски и впился в нее длинными желтыми зубами, – тем более, чесаться при даме, – прочавкал он.
– Так если чешется, – обиженно протянул Вадим. – Света, скажите ему.
– Да не ори ты на него… – Почему-то Света заговорила голосом Матвеича, но это было уже не важно, так как, получив разрешение, Вадим сладострастно начал терзать пальцами низ живота.
Он сполз с матраца и тут же вскинулся, оглядываясь пустым и отсутствующим взглядом.
– Что ты к нему прицепился, – втолковывал Матвеич кому-то вниз. – То, что Голуба наплел, вполне можно считать гипотезой, и она ничуть не хуже всяких других.
– Лучше бы он не ломал голову всякой чушью, а в Афган пошел…
– А я не хочу в Афган, – взревел, выскакивая в проход, всегда добродушный Голуба, – мне незачем быть ничьим тюремщиком…
– Так я, по-твоему, тюремщик. – Берет тоже выскочил в проход, – так ребята наши, в Афгане помирающие, – тюремщики!! Почему они должны за тебя помирать?
Они стояли друг против друга, готовые вцепиться друг другу в глотку, и грызть, рвать, бить до смерти, взвинтив себя смертной ненавистью мгновенно, как это всегда и бывает среди арестантов.
– Мне наплевать, за что они там помирают, и я не прятался в погребе! Я в рожи их сказал, что в Афган не пойду, – за то и срок тяну, ясно тебе?! И каждый мог отказаться! И ты мог отказаться! Так что за меня никто не помирает! Вас чеками соблазнили, да сказочкой по ушам шоркнули, что, мол, правое дело, чтобы убивать не стыдно было – так вон тех, что на вышках с автоматами, тоже сказками пичкают, какие мы здесь мрази.
– Ты меня с ними не ровняй! Я Родину защищал и тебя, паскуду трусливую, вошь вонючую, пока ты в своих институтах мозги сворачивал!..
– Родину?! А может, ты еще и в Иран какой-нибудь пойдешь? Может, у тебя и там Родина? Защитничек… Таких защитников захватчикам везде зовут… В Афгане у него Родина…
– Ах ты.
– Хорош, – рявкнул Матвеич, что бывало с ним редко, и готовые уже сцепиться Берет с Голубой затихли, тяжело дыша и не отходя друг от друга, не поворачиваясь один к другому спиной. – Что разорались на весь продол? Кумовьев захотелось потешить?!
– И то – дело, – подал голос Пеца. – Разбазарились, глотки луженые. И чего орать, – ворчал он, – кулаков что ли, нету…
Вадим передвинулся на своем матрасе с уже пропотевшего места на краешек, пощупав заодно сверток с пайкой.
Проход снова был свободен, а шконки качались, принимая опять в свой душный смрад Берета и Голубу, ярость которых так же мгновенно схлынула, как и накатила на них минуту назад. Только недовольное бурчание лопалось где-то справа от Вадима, там, где умащивался Берет.
– А был бы ты, Голуба, умнее: отслужил бы тихонечко свои два – и дома, – не спеша выпускал слова, выбираясь из своей норы, Кадра – обвисший весь складками грушеобразный хозяйственник, получивший десятку (два «андропа», по-здешнему) за целый букет каких-то невразумительных статей, злоупотреблений, где самым понятным камерному люду было взяточничество. Кадрой его прозвали за привычку всовывать всюду излюбленное «руководящие кадры» – от привычки отучили вроде, а имя прилипло. – Тебя же после всех этих фокусов ни в какой Афганистан не взяли бы, побоялись, ну и надо было соглашаться. Впихнули бы куда-нибудь в стройбат…
Кадра разминал отекшее свое тело в сквозном проходе, почесывая густую серую шерсть на груди.
– Теперь вот сидеть тебе по собственной дурости, – продолжал он не спеша, прижмурившись от удовольствия, которое ему доставляло почесыванне.
– Тебе ж, Кадра, больше сидеть, ты бы себя поучил, – незлобно отозвался Голуба.
– Меня освободят, – уверенно заявил Кадра. – Руководящие кадры, да с моим опытом работы, сейчас ой как нужны.
– Ага, нужны, – весело подначил Берет. – А то разучатся взятки брать, если ты опытом не поделишься…
– Что же касается Афганистана, – сбить Кадру, если он начал говорить, было почти невозможно, только под угрозой физической он утихал, но и то долго еще рассуждал еле слышно сам с собой, так что ничего удивительного не было в том, что на Берета он и не отреагировал никак, – проблема Афганистана очень сложная. Если бы не мы – американцы бы туда пришли, ведь этот отсталый народ необходимо цивилизовать, они же хуже свиней….
– Слушай, Кадра, – вмешался опять Матвеич, – тебе не приходилось слышать где-нибудь в своих парткомах, что нет плохих народов…
– Ты, Матвеич, наивный, как ребенок, ну как Голуба прямо, и сидишь вот за это. – Кадра остановился в проходе Матвеича и увещевал его. – Одно дело говорить, а другое – знать. Говорить надо, что нет плохих народов, но нельзя забывать, что народы бывают разные: вот литовцы, например, они все такие сволочи, что надо было их еще до войны – всех под корень. Я долгое время работал там на руководящих постах и видел, как они нас ненавидят.
– И прямо все сволочи?
– Дай им волю – они нас всех перережут. Они же так фашистами и остались. Ты вот не знаешь, а они все немцев хлебом-солью встречали.
– Ты-то откуда знаешь? – закипал Матвеич. – Видел что ли?
– Видел, – начал горячиться и Кадра. – Это ты, молодой, не видел, а я видел.
– Как же ты, Кадра, видеть мог? Ты с немцами шел или с теми был, кто хлебом-солью?..
Слитный хохот вспорол плотную духоту камеры. Кадра что-то пытался сказать, но голоса его не слышно было, и только губы шевелились беззвучно, да затылок краснел, да голова тряслась, и все тело колыхалось мелко, как студень.
– Ой, не могу… – заливался рядом с Вадимом Ларек, и шконка его ходуном ходила. Все понемногу успокоились, а Ларек продолжал заливчато колотиться, не в силах прекратить, и даже всхлипывал от смеха. Глядя на него, хотелось смеяться уже просто так, заражаясь его смехом.
– Ты-ты… Дубина… Молокосос… – переключился Кадра на Ларька, задыхаясь возмущением. – Ты кроме ларьков не знаешь ничего…
– Ой, держите меня… – продолжал дрыгаться на шконке Ларек. Постепенно он утих, и снова со всех сторон облепила вязкая душная завеса. Вадим сполз с промокшего матраца на пол, освободил ноги из нагревшихся туфель и вытянул их вдоль узенького своего прохода. Время остановилось. Вадим глянул на противоположную стену, где Берет разметил по грязной штукатурке солнечные часы – золотистые иглы меняли направление в течение дня, и благодаря этому можно было приблизительно следить за временем, которое здесь прекращало свое равномерное движение; со времени завтрака прошло еще чуть более получаса, и Вадим, сдержав горечь, принялся настраивать себя на долгое ожидание прогулки. Время постоянно норовило остановиться; его обманывали, проталкивая долгими разговорами, пережевывая вместе с никому не нужными словами, подталкивая ожиданием газеты, прогулки, обеда – невозможно было вместить в себя бесконечность целого дня, не раздробив его на доступные выживанию порции. Вадим слышал, что в карцере плохо, видел тех, кто там побывал, но все зримо плохое: еда через день, отсутствие курева, прогулок, книг, газет – все это казалось терпимым, а вот огромные куски времени, которые можно измельчать только собственными мыслями – это представлялось до сумасшествия невозможным: ведь мысли не помогают избыть ненужное время, они – наоборот, – замедляют его, и, пережив внутри себя всю жизнь заново, сдвинешь ношу времени на минуту какую, не больше.
Вадим устроился поудобнее, свернувшись на полу возле своего матраца. Здесь, у самого пола, дышать вроде легче, но никак не пристроить было измученные кости на выщербленных досках, перехваченных железными полосами. Снова нестерпимо захотелось почесать искусанные места, но Вадим сдержался, чтобы не менять удачно найденного положения.
Закурить бы сейчас. Вспомнилось, как приятно было курить в машине. Как-то он стоял, поджидая приятеля, и обшарил всю машину – ни сигаретки. Ситуация – из рук вон: и отъехать нельзя – приятель вот-вот выйдет, и курить хочется так, что уши пухнут. Он сам не понимал, как его угораздило: всегда ведь в машине держал запас. И уже до того дошел, что наплевать было на приятеля этого и на то, что хороший куш может пройти мимо – решил ехать. Вот в эту минуту и заметил Вадим на тротуаре под дверцей сигарету. В жизни с ним не было такого: бычок или еще что с земли подобрать, а тут оглянулся, чтобы не видел никто – ведь засмеют, проходу не будет, – дверцу приоткрыл и ухватил сигаретку. Посмеивался Вадим сам над собой, но сигаретку размял и такое блаженство, такой покой после недавних терзаний – ничего не надо уже. Спичку зажег, а прикурить не может, видно, порвана сигарета оказалась, потому и выбросили. Тянет Вадим без толку, и спичка уже догорела. Ему бы спичку выбросить, а он сигареткой занят: все пытается затянуться, а спичка уже пальцы обжигает, и не стряхнуть никак, прилипла, зар-ра-за, да больно же!..
Вадим вскочил, махая рукой, не понимая ничего, чувствуя только нестерпимую боль между пальцами. Комок горящей ваты вывалился от этих его взмахов, и Вадим, всхлипнув тихонечко, скрутился в своем углу.
– Во дает Саламандра, – гоготнул Ворона, – из огня целехонек. Одно слово – Саламандра…
– Ворона, ты тупорылый, что ли? – привстал у себя Голуба. – В хате дышать нечем, только ваты горелой не хватало.
– Зач-чем палил, пп-падла? – Заревел Пеца. – В стойло захотел?
– Да я ж ничо, – забормотал Ворона. – Я ж, мужики, ничо… Это ж он опять… Ему сколько говорилось на полу не спать – на полу одни черти спят, а люди на матрацах спят, от него ж вшивота пойдет. – Ворона торопился, спешил переключить взбухающее раздражение камеры на Вадима. – Он языка ж не понимает.
– Ворона, глохни, – вступил Берет. – Еще раз закосишь – на веник месяц. А ты, Саламандра, гляди – к параше пойдешь спать.
Снова плотное месиво затянуло прорехи, образованные в нем голосами; только пузырями лопались всхлипы тяжкого дыхания где-то рядом, нет, не рядом – это его собственное дыхание. Вадим все еще вздрагивал, с запозданием понимая все, происшедшее только что в камере. «Господи! – беззвучно взмолился он. – Я не могу больше, Господи… Сделай так, чтобы не звали меня Саламандрой… Сделай что-нибудь…»
Эти его мучения начались еще под следствием. Вечером как-то заколыхался перед ним неповоротливый и вечно сонный камерный авторитет Туша, человек в здешней жизни бывалый, попавший снова на круги привычных коридоров из-за того, что придушил чуть не до смерти своего родственника – милиционера. Сам он говорил, что придушил-то ненароком: пили они вместе и обнимались там или еще что: Туша под одобрительный смех сокамерников рассказывал, что обнимал-обнимал он этого родича, а потом вдруг подумал, кого же он обнимает – мента обнимает, ну и сжал посильнее…
– Эй, землячок, – перед Вадимом ходил ходуном живот и как бы отдельно двигалась на нем здоровенная русалка, которую Туша почесывал, ковыряясь в ее пупке (оба их пупка – его и русалкин – совпадали). – Давай мы твои сапоги обменяем на плиту чая.
– У меня нету сапог, – не понял сначала Вадим, но по сдисходительному смеху и подергиваниям русалки сообразил и зачастил возмущенно, но и просительно как-то… – Это же «Саламандра» – мировая фирма… Как же можно за плиту чая?.. Плита чая – она же грошей стоит… Им же ни сроку, ни сносу – «Саламандра» ведь.
– Так что из этого, что им сроку нет? Тебе ж срок будет, – русалка мелко задрожала, – а в зоне тебе новые выдадут, и ни о чем гоношиться не надо будет. В зоне там такие саламандры отхватишь – ноги сносишь, а им хоть бы что…
– Но как же можно? – не унимался Вадим и, не находя в себе сил на простой и достойный отказ, жалобно пытался убедить Тушу. – Они же стоят не трояк какой… Их же и не достать нигде…
– Забудь, недотепа: здесь другие деньги и другая цена.
– Нет-нет, так нельзя. – Почему-то Вадиму, все потерявшему в считанные дни, было до слез жалко свою обувку. – Ведь «Саламандра», – этот аргумент казался ему чем-то очень убедительным.
– Значит, зажилил? – Русалка осуждающе вильнула хвостом. – Жаба, значит, душит? Общаковое курево – это можно, а чай помочь на общак раздобыть – жаба душит? Ну гляди, Саламандра, ты сам решил…
Много раз уже Вадим проклял ту свою оплошную жадность: часто он уговаривал себя, что не такое уж плохое у него прозвище (он здесь наслушался разных «погонял»), однажды даже на прогулке одному принялся втолковывать, кто это такие саламандры, но в ответ из-под узенького сморщенного лобика получил: «Прикидываю, что это вроде паучка ядовитого и вонючего, раздавить и всех делов»; и еще раз попытался Вадим поведать красивую легенду о живущих в огне саламандрах – с тех пор не раз уже просыпался он от жгучей боли, дрыгая руками или ногами, где вонюче тлели надерганные из матрацев кусочки ваты.
После суда в новой камере прозвище неотвратимо настигло его, и не находилось способа сбросить это, уцепившееся клещом, ненавистное имя. А сбросить так хотелось, что Вадим попытался даже в этой камере – благо она была в другом крыле тюрьмы и на другом этаже – скрыть свое погоняло, но Пеца отправил куда-то клочок бумаги, получил к вечеру ответ, и очередная Вадимова оплошность тут же отозвалась презрительным недоверием к нему сокамерников. Да еще на прогулке как-то удалось Берету перекричаться с Тушей, и невразумительный их перекрик краешком больно задел Вадима («Как там Саламандра – не сгорел еще?» – «Тлеет пока – только вонь стоит»)…
Загрохотала железная дверь, залязгали многочисленные запоры (по солнечным часам Вадим отметил, что неурочно), и головы сразу же повысовывались в проход, а дежурный подскочил к двери докладывать. Докладывать не понадобилось, потому что в камеру никто из начальства не вошел, а в приоткрытую еле-еле дверь протиснулся сначала развернутый матрац, а следом – ободранный, обросший до бороды, искривленный весь как-то однобоко, длинный парень.
Даже Вадим понимал, что это явление не совсем обычное: судя по бороде, примерно месяц новичок без бани (там стригут и бреют всех, кто хоть немного зарос, но это благо очень напоминает издевательское наказание, потому что… впрочем, стрижка и бритье – отдельная тема).
– Что за хата? – Новенький смотрел настороженно.
– Обычная… осужденка, – Пеца выполз в проход и подался к двери. – А тебе какая надо?
– Устраивает, – новенький кинул матрац в проход и уселся на лавку за общак.
Пеца молча пододвинул к нему папиросу и спички, примащиваясь на ближайшую к общаку шконку.
Новичок обвел взглядом свешивающиеся головы, кивнул: «здорово, мужики» и закурил, прикрыв глаза.
– Ты откуда? – не выдержал Ворона.
– Глохни, – бросил ему Берет, тоже выбираясь в проход, но в натянутых уже на мокрое тело тряпках. Он уселся за общаком напротив новичка.
– Из карцера, – не открывая глаз продолжал курить заросший парень. – Месяц в три приема. Веселый я, – представился он.
– Ларек, дай-ка ему, – бросил Пеца, и Ларек, натянув вылинявшее трико, скатился со шконки, всовывая руки в рукава некогда белой футболки.
Веселый уже докурил и сидел обессиленный, подрагивая здоровенными ладонями, а Ларек придвигал к нему толстый ломоть хлеба с плотным сахарным слоем поверху.
– Спасибо, мужики, но я потом, а вот если можно покурить бы еще…
– Гляди, чтобы крыша не поехала с непривычки, – Берет протянул сигарету. – Слыхал, что устроил ты потеху…
– Я от этой потехи еще по сегодня кровью харкаю… А у вас тут нормально, – он огляделся внимательней. – Терпимо, не как в парилке.
– Это здесь-то терпимо? – Ларек засмеялся.
– Меня держали в «ноль-восемь» в подвале, рядом с баней. По хате труба сотка, что в баню жар гонит, – не дотронуться… Душегубка.
– Вот сволочи, – не сдержался Голуба, – а зимой в «ноль – один» бросают, где окна во двор, так там лед на полу…
Вадима эти слова не трогали: лед на полу представлялся сейчас недостижимым блаженством, а в то, что может быть жарче, чем здесь вот, раскаленный мозг поверить не мог.
– Ну так расскажи, Веселый, – не утерпел Ларек.
– Отстань от человека, – осадил Голуба.
– Так что там рассказывать… – Нрав новичка, из-за которого он, видимо, и получил свое имя, побеждал его недавние беды, и он ухмыляясь оглядел аудиторию. – Взяли меня, как щенка; я в дачу одного торгаша вломился, а там баба его со своим хахалем. Эта дура такой визг произвела, что с соседней дачи сбежались. Хахаль ее – малый, видно, тертый – смылся, а я от визгу сплоховал – меня и зацепили. Потом эта баба и сама не рада была – мужик-то узнал, из-за чего она на даче вдруг оказалась… Так вот, начали меня менты крутить, а за мной ничего больше. Тут мой следак и подкатил: тебе, говорит, все одно пятерик, так давай еще парочку хат возьмешь – тот же пятерик, зато будешь под следствием, как кот в масле; и я согласился, только изо всех висящих на нем хат выбрал три поскромнее. Жил я, мужики, три месяца – и воли не надо: передачи каждый день в его кабинете принимаю, даже с бабой моей свиданки мне в кабинете устраивал, да выпивку сам приносил несколько раз. У нас в хате без фильтра и не курили уже, а чай так выбирали: плиточный не парили… Дай-ка еще одну. – Он прикурил у Берета. – Ну а на суде я им и выдал. Прокурор требует андроп, а я в последнем слове и говорю, невиновен, мол; это вот все, за что гражданин прокурор меня призывает каленым железом изничтожить, мы со следователем в его кабинете и совершили, так его и судите – он же меня уговорил за выпивку, а если не верите, говорю, то запросите справочку – я в то время, как кто-то хаты брал, в ЛТП находился на излеченли. Ну тут такое началось… Дело на переследование, следака другого, а мне кости каждый день ломать киянками. Ну, а новый суд вмазал мне тот же андроп, но уже за одну мою дачу…
– А следователь тот?
– А что ему сделается? Работает себе… Меня вот до сих пор прессуют – пережить не могут, что я против ихнего пошел. Сюда вели – я думал, в пресс-хату бросят…
– Ларек, – Пеца встал, заканчивая разговор, – у тебя там местечко… Подвинься – человеку отдохнуть надо.
– А что – можно спать днем? – радостно удивился Веселый.
– Нельзя, конечно, – засмеялся Голуба, – но здесь нас так понатыкали, что кто там углядит, спишь ты или не спишь.
Ларек что-то передвигал у себя наверху, а Веселый тем временем раздевался, внимательно проглядывая швы изодранной своей одежды.
– Вши есть в хате?
– А как же, – засмеялся опять Голуба. – Куда ж они денутся?
– В хате неважно, лишь бы на тебе не было, – добавил Берет.
Новичок, глянув вскользь на Вадима, забрался на шконку. Они там долго пристраивались, пытаясь сначала уложить еще и тот матрац, который Веселый принес с собой, но потом скинули его чуть не на голову Вадиму («Задвинь под шконку», – свесился Ларек) и скоро затихли.
– А у меня знаешь, как было? – начал громко шептать Ларек, не в силах упустить человека, который еще не слышал его историю.
– Ларек, имей совесть, – окликнул его Голуба.
– Да, ничего, ничего, – отозвался Веселый, – я – нормально.
– Иду я от своей телки, – задыхаясь давним волнением, шептал Ларек, – поругались мы с ней, значит…
– Не дала она ему, – перебил Ворона. – Малый, говорит, ты да слюнявый – телок, одним словом.







