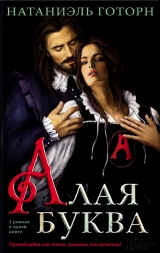
Текст книги "Алая буква (сборник)"
Автор книги: Натаниель Готорн
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 13 (всего у книги 38 страниц) [доступный отрывок для чтения: 14 страниц]
17
Пастор и его прихожанка
Как бы медленно ни шагал пастор, он почти скрылся из вида, прежде чем Эстер Принн смогла достаточно совладать с голосом, чтобы привлечь его внимание. Но ей наконец удалось.
– Артур Диммсдэйл! – позвала она, вначале слабо, а затем громче, но хрипло. – Артур Диммсдэйл!
– Кто зовет? – отозвался священник. Быстро собравшись, он выпрямился, как человек, которого застали врасплох в настроении, которое он не желал открывать свидетелям. Тревожно оглянувшись в направлении голоса, он различил неясный силуэт в тени деревьев, одетый так траурно, что почти не отличался от серых сумерек, которыми густая листва и тучи на небе затянули день, и сложно было даже определить, женщина ли стоит там или же тень. Возможно, его жизненный путь теперь одержим призраком, явившимся из мучительных мыслей.
Он шагнул ближе и различил алую букву.
– Эстер! Эстер Принн! – сказал он. – Это ты? Ты живая?
– Едва ли, – ответила она. – Разве можно назвать жизнью минувшие семь лет? А ты, Артур Диммсдэйл, сам ты жив?
Неудивительно было, что они прежде всего спрашивали друг друга о телесном своем существовании и даже сомневались в собственном. Настолько странной была их встреча в том сумрачном лесу, так походила она на первое столкновение в мире двух мертвых душ, близко связанных в жизни земной, но теперь лишь холодно содрогавшихся от смертного ужаса, не осознавших еще своего состояния и не желавших компании столь же бестелесных существ. Каждый был призраком, и каждый пугался иного призрака. Пугался и себя самого, поскольку кризис ожил в их совести и открыл каждому сердцу его историю и опыт, как не бывает при жизни, за исключением подобных напряженных моментов. Душа узрела свои черты в зеркале промелькнувшего мгновения. Со страхом, трепетом, медленно и неохотно подчиняясь необходимости, Артур Диммсдэйл протянул руку, холодную, словно смерть, и коснулся такой же холодной руки Эстер Принн. Прикосновение, при всем своем холоде, избавило встречу от главного ужасного подозрения. Они ощутили себя обитателями одного слоя бытия.
Не говоря больше ни слова – ни он, ни она не обсуждали направления, – в совместном молчаливом согласии они скользнули обратно в тень леса, туда, откуда вышла Эстер, и сели на кипу мха, где раньше она сидела с маленькой Перл. Когда к ним вернулся голос, первые реплики были обычными при встрече простых знакомых. Они говорили о мрачном небе, о приближающейся грозе, затем о здоровье друг друга. И так продвигались, неспешно, шаг за шагом, к вопросам, которые глубже всего волновали сердца. Им, столь давно разлученным судьбой и обстоятельствами, требовалось нечто простое и будничное, что могло бы распахнуть двери разговора и помочь настоящим мыслям перешагнуть порог.
Некоторое время спустя священник прямо взглянул на Эстер Принн.
– Эстер, – промолвил он, – ты обрела покой?
Она безрадостно улыбнулась, посмотрев на свою грудь.
– А ты? – спросила она.
– Нет, ничего, кроме отчаяния! – ответил пастор. – Чего еще я мог бы искать, будучи тем, кто я есть, живя жизнью, которой я живу? Будь я атеистом – человеком, лишенным совести, грешником, ведомым грубыми и примитивными инстинктами, – я бы мог давно обрести покой. Нет, я никогда бы его не терял. Но сам склад моей души, все добрые способности, что были вложены в меня, все дары Господни, что были самыми избранными, стали теперь исполнителями духовной пытки. Эстер, я просто жалок!
– Люди глубоко чтят тебя, – сказала Эстер. – И ты воистину хорошо им служишь! Разве это не приносит тебе утешения?
– Лишь больше страданий, Эстер! Лишь еще больше страданий! – с горькой улыбкой ответил священник. – Я не верю в то, что могу приносить кому-нибудь благо. Это кажется мне простым заблуждением. Как может разрушенная душа помогать другим идти к искуплению? Как может запятнанная душа вести к очищению? А что до уважения людей, я предпочел бы их презрение и ненависть! Разве ты считаешь утешением, Эстер, то, что я должен стоять на кафедре и видеть в глазах моих прихожан, что я, словно свет Небесный, сияю с нее! – ты бы видела, как моя паства жаждет правды, ты бы слышала мои слова, словно произнесенные самим Святым Духом! – а затем заглядывать в себя и видеть черноту того, что все они обожествляют? Я смеялся с мучительной горечью в сердце над контрастом того, что я есть, и того, чем кажусь! И Сатана смеется вместе со мной!
– Ты несправедлив к себе в этом, – мягко ответила Эстер. – Ты глубоко и искренне раскаялся. Твой грех давно остался позади. И нынешняя твоя жизнь не менее свята, чем кажется она окружающим. Разве не существует грехов, искупленных и засвидетельствованных добрыми делами? И разве это искупление не принесло тебе покоя?
– Нет, Эстер, нет! Не существует для меня такого. Все холодно, мертво и не способно мне помочь! О, наказаний я получил достаточно. Раскаяния же я не испытал! Иначе я давным-давно сбросил бы эти одежды фальшивой святости и показался человечеству таким, как должно, на скамье подсудимых. Тебе посчастливилось, Эстер, открыто носить на груди алую букву! Моя же горит втайне! Ты не знаешь, какое это облегчение, после пытки семилетнего обмана, взглянуть в глаза, которые видят меня настоящего! Будь у меня один друг – будь даже смертный мой враг! – которому, не в силах выносить ежедневных похвал от других, я мог бы открыться, который знал бы, что я худший из грешников, душа моя могла бы быть живой. Даже столь малая правда спасла бы меня! Но сейчас все вокруг лишь фальшь! Все пусто! Все мертво!
Эстер Принн вглядывалась в его лицо, но медлила с ответом. И все же искренность его давно сдерживаемых эмоций, так страстно выплеснутых в слова, создала те самые обстоятельства, в которых она так нуждалась для своего признания. Поборов свои страхи, Эстер заговорила.
– Тем другом, которого ты желаешь даже сейчас, – сказала она, – с которым можно оплакать грех, являюсь я, твоя подельница во грехе!
И снова помедлила, но с усилием все же закончила:
– И столь же давно у тебя есть враг, который живет с тобой под одной крышей!
Священник вскочил на ноги, задохнулся воздухом и схватился за сердце, словно собираясь вырвать его из груди.
– Ха! Что ты сказала? Враг! И под моей собственной крышей! О ком ты? – вскрикнул он.
Эстер Принн теперь полностью осознавала свою ответственность за глубину раны этого несчастного, которому она позволила лгать столько лет, и за тот миг, что отдал священника на милость человека, чьи намерения были предельно злобными. Самого соприкосновения с этим врагом, под какой бы маской он себя ни скрывал, было достаточно, чтобы потревожить магнетическую сферу существа столь чувствительного, как Артур Диммсдэйл. Было время, когда Эстер не придавала этому особого значения, или, возможно, пребывая в мизантропии своей собственной беды, она позволила священнику нести бремя, которое считала более приемлемой судьбой. Но в последние дни, с той ночи его ночного бдения, все ее чувства к нему обострились и смягчились. Теперь она с большей точностью читала его сердце. И не сомневалась, что постоянное присутствие Роджера Чиллингворса – тайный яд его злобных намерений, отравлявший сам воздух вокруг него, и дозволенное ему как врачу вмешательство в телесные и духовные недуги священника – все эти неудачные обстоятельства были использованы для жестокой цели. Благодаря им совесть страдающего постоянно пребывала во взвинченном состоянии, которое не исцеляло его очищающей болью, а разрушало и портило его духовное бытие. В результате на земле он обязательно шагнул бы в безумие, а впоследствии и в вечное отчуждение от всего доброго и истинного, выражением чего безумие и служит нам на земле.
Таково было разрушение, которое она навлекла на этого человека, однажды, – нет, почему бы теперь нам этого не произнести? – столь страстно любимого! Эстер чувствовала, что жертва в виде доброго имени, а то и самой жизни, как она говорила уже Роджеру Чиллингворсу, была бы куда более предпочтительной альтернативой, чем та, которую она позволила себе за него выбрать. И теперь, вместо ужасного своего признания, она была бы рада упасть в опавшие лесные листья и умереть прямо здесь, у ног Артура Диммсдэйла.
– Ох, Артур! – воскликнула она. – Прости меня! Во всем остальном я так старалась быть честной! Честность была единственной добродетелью, которая мне осталась, и я придерживалась ее во все сложные времена, лишь только не в те, когда добро, и жизнь, и слава были под угрозой! Только тогда я решилась на обман. Но ложь никогда не заканчивается добром, даже если выбор правды означает смерть! Ты разве не знаешь, о чем я хочу сказать? Тот старик! Лекарь! Тот, кого зовут Роджер Чиллингворс! Он был моим мужем!
Священник смотрел на нее взглядом, в котором отражалась вся страсть к жестокости – смешанная в различные формы с иными, более высокими, чистыми, мягкими его качествами, – той самой жестокости, к которой взывал дьявол, в надежде с ее помощью заполучить и все остальное. Никогда еще Эстер не ощущала на себе взгляда более темного, яростного и хмурого. В тот краткий миг состоялась жуткая трансформация. Но личность священника была так ослаблена страданием, что даже самые низменные порывы не могли вызвать более чем мгновенной борьбы. Он осел на землю и спрятал лицо в ладонях.
– Я мог бы понять, – бормотал он. – Я должен был знать! Разве его секрет не раскрыло мне естественное отвращение сердца, что возникло с первого взгляда и не исчезло с тех пор? Почему же я не понял? О, Эстер Принн, ты слишком мало знаешь о полноте ужаса! О стыде! О бестактности! О жуткой отвратительности подобного обнажения больного и грешного сердца тому самому взгляду, что будет над ним насмехаться! Женщина, женщина, и ты в ответе за это! Я не могу тебя простить!
– Ты должен простить меня! – воскликнула Эстер, бросаясь на палые листья рядом с ним. – Пусть Господь карает! Но ты должен меня простить!
В порыве внезапной отчаянной нежности она обняла его и прижала его голову к своей груди, не обратив внимания на то, что он прижался щекой к алой букве. Он мог бы высвободиться, но попытки оказались тщетными. Эстер не могла его отпустить, пока он так сурово смотрел на нее. Весь мир был хмур, когда встречался с ней глазами, – семь долгих лет он хмурился на эту одинокую женщину, – и все же она это вынесла, ни разу не отведя прямого печального взгляда. Само небо хмурилось, глядя на нее, и она не умерла. Но хмурый взгляд этого бледного, слабого, грешного, измученного человека был большим, чем Эстер могла бы вынести и выжить!
– Ты еще не простил меня? – повторяла она снова и снова. – Ты перестал хмуриться? Ты простил?
– Я прощаю тебя, Эстер, – спустя долгое время ответил он с глубокой печалью, словно из бездны горя, но без злости. – Я по доброй воле прощаю тебя. Пусть Господь простит нас обоих. Мы, Эстер, не худшие грешники в этом мире. Есть те, кто хуже даже грешного священника! Месть старика куда чернее моих грехов. Он хладнокровно осквернил святилище человеческого сердца. Мы с тобой, Эстер, никогда не совершали подобного!
– Никогда, никогда, – шептала она. – То, что мы сделали, было освящено само собою. Мы чувствовали это! Мы так и говорили друг другу. Разве ты забыл?
– Тише, Эстер, – ответил Артур Диммсдэйл, поднимаясь с земли. – Нет, я не забыл!
Они снова сели бок о бок, взявшись за руки, на замшелый ствол поваленного дерева. В их жизни не было более темного часа, и все же они пребывали в месте, к которому так долго стремились их пути, пусть даже становясь все темнее, – и все же неостывшее чувство заставляло их застыть и требовать еще мгновения, и еще одного, и еще. Лес вокруг них был непрогляден, старые стволы то и дело оглушительно трещали. Ветви над головами тяжело колыхались от ветра, одно одинокое старое дерево страдальчески перекликалось с другим, словно рассказывая печальную историю о паре, которая сидела внизу, или вынужденно предрекая новые беды.
И все же они не расставались. Какой унылой казалась лесная тропа, ведущая обратно в поселение, где Эстер Принн вновь должна была принять бремя своего позора, а священник предаться пустой насмешке своего доброго имени! А потому они медлили и медлили. Ни один золотой свет не казался им столь прекрасным, как сумрак этого темного леса. Здесь, лишь под одним его взглядом, алая буква не обжигала грудь падшей женщины! Здесь, видимый только ее глазами, Артур Диммсдэйл, фальшивый перед Богом и людьми, мог на мгновение стать истинным собой!
Он вздрогнул от мысли, что внезапно стала ясна.
– Эстер! – воскликнул он, – Но в этом же новый ужас! Роджер Чиллингворс знает, что ты решилась раскрыть мне его секрет. Продолжит ли он тогда хранить нашу тайну? И каковы теперь будут планы его мести?
– Ему присуща странная скрытность, – задумчиво ответила Эстер, – и она стала еще сильнее, пока он планировал тайную месть. Мне кажется, он не станет нас выдавать. Он, без сомнения, будет искать другие способы насытить свою темную одержимость.
– А я! Как мне теперь жить, как дышать одним воздухом с моим смертным врагом? – продолжал Артур Диммсдэйл, содрогаясь и нервным жестом прижимая руку к сердцу, движением, что стало уже непроизвольным. – Подумай обо мне, Эстер! Ты сильная! Реши же за меня!
– Тебе больше нельзя жить с ним в одном доме, – медленно и твердо ответила она. – Твое сердце больше не должно быть открыто его злому взгляду!
– Это было хуже смерти! – сказал священник. – Но как мне этого избежать? Какой у меня остается выбор? Мне лечь обратно в эти палые листья, в которые я бросился, когда ты открыла мне, кто он таков? Нырнуть в них и сразу же умереть?
– Увы! Насколько же ты разрушен! – сказала Эстер со слезами на глазах. – Ты готов умереть от одной только слабости? Ведь нет иной причины!
– Гнев Господень на мне, – ответил пастор, ощутив укол совести. – Он слишком силен, мне его не вынести!
– Небо будет к тебе милосердно, – ободрила его Эстер. – Тебе нужна лишь сила, чтобы принять это милосердие.
– Будь ты сильной вместо меня! – ответил он. – Скажи мне, что делать.
– Да неужели мир для тебя так мал? – воскликнула Эстер Принн, глядя на него своими глубокими глазами и инстинктивно протягивая магнетическую силу к духу, который был так расколот и сломлен, что едва удерживался на ногах. – Разве мироздание заканчивается в границах этого города, который совсем недавно был такой же безлюдной пустыней, усыпанной листьями, как та, что нас окружает? Куда ведет та лесная тропа? Обратно в поселение, ты скажешь? Да, но и прочь из него! Чем глубже она ведет, тем меньше мы видим каждый шаг до тех пор, пока, несколько миль спустя, не начинаются дебри, где желтые листья не знали шагов белого человека. Там ты будешь свободен! Всего лишь короткое путешествие избавит тебя от мира, где ты так пострадал, и приведет туда, где ты сможешь еще быть счастлив! Разве мало тени в этом безбрежном лесу, чтобы укрыть одно сердце от взгляда Роджера Чиллингворса?
– Да, Эстер, но только под палыми листьями! – с печальной улыбкой откликнулся пастор.
– А есть еще более широкий путь, в море! – продолжила Эстер. – Он привел тебя сюда. И если ты решишь, он унесет тебя обратно. В нашу родную страну, в ее отдаленную деревню или огромный Лондон, или столь же верно в Германию, Францию, прекрасную Италию – там ты будешь вне пределов его сил и знаний! А что тебе за дело до этих железных людей и их мнений? Лучшую часть души они слишком долго держали в плену!
– Этого не может быть! – ответил священник, слушая ее так, словно Эстер призывала его к мечте. – Я бессилен сделать подобное. Я столь испорчен и грешен, что не могу и думать о том, чтобы увлечь свою бренную оболочку из сферы, в которую ее поместила сама Судьба. Моя душа потеряна, но я все еще хочу сделать все, что в моих силах, для других человеческих душ! Я не смею оставить свой пост, пусть я и неважный стражник, наградой которому будут лишь смерть и позор по окончании его мрачной смены!
– Ты раздавлен грузом страданий, что обрушили на тебя эти семь лет, – ответила Эстер, твердо решившись поддержать его собственной энергией. – Но ты должен оставить их позади! Пусть они не мешают шагать по этой лесной тропинке, пускай их не грузят на корабль, если ты предпочтешь пересечь море. Оставь эти обломки и руины здесь, где все произошло. Хватит растравлять раны! Начни все заново! Разве ты исключаешь возможности оступиться на новом пути? Нет, не так. Будущее полно новых испытаний и успеха. Счастья, которое ждет тебя впереди! Блага, которое ты можешь принести людям! Смени эту фальшивую жизнь на истинную. Стань, если дух призывает тебя к подобной миссии, учителем или проповедником у краснокожих. Или, если это больше тебе по душе, стань богословом, отшельником, самым мудрым и знаменитым среди образованного мира. Проповедуй! Пиши! Действуй! Делай хоть что-то, но не ложись вот здесь умирать! Откажись от имени Артур Диммсдэйл, сделай себе иное, высокое, то, что можно будет носить без боязни и стыда. К чему тебе еще один день, наполненный той же пыткой, что подточила твою жизнь? Что ослабила твое тело и волю? Что сделала тебя бессильным даже раскаяться? Встань и иди!
– Ох, Эстер! – воскликнул Артур Диммсдэйл, глаза которого вспыхнули, заразившись ее энтузиазмом, и тут же погасли. – Ты советуешь пробежать гонку человеку, чьи колени подгибаются под ним! Я должен здесь умереть! Во мне не осталось ни силы, ни мужества отправиться в широкий, странный, сложный мир в одиночку!
Последнее выражение было рождено слабостью сломленного духа. Ему не хватало сил ухватиться за лучший шанс, что был на расстоянии вытянутой руки от него.
Он повторил слово:
– В одиночку, Эстер!
– Ты будешь не один! – ответила она страстным шепотом. И этим было сказано все.
18
Поток солнечного света
Артур Диммсдэйл всматривался в лицо Эстер с ярко сиявшими надеждой и радостью глазами, но и со страхом, и с долей ужаса от той храбрости, с какой она произнесла слова, на которые он слабо намекал, но не смел озвучить.
Но Эстер Принн, чей разум обладал врожденной смелостью и живостью и так долго не просто был отстранен, а выставлен за пределы законов общества, привыкла к той широте мышления, что оказалась совершенно чужда священнику. Она блуждала, без присмотра и наставлений, по дебрям моральной сферы, безбрежной, сложной и тенистой, как нетронутый лес, во мраке которого они сейчас вели разговор, решающий их судьбу. Ее интеллект и сердце были как дома в подобных пустынных местах, где она перемещалась свободно, как дикий индеец в родном лесу. Уже долгие годы она смотрела со стороны на человеческие институты, на установки, которые были созданы законниками и священниками, и относилась к ним с почтением не большим, чем индейцы к воротничку священника, мантии судьи, позорному столбу, виселице, камину или церкви. Судьба ее и удача сделали Эстер свободной. Алая буква была ее пропуском в регионы, куда ни одна другая женщина не смела бы шагнуть. Стыд, Отчаяние, Одиночество! Они стали ее учителями – суровыми и жестокими, – и они сделали ее сильной, хотя во многом научили дурному.
Священник, напротив, не приобрел того опыта, который мог бы вывести его за грань предписанных обществу законов, хотя однажды он в ужасе нарушил один из самых священных устоев. Но то был грех страсти, а не сознания и уж тем более не расчета. С той грешной эпохи он наблюдал, с болезненным вниманием и тщательностью, не только за своими действиями – те было проще отследить, – но за каждым своим вздохом и чувством, за каждой мыслью. Во главе общественного уклада, как положено было в те дни священникам, он был сильнее всего скован ограничениями этого общества, принципами и даже предубеждениями. Будучи священником, он неизбежно был скован каркасом своего ордена. Будучи человеком, однажды согрешившим, все время поддерживавшим свою совесть настороже и в болезненной чувствительности, бередя незажившую рану, он хранил свою добродетель куда надежнее, чем если бы никогда не грешил.
А для Эстер Принн семь лет беззакония и позора стали не чем иным, как подготовкой к этому часу. Но Артур Диммсдэйл! Оступись он еще раз, какая мольба могла бы извинить повторное его падение? Никакая, разве что признание, что он был сломлен долгим и изнурительным страданием, что разум его затмило и спутало то самое раскаяние, которое изначально послужило причиной муки; что, разрываясь между возможностью сбежать, как открытый преступник, и остаться лицемером, совесть его не сумела найти баланса, что в самой человеческой природе скрыто стремление избегать мучений, смерти, позора и непостижимых козней врага, что наконец этот бедный странник на своем мрачном пустынном пути, слабый, больной, страдающий, увидел искру людской привязанности и симпатии, новую жизнь, праведную, в обмен на тяжкую судьбу, которая довлела над ним сейчас. Но стоит здесь озвучить суровую печальную истину: брешь, которую вина однажды пробивает в человеческой душе, невозможно закрыть в течение смертной жизни. Ее можно наблюдать и оберегать, не дать врагу снова подобраться к ней и заставить его в новых попытках искать иные пути взамен тех, что ранее были успешны. И все же стена цитадели остается разрушенной, а рядом с ней всегда будут слышны крадущиеся шаги врага, готового вновь испытать незабываемый свой триумф.
Внутренняя борьба, если и велась таковая, не нуждается в описании. Достаточно лишь сказать, что священник решился бежать, и не один.
«Если бы за все эти семь лет, – думал он, – я мог припомнить хоть миг надежды и покоя, я бы выдержал муку и дальше, пытаясь заслужить Божественное милосердие. Однако теперь – когда я безнадежно обречен, – с чего мне отказываться от утешения, позволенного приговоренному накануне казни? О, если это путь к лучшей жизни, как описывает его Эстер, я наверняка без промедления им воспользуюсь! Я не могу больше жить без нее; такой мощной поддержкой она обладает – и так нежно умеет успокоить! О Ты, к Кому я не смею обратить взгляда, простишь ли Ты меня?»
– Ты поедешь! – спокойно сказала Эстер, когда он взглянул ей в глаза.
Как только решение было принято, свет странной радости замерцал в мрачных глубинах его сердца. То было странное веселье – веселье узника, который смог сбежать из темницы собственного сердца и вдохнуть дикий вольный воздух неискупленных, не христианских, беззаконных областей. Его дух поднимался к небу, выше, чем позволяли ему страдания, вынуждавшие все это время ползти по земле. Глубоко религиозный темперамент неизбежно придал оттенок божественности новому состоянию.
– Неужто я снова чувствую радость? – воскликнул он, поражаясь сам себе. – Я думал, что способность к радости давно умерла во мне! О Эстер, ты мой лучший ангел! Я словно бросился – больной, запятнанный грехом и почерневший от печали – на эти лесные листья, чтобы подняться созданным заново и с новой силой прославлять Господа за его небывалую милость! Это уже лучшая жизнь! Почему же мы не поняли этого раньше?
– Не будем оглядываться, – ответила Эстер Принн. – Прошлое минуло! К чему же медлить сейчас? Смотри! С этим символом я его отпускаю и делаю так, словно его никогда не было!
С этими словами она расстегнула булавку, крепившую алую букву и, сорвав ее с груди, бросила далеко в опавшие листья. Загадочная метка отлетела на ближний берег ручья. Будь взмах пославшей ее руки немного сильнее, она бы упала в воду и дала бы маленькому ручью еще одного врага, которого нужно нести вперед, невзирая на неясную историю, которую он все продолжал бормотать. Но вышитая буква лежала на берегу, поблескивая, словно потерянное сокровище, которое мог подобрать какой-нибудь несчастливый путник и вместе с ним обрести компанию призраков вины, сердечной слабости и бесконечных невезений.
Оставшись без клейма, Эстер испустила долгий глубокий вздох, с которым бремя стыда и страданий покинуло ее душу. О небывалое облегчение! Она не осознавала груза, пока не испытала свободы! Повинуясь новому импульсу, она сняла с себя строгий чепец, удерживавший волосы, и позволила им рассыпаться по плечам густой темной волной, в которой запутались тени и свет и которая придала очарование мягкости чертам ее лица. На губах ее и в глазах играла нежная и светлая улыбка, которая, похоже, рождалась в самом сердце. Алый румянец заливал ее щеки, которые так долго привыкли быть бледными. Ее пол, ее юность, все богатство ее красоты вернулись из того, что люди называют невозвратимым прошлым, и вновь ожили в ней девической надеждой и ранее неизвестным счастьем в волшебном круге этого часа. И, словно сумрак земли и неба был лишь влиянием этих двух смертных сердец, он исчез вместе с их печалью. В одно мгновение во внезапной улыбке небес вниз хлынул солнечный свет, затопив весь окружающий лес, огладив каждый зеленый лист, превращая опавшие желтые в золото и поблескивая на серых стволах огромных деревьев. Объекты, прежде крывшиеся в тени, теперь приобрели яркость. Русло маленького ручья можно было проследить по веселому блеску далеко, к самой тайне в сердцевине леса, которая сменила мрак на загадку радости.
Такова была симпатия Природы – дикой, языческой Природы леса, никогда не подчинявшегося человеческому закону, а теперь освещенному высшей истиной, – к блаженству двух сердец! Любовь, будь она новорожденной или же возрожденной из сна, похожего больше на смерть, должно быть, всегда призывает солнце, наполняя сердца таким свечением, что оно выплескивается через край во внешний мир. Будь лес по-прежнему сумрачным, он стал бы ярким в глазах Эстер и в глазах Артура Диммсдэйла!
Эстер взглянула на него, испытывая волнение от новой радости.
– Ты должен познакомиться с Перл! – сказала она. – С нашей маленькой Перл! Ты видел ее, да, я знаю! Но теперь ты посмотришь на нее другими глазами. Она такое странное дитя! Я едва ее понимаю! Но ты сердечно полюбишь ее, как я, и будешь советовать, как с ней справиться!
– Ты думаешь, дитя захочет меня узнать? – с некоторой неуверенностью спросил священник. – Я давно избегаю детей, потому что они зачастую не доверяют мне – и пятятся, когда их пытаются со мной познакомить. Меня боялась даже маленькая Перл!
– Ах, как это печально! – ответила мать. – Но она искренне тебя полюбит, а ты полюбишь ее. Она недалеко. Я позову ее. Перл! Перл!
– Я вижу девочку, – заметил священник. – Вон она, стоит в луче солнца, в отдалении, на той стороне ручья. Так ты думаешь, она сможет меня полюбить?
Эстер улыбнулась и снова позвала Перл, которая виднелась вдали так, как и описал ее священник, похожая на яркое видение в луче солнца, что падал на нее в проем древесных крон. Луч дрожал, отчего фигурка девочки казалась смутной и неразличимой, – похожей то на настоящего ребенка, то на духа, – в зависимости от яркости озарявшего ее света. Она слышала голос матери, но приближалась совсем неспешно.
Перл не скучала, пока ее мать целый час разговаривала со священником. Огромный темный лес – суровый, как казалось тем, кто приносил в своей груди вину и беспокойство мира, – стал товарищем по играм одинокому ребенку, насколько умел это делать. При всей своей мрачности лес вложил самое лучшее в попытку ее поприветствовать. Он предложил ей ягоды брусники, выраставшие в начале осени, но созревавшие лишь ближе к весне, которые теперь казались алыми каплями крови на облетевших листьях. Перл собирала их и наслаждалась их диким вкусом.
Мелкие обитатели леса не стремились сбежать с ее пути. Куропатка с выводком из десяти птенцов угрожающе бежала к ней, но вскоре смиряла ярость и клохтала своим детям, что здесь нечего бояться. Одинокий голубь на низкой ветке позволял Перл пройти под собой и издавал звук скорее приветственный, чем тревожный. Белка, вынырнув из глубин своего дома на дереве, стрекотала то ли от радости, то ли от злости – белки столь вспыльчивые и веселые создания, что сложно бывает понять их настроение, – и, не прекращая шуметь, бросала на голову девочки орех. Это был прошлогодний орех, уже побывавший в острых зубах. Лиса, разбуженная шорохом легких шагов по листьям, инстинктивно глядела на Перл и застывала в сомнении, стоит ли убегать или продолжить сон в том же месте. Волк, говорили потом, – но в этом история определенно стремилась в сторону невозможного, – выходил, чтобы понюхать платьице Перл, а затем предложить свою дикую голову для поглаживания. Однако истиной оставалось то, что мать-природа и все ее дикие порождения признавали родственную дикость в этом человеческом ребенке. И девочка здесь становилась куда мягче, чем на отороченных травой улицах поселения или в материнском коттедже. Растения словно понимали это, а потому то одно, то другое шептали ей, когда она проходила: «Укрась себя мной, прекрасное дитя, укрась себя мной!» – и, чтобы порадовать их, Перл собирала фиалки, и анемоны, и водосбор, и ярко-зеленые побеги, что росли на старых деревьях на уровне ее глаз. Ими она украшала свои волосы и талию и превращалась в дитя нимфы, маленькую дриаду или иное существо, столь родственное античному лесу. Перл так же украшала себя, когда услышала голос матери, и медленно зашагала назад.
Медленно – потому что она видела священника!







