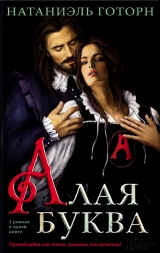
Текст книги "Алая буква (сборник)"
Автор книги: Натаниель Готорн
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 38 страниц) [доступный отрывок для чтения: 14 страниц]
– Замолчи, Эстер… Замолчи! – с мрачным упрямством ответил старик. – Не мне вас прощать. Я не обладаю той силой, которую ты мне приписываешь. Моя старая вера, давно забытая, возвращается и объясняет мне все, что мы делаем, и все, от чего страдаем. Первый раз сбившись с пути, ты посеяла семя зла, но с тех пор все было лишь темной неизбежностью. Вы, причинившие мне зло, не согрешили, лишь поддались определенной и типичной иллюзии, да и я не похож на дьявола, вершащего дьявольские дела. Все это наша судьба. Так пусть же темный цветок распустится, как предначертано! А теперь иди, куда хочешь, и говори, о чем пожелаешь, с упомянутым человеком.
Он махнул рукой и снова вернулся к собиранию растений.
15
Эстер и Перл
Итак, Роджер Чиллингворс – деформированная старая фигура с лицом, преследовавшим людей в воспоминаниях дольше, чем им бы того хотелось, – отошел от Эстер Принн и поковылял дальше, низко склоняясь над землей. Тут и там он срывал какое-нибудь растение или выдергивал корень и складывал их в корзину, висевшую на его руке. Серая борода его почти касалась земли, когда он шел. Эстер еще немного посмотрела ему вслед, с почти фантастическим любопытством пытаясь заметить, не вянут ли под его ногами нежные травы ранней весны, желтея и съеживаясь в окружении прочей радостной зелени. Она размышляла, что за растения старик так старательно собирает. И не ответит ли ему земля, пробужденная к злому делу его горящим взором, отравленными листьями видов, доселе неизвестных, что вырастут прямо под его пальцами? Или его цели будет достаточно уже выросших трав, которые от его прикосновений превратятся в нечто вредоносное и пагубное? А солнце, так ярко светящее всем остальным, действительно ли касается его своими лучами? Или же, как сейчас ей казалось, его фигура окутана кругом странной тени, которая двигается вместе с ним, куда бы он ни пошел? Да и куда он шагал? Не нырнет ли он внезапно под землю, оставив сожженную и дымящуюся точку, в которой с течением времени можно будет увидеть ядовитый паслен, кизил, черную белену и любые иные отравленные побеги, свойственные местному климату, распустившиеся с отвратительной пышностью? Или он расправит крылья летучей мыши и улетит прочь, становясь тем уродливее, чем выше поднимается к небесам?
– Будь то грех или нет, – горько сказала Эстер Принн, все еще глядя ему вслед, – я ненавижу этого человека!
Она укоряла себя за это чувство, но справиться или умерить его не могла. В попытках совладать с этим чувством она думала о давно минувших днях на далекой земле, когда по вечерам он выходил из уединения своего кабинета и садился у их камина, озаренный языками пламени и ее почтительной улыбкой. Он говорил, что нуждается в свете ее улыбки, чтобы прогнать холод, проникавший в сердце ученого от долгих часов одиночества среди книг. Подобные сцены раньше казались ей счастьем, но теперь, глядя на них сквозь призму своей последующей жизни, она переживала одни из самых отвратительных воспоминаний. Она поражалась, как подобное вообще могло быть! Она изумлялась тому, как ее сумели заставить выйти за него замуж! Она считала своим преступлением, достойным сильнейшего раскаяния, что когда-то выдерживала и отвечала взаимностью на едва теплые прикосновения его руки, и чувствовала, как улыбка на ее губах и во взгляде смешивается и сливается с его собственной. И худшим проступком Роджера Чиллингворса, худшим, чем все, что затем произошло с ним, было то, что, когда ее сердце не ведало лучшего, он убедил ее, что рядом с ним она счастлива.
– Да, я его ненавижу! – повторила Эстер еще горше, чем раньше. – Он предал меня! Он причинил мне больше зла, чем я ему!
Да устрашатся мужчины завоевывать руку женщины, не завоевав при том искренней страсти в ее сердце! Иначе удача их будет столь же печальна, как в случае с Роджером Чиллингворсом, когда более жаркое прикосновение пробудит в ней всю чувственность и станет упрекать их даже в спокойствии, в мраморном образе счастья, в который они пытались облечь ее, убеждая, что это и есть все тепло реальности. Но сама Эстер давным-давно покончила с этой несправедливостью. Что же это означало? Неужели долгие семь лет под пыткой алой буквы причинили ей столько страданий и при этом не привели к покаянию?
Эмоция того краткого промежутка времени, в течение которого она глядела на согбенную фигуру старого Роджера Чиллингворса, вызвала в сознании Эстер темный свет, проявивший то, что она до сих пор могла отказываться в себе признавать.
Он ушел, и Эстер позвала свое дитя.
– Перл! Маленькая Перл! Где ты?
Перл, чья энергия духа никогда не стихала, нашла, чем развлечь себя, пока ее мать разговаривала со старым собирателем трав. Вначале, как мы уже говорили, она увлеклась причудливой игрой со своим отражением в поверхности пруда, призывая фантом выйти и – если тот откажется – пытаясь самой отыскать проход в его сферы неощутимой земли и недостижимого неба. Вскоре, однако, выяснив, что либо она сама, либо изображение не реальны, Перл решила искать себе лучшее развлечение. Она делала маленькие лодочки из бересты и отправляла их в дальнее путешествие с грузом покинутых улитками раковин, вскоре собрав флотилию, которая могла посрамить бы любого купца Новой Англии; но большая часть корабликов оставалась у самого берега. Она изловила живого мечехвоста, захватила в плен несколько морских звезд и положила медузу таять под теплым солнцем. Затем, набирая полные пригоршни морской пены, которую нес приближающийся прилив, она подбрасывала ее вверх и воздушными своими шагами гналась за большими снежинками, которыми пену растрепывал легкий ветер. Заметив стайку прибрежных птиц, порхавших и кормившихся на берегу, проказница собрала полный передник гальки и, прячась за камнями, подобралась к стае маленьких птиц и проявила поразительную меткость стрельбы. Одна маленькая серая птица с белой грудкой (Перл была почти уверена) получила удар камнем и упорхнула со сломанным крылом. Но тогда эльфийское дитя вздохнуло и прекратило игру, ощутив боль оттого, что причинила вред крошечному созданию, столь же дикому, как морской бриз и она сама.
Последним ее занятием был сбор водорослей различных видов, из которых девчушка плела себе шарф или мантию и тиару, придававшую ей облик маленькой русалки. В сотворении украшений и костюмов она унаследовала талант своей матери. Последним штрихом к одеянию русалки стала морская трава, из которой Перл со всей доступной ей точностью повторила на собственной груди рисунок, что был ей так привычен по платью матери. Буква – буква «А» – была пронзительно зеленой, а не алой. Девочка опустила голову и со странным интересом уставилась на это украшение, словно оно было единственной вещью, ради которой она была послана в мир, с целью выяснить скрытое значение символа.
– Интересно, спросит ли мама, что это значит? – думала Перл.
И в тот же миг раздался голос ее матери, на который Перл помчалась с легкостью и скоростью морской птички, чтобы предстать перед Эстер Принн, танцуя и указывая пальцем на украшение из водорослей на груди.
– Моя маленькая Перл, – сказала Эстер после минутного молчания, – зеленая буква на твоей детской груди не имеет смысла. Но знаешь ли ты, дитя мое, что означает эта буква, которую обречена носить твоя мать?
– Да, мама, – ответила девочка. – Это заглавная буква «А». Ты показывала мне ее в букваре.
Эстер внимательно всматривалась в детское личико, но, хотя и видела в нем то самое странное выражение, что часто появлялось в черных глазах Перл, все же не могла решить, действительно ли девочка вкладывает иное значение в этот символ. Ей отчаянно захотелось прояснить этот вопрос.
– Знаешь ли ты, дитя мое, почему твоя мать носит эту метку?
– Конечно же, знаю! – ответила Перл, весело глядя в лицо своей матери. – По той же причине, по которой священник прижимает руку к своему сердцу!
– И что же это за причина? – спросила Эстер, почти улыбнувшись абсурдной нелепости детского наблюдения, но, вдумавшись, побледнела.
– Но как эта буква может быть связана с чьим-то сердцем, кроме моего?
– Нет, мама, я уже сказала тебе все, что знаю, – ответила Перл с большей серьезностью, чем обычно была ей свойственна. – Спроси того старика, с которым ты говорила, – может быть, он расскажет больше. А сейчас, мамочка, ты объясни мне, что значит эта алая буква? И почему ты постоянно носишь ее на груди? И почему священник прижимает руку к сердцу?
Она обеими руками взяла ладонь матери и теперь заглядывала в ее глаза с искренностью, что редко проявлялась в диком и капризном детском характере. Эстер тогда показалось, что дитя может действительно искать к ней подход со всей присущей детству доверчивостью и делает все возможное столь разумно, словно знает истинный путь к установлению взаимного понимания. Это желание сквозило в каждой черточке Перл. До сих пор мать, любившая свое дитя со всей силой единственной оставшейся ей страсти, привыкла не ждать в ответ на любовь ничего большего, чем переменчивость апрельского ветра, который все время проводит в движении, то срываясь в порыв неожиданной любви, если на него находит хорошее настроение, то, куда чаще, обдает холодом грудь; то целует, вознаграждая за терпение к своим капризам или по иной непонятной причине, и, вложив в поцелуй сомнительную нежность, принимается мягко играть с волосами, а затем уносится прочь по своим детским делам, оставляя в сердце лишь мечтательное удовольствие. И ведь подобным образом мать воспринимала свое дитя! Любой иной наблюдатель мог бы заметить несколько более неприятных черт и придать им куда более темный оттенок. Но пока что у Эстер возникла идея, что Перл, с ее поразительно ранним развитием и острым умом, уже могла достичь возраста, когда способна стать подругой своей матери и ей можно доверить ту часть материнских печалей, которая не вызовет непочтения ни к матери, ни к ребенку. В том маленьком хаосе, что представлял собой характер Перл, с самого начала можно было различить стойкие принципы и непоколебимую смелость, неукротимую волю и упрямую гордость, что могла бы со временем вырасти в самоуважение, а также горькое отвращение ко многим вещам, которые при ближайшем рассмотрении оказывались вместилищем некой фальши. Она обладала и привязанностями, порой раздражающими и неприемлемыми, как острый вкус недозрелых плодов. При всех этих чистых качествах, думала Эстер, зло, унаследованное ею от матери, может вызреть в нечто ужасное, если только из эльфийского ребенка не вырастить достойную женщину.
Неизменная склонность Перл возвращаться к загадке алого символа казалась врожденным качеством ее натуры. С самых ранних дней своей сознательной жизни девочка стремилась к букве, словно в том была ее миссия. Эстер часто думала, что Провидение, наделив дитя такой выдающейся склонностью, стремилось к справедливости и воздаянию, но никогда до этого самого момента она не задавалась вопросом, не содержал ли в себе тот символ также милосердия и благодеяния. Что, если миссия маленькой Перл, которая была вестником духа в той же мере, что и земным ребенком, заключалась в попытке добиться доверия и веры, чтобы затем утишить печаль, холодом сковавшую сердце ее матери, превращая его в могилу? И помочь ей справиться со страстью, однажды столь дикой и даже теперь не погибшей и не уснувшей, лишь запертой в могильном склепе заледеневшего сердца?
Таковы были мысли, появлявшиеся у Эстер с такой живостью и яркостью, словно кто-то шептал их ей на ухо. А перед ней все так же стояла маленькая Перл, сжимая ладонями руку матери и запрокинув лицо, вновь и вновь повторяя все те же вопросы.
– Что означает эта буква, мама? И почему ты ее носишь? И почему священник прижимает руку к сердцу?
– Что же мне сказать? – думала Эстер про себя. – Нет! Если такова цена взаимопонимания с ребенком, я не могу ее оплатить.
А затем она заговорила…
– Глупенькая Перл, – сказала она. – Ну что это за вопросы? В этом мире слишком много вещей, о которых детям не дóлжно спрашивать. Откуда мне знать о сердце священника? А что до алой буквы, я ношу ее из-за золотой нити.
За все минувшие семь лет Эстер Принн никогда не лгала о метке на своей груди. Пусть та была талисманом суровым и жестким, но все же принадлежала духу-хранителю, ныне покинувшему ее, словно узнавшему, что, несмотря на его суровый присмотр, новое зло пробралось в ее сердце или же старое зло ему так и не удалось из нее изгнать. Что же до маленькой Перл, доверчивость скоро исчезла с ее лица.
Но дитя не оставило попыток узнать о букве. Два или три раза, пока они с матерью шли домой, и столько же за ужином, и когда Эстер укладывала ее спать, и вновь после того как она, казалось бы, крепко заснула, Перл поднимала голову, и лукавство светилось в ее темных глазах.
– Мама, – говорила она, – что означает алая буква?
А затем на следующее утро, сразу же едва проснувшись и оторвав голову от подушки, вновь задала вопрос, который непостижимым образом связывала со своими исследованиями алой буквы:
– Мама! Мама! Почему священник прижимает руку к сердцу?
– Придержи язык, дерзкая девчонка! – ответила ей мать с суровостью, которой никогда не позволяла себе раньше. – Не дразни меня, иначе я запру тебя в темном чулане!
16
Лесная прогулка
Эстер Принн осталась непреклонна в своей решимости уведомить мистера Диммсдэйла, ценой любой явной боли и скрытых последствий, об истинном характере человека, который подобрался к нему так близко. Однако уже несколько дней она тщетно искала возможности обратиться к нему во время одной из созерцательных прогулок, которые, как она знала, священник привык совершать на побережье полуострова или в лесистых холмах, прилегающих к поселению. Не случилось бы никакого скандала или пятна на священной белизне доброго имени пастора, если бы она посетила его в его же кабинете, где многие грешники время от времени исповедовались в преступлениях столь же глубоких и темных, как и отмеченное алой буквой. Однако, отчасти потому, что она боялась тайного или явного вмешательства старого Роджера Чиллингворса, отчасти потому, что ее собственное беспокойное сердце видело подозрения там, где их не могли ощутить другие, отчасти же потому, что ей и священнику требовался целый мир вокруг, чтобы продолжать дышать, оставаясь наедине, – по этим причинам Эстер никогда не задумывалась о встрече с ним в меньшем уединении, чем под открытым небом.
Наконец, приглашенная в комнату больного, к которому преподобного Диммсдэйла звали для молитвы, она узнала, что пастор ушел еще вчера навестить проповедника Элиота, живущего среди обращенных индейцев. Вернуться он должен был завтра днем, к определенному часу. А потому на следующий день Эстер взяла маленькую Перл – которая была обязательной спутницей во всех путешествиях матери, каким бы неуместным оказывалось ее присутствие, – и заблаговременно вышла ему навстречу.
Дорога, по которой две путницы проследовали с полуострова на материк, представляла собой всего лишь утоптанную тропинку. Она вилась и тянулась в таинственный девственный лес. Густая чаща темного леса смыкалась по обе стороны тропинки, оставляя лишь редкие проблески неба над головой, и Эстер казалось, что этот образ прекрасно подходит к духовной дикости, в которой она столь давно заплутала. День оказался холодным и мрачным. Над головой тянулись серые тучи, время от времени разгоняемые ветром настолько, что бродячие лучики солнца могли то здесь, то там озарить одинокой игрой предстоящий путь. Ускользающая яркость всегда оказывалась в дальнем конце длинной просеки. Играющий луч – слабый проблеск в общей меланхолии места и времени – исчезал раньше, чем они успевали подойти, оставляя место, на котором танцевал, еще более мрачным, поскольку путницы надеялись увидеть в нем солнечный свет.
– Мама, – сказала маленькая Перл, – солнышко тебя не любит. Оно убегает и прячется, потому что боится чего-то на твоей груди. Вот, смотри! Вон там оно играет вдалеке. Постой здесь, а я побегу вперед и поймаю его. Я всего лишь ребенок. От меня оно не убежит, я же пока ничего не ношу на груди!
– Надеюсь, что никогда и не будешь носить, дитя мое, – ответила Эстер.
– А почему нет, мама? – спросила Перл, останавливаясь, хотя уже сорвалась на бег. – Разве она не появится сама по себе, когда я вырасту взрослой женщиной?
– Беги, дитя, – подогнала ее мать. – И поймай солнышко. Оно скоро исчезнет.
Перл побежала вперед, и Эстер улыбнулась, глядя, как та действительно поймала солнышко и остановилась, смеясь, в самом центре луча, подсвеченная его потоком, искрящаяся живостью и радостью от быстрого бега. Свет задержался на одиноком ребенке, словно радуясь найти товарища по играм, и не исчезал, пока мать не подошла почти что к самой границе очерченного солнцем круга.
– Он сейчас пропадет, – сказала Перл, качая головой.
– Смотри! – ответила Эстер, улыбаясь. – Я могу протянуть руку и тоже его поймать.
Но стоило ей попытаться, как солнечный свет исчез; и в чертах Перл проступило такое яркое и лукавое выражение радости, что матери почти показалось, что девочка вобрала его в себя и снова выпустит на волю, освещая свой путь, как только они окажутся в сумерках чащи. Из всех присущих девочке черт Эстер больше всего поражалась этой новой и цельной жизненной силе, постоянной живости ее духа: девочка была неподвластна печали, которую наследуют в наши дни почти все дети, как золотуху от всех злосчастий своих родителей. Возможно, и эта живость была болезнью, наследием той дикой силы, с которой Эстер преодолевала свои горести до рождения Перл. То несомненно была сомнительная черта, придающая детскому характеру тяжелый металлический блеск. Она хотела как некоторые люди хотят всю жизнь, чтобы горе глубоко проникло в нее, и тем очеловечило, сделав способной на сострадание. Но у маленькой Перл еще было время до этого изменения.
– Пойдем, дитя! – сказала Эстер, глядя туда, где Перл продолжала стоять в сиянии солнца. – Мы немного посидим в лесу и отдохнем.
– Я не устала, мама, – ответила ей девочка. – Но ты можешь посидеть, пока рассказываешь мне историю.
– Историю? – воскликнула Эстер. – О чем же?
– О, историю о Черном Человеке, – ответила Перл, хватаясь за платье матери и поднимая взгляд, полный одновременно доверчивости и лукавства.
– О том, как он бродит по этому лесу и носит с собой большую тяжелую книгу с железными скобами; и о том, как этот жуткий Черный Человек предлагает свою книгу и железное перо всем, кто встретит его среди лесных деревьев, и они пишут в ней свои имена собственной кровью, а потом он оставляет на их груди метку. Ты когда-нибудь встречала Черного Человека, мама?
– И кто же рассказал тебе эту сказку, Перл? – спросила ее мать, опознав распространенные предрассудки того времени.
– Старая дама у камина в том доме, где мы были прошлой ночью, – сказала девочка. – Но она думала, что я сплю, когда говорила это. Она сказала, что тысячи и тысячи людей встречали его здесь и были записаны в книгу, и получили свои метки. А среди них была та вредная леди, миссис Хиббинс. И, мама, та старая дама говорила, что алая буква на твоем платье тоже знак Черного Человека и что она светится красным пламенем, когда ты встречаешься с ним в полночь, здесь, в лесу. Это правда, мама? Ты правда ходишь к нему сюда по ночам?
– А ты когда-нибудь просыпалась и видела, что меня нет? – спросила Эстер.
– Нет, я такого не помню, – ответила девочка. – Если ты боишься оставлять меня в коттедже, то ведь можешь взять с собой. Я с удовольствием пойду! Но, мама, скажи мне! Есть такой Черный Человек? И ты с ним действительно встречалась? Это его метка?
– Оставишь ли ты меня в покое, если я отвечу тебе?
– Да, если ты все мне расскажешь, – откликнулась маленькая Перл.
– Один лишь раз в жизни я встретила Черного Человека! – сказала ей мать. – И эта алая буква – его метка!
Разговаривая вот так, они успели зайти довольно глубоко в лес и скрыться из вида любого случайного проезжего по этой лесной дороге. Там они сели на огромную кипу мха, которая в предыдущем столетии наверняка была гигантской сосной; корни и ствол ее тонули в тени, а верхушка касалась облаков. Путницы решили отдохнуть в маленькой ложбине, края которой, покрытые опавшей листвой, служили берегами ручью, что тек посредине, в ложе из опавших и утонувших листьев. Деревья, нависавшие над ним, время от времени роняли большие ветки, которые душили поток, в некоторых местах создавая водовороты и черные омуты, в то время как в других, более светлых и оживленных местах дно устилала галька и коричневый искрящийся песок. Проследив взглядом изгибы ручья, они смогли рассмотреть отраженный водой свет в отдалении, но затем ручей терялся бесследно среди подлеска и путаницы древесных стволов, иногда перемежавшихся большими скалами в наносах серого лишайника. Все эти гигантские деревья и глыбы гранита словно специально пытались скрыть русло ручья от посторонних взглядов, будто опасаясь, что в бесконечной своей болтливости он вынесет тайны из сердца древнего леса, откуда течет, или отобразит их видениями на гладкой поверхности пруда. И действительно, в своем стремлении вперед ручеек продолжал журчать и шептать, мягко, тихо, успокаивающе, но при этом печально, как мог бы шептать ребенок, проводящий все детство без игр и не знающий, как можно радоваться в таких печальных обстоятельствах и мрачном свете.
– Ох, ручеек! Ох, глупый и скучный маленький ручеек! – воскликнула Перл, немного послушав его журчание. – Почему ты так грустишь? Взбодрись, и не надо все время вздыхать и вот так бормотать!
Но ручей в течение своей короткой жизни среди лесных деревьев приобрел такой мрачный опыт, что не мог об этом не говорить, а других историй, похоже, совсем не знал. Перл напоминала этот ручей, ведь исток ее жизни был скрыт такой же таинственностью, а русло вилось по таким же мрачным печальным тенистым местам. Но, в отличие от маленького ручья, она искрилась и танцевала, веселой болтовней сопровождая свой путь.
– А что говорит этот маленький грустный ручей, мама? – спросила она.
– О том, что, будь у тебя печаль, ручей поговорил бы с тобой о ней, – ответила мать, – как вот говорит со мной о моей. Но сейчас, Перл, я слышу шаги по тропинке и шорох раздвигаемых ветвей. Я бы хотела, чтоб ты пошла и поиграла, пока я поговорю с тем, кто идет сюда.
– Это Черный Человек? – спросила Перл.
– Почему бы тебе не пойти поиграть? – повторила Эстер. – Только не заходи далеко в лес. И возвращайся, когда я тебя позову.
– Да, мама, – откликнулась Перл. – Но если это будет Черный Человек, можно мне остаться на минутку и посмотреть на него и ту большую книгу, что он с собой носит?
– Беги, глупое дитя! – нетерпеливо ответила мать. – Это не Черный Человек! Разве ты не видишь его за деревьями? Это священник!
– И правда он! И, мама, он снова прижимает руку к сердцу! Это потому, что, когда священник написал свое имя в книгу, Черный Человек оставил в том месте свою метку? Но почему он не носит знак снаружи, как ты, мама?
– Беги играть, Перл, дразнить меня, если пожелаешь, ты сможешь и в другое время, – воскликнула Эстер Принн. – Только не заходи далеко. Держись так, чтобы слышать журчание ручья.
Девочка, напевая, отправилась, следуя по течению и пытаясь добавить песней немного гармонии в мрачный голос ручья. Однако поток не желал покоряться и все продолжал рассказывать о непостижимых печальных тайнах, уже сокрытых, или пророчески оплакивал те, что только должны появиться, под покровом темного леса. А потому Перл, которой хватало тени в ее собственной маленькой жизни, решила прекратить знакомство с этим бесконечным жалобщиком. Она отправилась собирать фиалки и лесные анемоны, а затем нашла несколько алых цветков водосбора в расщелине высокой скалы.
Когда маленький эльф скрылся из виду, Эстер Принн сделала пару шагов в направлении тропки, тянувшейся сквозь лес, но осталась в глубокой тени деревьев. Она смотрела, как священник в полном одиночестве шагает по тропе, опираясь на посох, который вырезал по пути. Он выглядел изможденным и хрупким, и походка его выдавала безутешное отчаяние, которого никогда не видели у него во время прогулок по поселению да и в любой другой ситуации, когда пастор знал, что за ним наблюдают. Сейчас же, в уединении леса, в полной мере проявлялся тяжкий упадок его духа. Походка его была апатична, словно он не видел смысла шагать вперед и не желал делать нового шага, но был бы рад, если бы хоть что-то могло его радовать, упасть к корням ближайшего дерева и больше никогда оттуда не подниматься. Листья засыпали бы его, земля со временем собралась бы холмом над его телом, неважно, теплилась бы в нем жизнь или нет. Смерть казалась слишком определенным объектом, чтобы желать ее или же избегать.
Взгляду Эстер преподобный мистер Диммсдэйл предстал без единого признака явного и очевидного страдания, за исключением, как уже заметила маленькая Перл, того, что руку он прижимал к сердцу.








