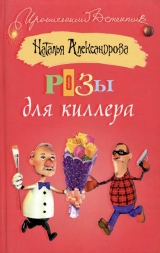
Текст книги "Розы для киллера"
Автор книги: Наталья Александрова
Жанр:
Криминальные детективы
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 14 страниц) [доступный отрывок для чтения: 6 страниц]
Я поманила Владимира и указала ему на картину.
– Точно, это моя. И теперь еще пейзажи. А я пока схожу в администрацию.
Я осталась в затруднении. С пейзажами будет сложнее. Может, спросить у той женщины, Веры Сергеевны? Но нет, надо вести честную игру.
Я вдруг остановилась, как будто в толпе на улице встретила старого знакомого. Маленький городской дворик, конец лета," стена без окон – брандмауэр, около стены – чудом пробившееся небольшое деревце с пыльной пожухлой листвой, и во всем была такая же теплота и мягкая печаль, как в натюрморте с тыквой. Я сразу поняла – это писал один и тот же человек.
Но дальше дело пошло хуже, потому что я никак не могла найти еще один пейзаж. Вернулся Владимир, очень довольный. Когда я подвела его к пейзажу, он посмотрел на меня с каким-то странным выражением.
– Что – не тот? – спросила я с непонятно отчего забившимся сердцем.
– Тот, – медленно сказал он, – в том-то и дело, что тот.
– А вот второго никак не определю.
– Правильно, его вчера продали. Но деньги только послезавтра дадут, Аделаида такая жадина, всегда тянет до последнего. – Он испуганно оглянулся.
Мы побродили еще немного по галерее, он показал мне работы своих знакомых, потом мы попрощались с Верой Сергеевной и ушли. В общем, получился очень милый культурный вечер. Дома, лежа в постели, я раздумывала: ухаживает за мной Владимир Иванович или просто выражает благодарность за то, что взяла на время Ромуальда?
А может, он тщеславен, как все люди творческих профессий, и ему захотелось похвастаться своими картинами? Не придя ни к какому выводу, я заснула. Сон мой был крепок, от плача внука я не проснулась. И снились мне пейзажи, портреты и натюрморты.
Он позвонил на неделе, позвонил сам, сказал, что получил за пейзаж кучу денег, на самом деле не очень много, но на некоторое время можно поправить дела и даже пригласить меня куда-нибудь посидеть. От ресторана я отказалась, потому что не была в ресторане сто лет и понятия не имела, куда сейчас ходят и какая там сейчас публика. В следующий понедельник выписывают Володину тещу, в среду Аделаида пригласила его на инсталляцию, нельзя не пойти, потому что Аделаида рассердится, а Аделаида – это такая женщина, что… в общем, об этом он уже говорил. Володя очень извинялся, что не может взять меня на инсталляцию, все дело опять-таки было в Аделаиде, я поняла из его недомолвок, что Аделаида почему-то положила на него глаз. Для каких целей он был ей нужен, пока неизвестно; очевидно, Аделаида задумала очередную интригу, и ей могло не понравиться, что рядом с Володей мелькает посторонняя женщина. Всего этого мне никто не говорил, я сама догадалась, уж очень он извинялся насчет инсталляции.
– Боже упаси! – отказывалась я. – Я даже не знаю, что это такое – инсталляция.
– Откровенно говоря, я и сам не очень представляю. Приду – расскажу, – пообещал он.
***
На скамейке в сквере у Финлядского вокзала сидели трое молодых людей восточной внешности и разговаривали. Перед ними на земле стояли три бутылки пива, но они играли роль театрального реквизита, чтобы троица выглядела менее подозрительно в глазах случайных прохожих – пива ребята не пили.
– Ну что там во дворе? – спросил старший из троих у соседа слева.
– По-прежнему ничего.
– У почтового ящика тоже глухо, – сказал, не дожидаясь вопроса, третий участник разговора.
– Что значит – глухо? Вообще никто не подходит?
– Подходят, письма опускают, но никто их не забирает, а нас ведь интересует тот, кто эти письма получает.
Значит, письма вообще никто не вынимает? Ведь из каждого ящика почту должны два раза в день вынимать. Сейчас время не то, но хоть раз в три дня-то должны забирать, а то ящик переполнится! Значит, ящик этот лишний, почтовым ведомством неучтенный, а раз из него письма наружу не валятся – значит, кто-то их периодически забирает. Следим за ящиком в четыре глаза. Во дворе тоже посматривать надо, но там мы вряд ли кого дождемся: парень лег на дно, особенно когда про убийство Егорыча узнал. Но исполнитель этого может не знать, раз он денежки от шефа не получил, то к почтовому ящику раньше или позже может выйти.
***
Дмитрий Дмитриевич подъехал к ящику на улице Комсомола и внимательно огляделся. Место людное, народа всегда очень много, тут и трамвайная остановка, и магазины… трудно проверить, сколько человек ведет наружное наблюдение. Главное – вынуть письма быстро и с уверенным видом, привлекая как можно меньше внимания. Дмитрий Дмитриевич мысленно перекрестился и вышел из машины.
Утром он долго раздумывал, есть ли смысл ехать за письмом после ошибки на Васильевском. После того как в криминальных новостях показали два трупа в квартире на Семнадцатой линии и они с женой узнали, кого убили по ошибке, в доме разразился жуткий скандал. Марья Дмитриевна вышла из себя и кричала, что она и так делает всю самую трудную и опасную работу, а он не мог даже как следует выяснить, с кем еще может встречаться мордатый любовник Белой Галины. Дмитрий Дмитриевич понимал, что опять вышла досадная случайность, но не слишком ли много таких случайностей? – задавала вопрос Марья Дмитриевна. У профессионалов случайностей быть не может.
И теперь из-за его неумелой подготовки они могут вообще лишиться заказов. Дмитрий Дмитриевич страшно оскорбился, ему стало плохо. Марья Дмитриевна расстроилась, утешала его, даже просила прощения. Они помирились, но в душе Дмитрия Дмитриевича остался неприятный осадок. В глубине души он понимал, что жена права, что стал стар и негоден для такой работы. Но киллеры на покой не уходят, не та профессия.
Дмитрий Дмитриевич не спал ночь и с утру решил наведаться к почтовому ящику. Он подумал, что могут передать дополнительные инструкции или уточнение по последнему заказу, и поехал на улицу Комсомола. Если бы он посоветовался с женой, то она бы его никуда не пустила. Но Марья Дмитриевна с утра пораньше ушла на рынок, а это дело долгое, поэтому муж был предоставлен самому себе.
Теперь, подходя к ящику, он почувствовал, что делает это зря. Его многолетнее чутье предсказывало опасность. Но он вспомнил вчерашний скандал, какими несправедливыми словами бросалась в него жена, и решил все же вытащить письма, ведь это был последний шанс связаться с работодателем. Киллер следил за улицей боковым зрением, стараясь не выдать внешне своего беспокойства. Он пристегнул к ящику холщовый баул, повернул в скважине ключ, письма посыпались в мешок, и тут же он почувствовал левым боком жесткое прикосновение револьверного ствола.
– Не делай резких движений, – тихо сказал ему незнакомый голос.
Дмитрий Дмитриевич был профессионалом, резких движений не делал. Скосив глаза вправо и влево, он убедился, что врагов двое, взяли они его профессионально и вырваться ему, по крайней мере сейчас, не удастся. Он попробовал другой ход:
– В чем дело,, молодые люди? Это что, грабеж? Я сотрудник девятого отделения связи. Вынимаю письма. Что вам нужно?
Он говорил достаточно громко, надеясь привлечь внимание прохожих, но не переходя на крик, чтобы те, психанув, не пристрелили его. Но ребята попались с крепкими нервами. Один сказал ему вполголоса:
– Еще пикнешь, пристрелю. Медленно, без лишних движений, иди к своей машине.
Они взяли у киллера ключи, открыли машину и осмотрели. Затем один из них сел за руль, второй вместе с Дмитрием Дмитриевичем – на заднее сиденье. Револьвер он постоянно держал в руке, прижав его ствол к боку своего соседа. Прежде чем завести машину, водитель вынул из кармана мобильный телефон и набрал номер. Дождавшись ответа; он сказал:
– Учитель, мы взяли исполнителя. Да, я уверен, что это киллер – реакции, поведение. На заказчика он нас выведет. Везем его в Центр – у нас кто угодно заговорит. Сюй Дэ останется следить за второй точкой.
Машина выехала на Литейный мост, двигаясь в направлении центра города. Дмитрий Дмитриевич искоса наблюдал за своим соседом, выжидая, когда у того притупится внимание или что-нибудь его отвлечет. Киллер понимал, что, если он не сможет сбежать в дороге, другого случая у него не будет, и он умрет под пытками – ему приходилось слышать много страшного о китайской группировке, в чьи руки он попал.
Примерно на середине моста машина, за которой они ехали, неожиданно резко затормозила. Дистанция между машинами была небольшая, и водитель, чертыхнувшись, ударил по тормозам и одновременно резко крутанул руль. Машину занесло, китайца с револьвером бросило лицом на спинку сиденья, и киллер, воспользовавшись замешательством, ударил его в висок и тут же вырвал из его руки револьвер. Направив револьвер в затылок водителю, он распахнул свободной рукой дверцу и выкинул своего соседа из машины. Тело покатилось по асфальту, и через секунду, страшно взвизгнув тормозами, на него налетел ехавший сзади «мерседес».
Водитель почти уже справился с управлением, но, увидев, что произошло у него за спиной, резко крутанул руль, чтобы лишить киллера равновесия.
– Кончай фокусы! – заорал Дмитрий Дмитриевич. – Выровняй машину, сволочь, или застрелю!
– Не застрелишь, – с холодной злостью ответил китаец, – не застрелишь, побоишься разбиться!
Машина выписывала чудовищный зигзаг, сзади, бешено сигналя, скапливались другие автомобили, хозяин «мерседеса» выскочил из своей «пятисотки» и, виртуозно ругаясь, наклонился над сбитым китайцем. Дмитрий Дмитриевич, взвесив обстановку, ударил водителя рукояткой револьвера в висок и, сгруппировавшись, выскочил из машины и покатился по дорожному покрытию. Краем глаза он увидел, как «Жигули» с оглушенным водителем врезались в перила моста и, проломив их, по смертельной кривой полетели в Неву.
Погасив скорость, киллер вскочил на ноги. Он с трудом верил своему везению: он жив и все кости целы. В его возрасте это было просто чудо. Он медленно пошел по мосту в ту сторону, где образовалась пробка и лежал сбитый «мерседесом» китаец. Ему хотелось убедиться, что китаец погиб и не осталось никого, кто знает киллера в лицо. Поравнявшись с группой людей, столпившихся возле неподвижно лежащего тела, он выглянул из-за спин праздных зевак и увидел, что глаза китайца открыты. Эти глаза искали убийцу, и они нашли его. Два человека встретились взглядами, и в ту же секунду тяжело раненный китаец, собрав последние силы, вскинул руку. Маленький предмет, сверкнув серебристой молнией, просвистел в воздухе и вонзился между глаз Дмитрия Дмитриевича. Старый киллер рухнул на асфальт как подкошенный.
Свидетели происшествия ахнули и подбежали к лежащему на мосту худощавому мужчине. Он был мертв. В его переносицу глубоко вонзилась остро заточенная стальная звезда.
***
Приглашенные на инсталляцию начали съезжаться к семи. В дверях их встречала Аделаида, ее было много – и фигуры, и смеха, и темно-серого платья. Напоминала Аделаида африканскую бегемотицу Жужу, что выступает сейчас в Санкт-Петербургском цирке. Каждого входящего она одаряла комплиментом в стиле клуба «Хали-Гали».
Владимир Иванович, услышав комплимент, украдкой поморщился, потому как в ночном клубе «Хали-Гали» царили грубые нравы, а он, как было сказано выше, не любил ненормативной лексики. Но, судя по тому, что Аделаида никогда ничего не делала просто так, ее поведение входило в инсталляцию.
Огорошенные комплиментами гости входили в полутемное помещение, напоминающее не то огромный сенной сарай, не то гараж на двести подержанных машин. Вдоль всего помещения была проложена ржавая канализационная труба с просверленными в самых неожиданных местах отверстиями. Из отверстий светили лампочки, такие же лампочки были местами прикручены к трубе снаружи. У дальнего конца трубы стоял в величественной позе автор инсталляции с женой. Жена была молода и очаровательна, но ее несколько портил наголо выбритый и подкрашенный синей краской череп. Рядом с автором ошивался Бультерьерский и что-то ему временами нашептывал на ухо. Владимир Иванович шел вдоль трубы в поисках обещанного шампанского. Навстречу ему попался Валидолов, придерживающий за плечико молодого, подающего надежды скульптора Лохнесского и что-то ему горячо внушавший. В свободной руке Валидолов держал пластиковый стаканчик, значит, шампанское все-таки было. Увидев Пятакова, он непостижимым образом нашел еще одну свободную руку и радостно притянул Владимира Ивановича к себе и продолжил с невероятным энтузиазмом свою речь:
– …И в этом, пацаны, заключается удивительная амбивалентность такого искусства!
– У меня от таких слов сыпь на коже выступает, – вставил находчивый скульптор.
– Лохнесский, ты – чудовище! – расхохотался Валидолов. – А на каком месте?
Владимир Иванович осторожно освободился из цепких объятий Вал ид о лова и спросил:
– Шампанское где дают?
Получив в ответ взмах рукой в глубину гаража, он устремился в указанном направлении. Неподалеку от автора инсталляции он нашел длинноногую печальную негритянку с глазами изысканного жирафа, раздававшую стаканчики с шампанским. Тут же вертелся Бультерьерский, покинувший автора инсталляции ради предположительно «нового русского» в смокинге и галстуке с алмазной булавкой. Бультерьерский вцепился в него мертвой хваткой и вещал:
– Эти ржавые пятна в своих фантастических сочетаниях создают противоречивую и осмысленную картину, ассоциирующуюся с противоречивой бессмысленностью современного мира…
– Бультерьерский, – охладил его пыл Владимир Иванович, – это андоррский атташе по вопросам культуры, он по-русски не понимает, а переводчицу кто-то умыкнул на время.
Бультерьерский злобно огрызнулся и снова переметнулся к автору, с пол-оборота включившись в бесконечный монолог:
– Удивительная игра светотени, создаваемая искусно разбросанными источниками света, символизирует светлые и темные стороны нашего быта.
Пятаков торопливо прорвался к негритянке, пока у нее еще не кончилось шампанское. Он и сам не знал, зачем он так стремится получить заветный стаканчик. Просто без шампанского в этом сарае было совсем уж нечего делать. Ухватив стаканчик, он постарался как можно дальше уйти от Бультерьерского, чтобы не слышать его хорошо поставленный утомительный голос. Двигаясь против течения прибывающих гостей, он случайно завернул за огромный ржавый ящик, по-видимому, тоже являвшийся частью инсталляции. Бультерьерского слышно не было, Пятаков вздохнул с облегчением и пригубил шампанское. И тут же он услышал разговор. Судя по всему, два человека тоже укрылись от толпы за тем же ящиком с другой стороны. Они обсуждали свои дела:
– …Надо будет ему позвонить.
– Но вы говорили, что на таможне у вас с Адой все схвачено и никаких проблем не будет.
– Не будет, не беспокойтесь. То, что они придержали ваш груз, – тактический ход, это они прощупывают связи. Так сказать, разведка боем: проверяют, кто начнет на них давить.
– Но ведь вы уже задействовали нужного человека? Почему же это не сработало?
– Конечно, сработает. Но их начальство, таможенное, хочет прощупать своих людей – кто кем куплен, кто на кого работает…
– Ну смотрите, Глеб, вы с Адой давали мне гарантии…
Владимир Иванович догадался, кто обсуждает свои проблемы рядом с ним: главный менеджер Аделаидиной фирмы Глеб Миногин – наглый, сальный, самоуверенный толстяк лет тридцати пяти, может, и меньше, из-за веса он казался старше своих лет. Он вечно суетился и вечно что-то устраивал.
Вторым был заметный коллекционер старшего поколения Максим Максимович. Максима Максимовича не узнать по голосу было невозможно – так он был басист, вальяжен и авторитетен. Ухватил Пятаков и суть проблемы: коллекционер пытался вывезти картины за рубеж, а Ада с Глебом взялись ему помочь… Интересно!
Вдруг Глеб перешел на свистящий, но хорошо различимый шепот:
– Максим Максимович, душа моя, на пять минут удалитесь! Смотрите, кто к нам идет! Очень важно!
Коллекционер обиженно хрюкнул и отошел. Глеб затараторил радостно-возбужденным голосом:
– Как удачно, что я встретил вас именно сегодня! Утром мне предложили совершенно сказочную вещь. Только для вас! Только человек с вашим вкусом сможет оценить такую работу! Ранний Духовидов, сорок на шестьдесят, и совершенно даром. Всего восемнадцать тысяч! Но это, разумеется, только для вас. Любому другому – не меньше тридцати, а на вас я не могу наживаться, ради такого человека пойду на любые убытки!
– Однако! – подал голос неизвестный собеседник Глеба. – Вы считаете, что восемнадцать тысяч долларов – это совершенно даром?
– За такую сказочную вещь – больше, чем даром! Такой случай бывает раз в столетие! Не упустите свой шанс!
– Уж и не знаю. Вы ведь, помнится, обещали мне достать Шухаева, говорили даже, что дело совершенно сладилось…
– Да, все было абсолютно на мази, с наследником я не один литр водки выпил, все было оговорено, но старуха, сволочь, выкинула фортель – выздоровела. А теперь она вообще занялась оздоровительным бегом и зимним плаванием, так что никаких надежд не осталось! Она, мерзавка, еще своего племянника переживет!
– Судя по литрам водки, такой оборот не исключен. А с ней невозможно договориться?
– Никак невозможно. Я, говорит, с этим портретом никогда не расстанусь, это, говорит, единственное, что мне в жизни дорого. Так бы ее, стерву, и утопил в проруби…
– Вы уж, Глеб, пожалуйста, мне таких вещей не говорите. Как вы достаете картины – ваше дело, меня это не касается.
– Ну что вы такое подумали. Господь с вами! Это только образное, так сказать, выражение!
– Слишком вы любите образно выражаться. С вами иногда разговаривать страшно – не знаешь, когда вы шутите, когда серьезно…
– Ну так что – придержать вам Духовидова?
– Нет, Глеб, отдавайте кому хотите… за тридцать тысяч. Я не могу вводить вас в убытки, меня потом совесть всю жизнь будет мучить.
– А если не за восемнадцать, а за четырнадцать?
– Нет-нет, увольте.
– Ну за десять? Это уже вообще смешная цена.
– Спасибо, Глеб, но я лучше откланяюсь! У меня сегодня дела!
Неизвестный удалился, и через минуту его место занял Максим Максимович.
– Удалось, Глебушка, охмурить клиента?
– Ни в какую. Уперся, сволочь. Я уж цену в два раза сбавил.
– Вы бы и в четыре сбавили – все равно внакладе не останетесь.
– Разумеется, не останусь, но обидно, понимаете ли! Себя уважать не буду, если вчетверо на вещи не заработаю!
– Что за вещь? Халтура небось?
– Конечно, Максим Максимович, халтура, фальшак. Под Духовидова, но так безобразно сделано. Я уж говорю – ранний, ранний, чтобы клиенты не шарахались… Хорошо, что денег на него не потратил, даром достался, подвозил по пьянке халтурщика одного, он мне и дал его вместо денег…
Пятаков давно хотел уйти из своего невольного укрытия – ему вовсе не хотелось выслушивать Глебушкины секреты, но выйти не мог, потому что все подумали бы, что он подслушивал специально. Ему было страшно неловко, шампанское давно кончилось, он невероятно томился. Глеб с Максимом Максимовичем снова вернулись к таможенной теме, которую могли обсуждать бесконечно. Вскоре Глеб увидел неподалеку Аделаиду, решил использовать ее в разговоре в качестве дополнительного, очень весомого аргумента и потащил коллекционера к ней. Воспользовавшись передышкой, Пятаков выскользнул из-за ржавой конструкции и смешался с гостями. Его мучило праздное любопытство: кому Глеб пытался всучить фальшивого Духовидова, который и настоящий-то никому особенно не нужен, да еще и за такие громадные деньги? Голос этого человека был Пятакову незнаком, а догадываться по внешним признакам было трудно. Оставалось действовать методом исключения. Понятно, что художники, составляющие на приеме нищее большинство, сразу отпадали: и на фальшивку не клюнут, и денег таких в жизни не нюхали. То же самое – искусствоведы, критики и журналисты. Владельцы галерей, конечно, публика побогаче, но им Духовидов и напрочь не нужен – хоть фальшивый, хоть настоящий. Оставались почетные гости – случайно забежавшие «новые русские» из бывших интеллигентов (других на такое действо не заманишь) и разные культурные иностранцы вроде андоррского смокинга. Иностранцы отпадали, поскольку Глебушкин собеседник говорил мало того что по-русски, но даже без акцента, а «новые русские» шагу не могли ступить без телохранителя. Пожалуй, наиболее подходящей фигурой был маячивший в глубине зала большой, толстый и жизнерадостный Петя Мертваго, владелец процветающего издательства «Голографию», специализирующегося на выпуске полупорнографических романов восемнадцатого – девятнадцатого веков и альбомов репродукций такого же направления. Разбогатев на припахивающей нафталином порнушке, Петя стал заядлым собирателем живописи, при этом разбирался в ней весьма посредственно, так что Глеб вполне мог попытаться втюхать ему заведомую фальшивку. Пятаков двинулся по направлению к Пете, чтобы поболтать с ним немного и за это время понять, он ли это беседовал с Глебушкой за ящиком. По пути он старался избегать знакомых из художественного мира, чтобы не пришлось с ними обсуждать достоинства ржавой трубы: ругать ее было бы неполитично, а хвалить ему не позволял эстетический вкус. Поэтому приходилось непрерывно лавировать, и путь через зал оказался достаточно долгим. Добравшись до Пети, он застал его беседующим с каким-то узколобым субъектом в хорошо сшитом английском костюме и дивном шелковом галстуке чуть ли не от Диора.
– Познакомься, Володя. – Петя повернулся к Владимиру Ивановичу. – Олег работает в мэрии и очень интересуется искусством, может, он и твое что-нибудь купит. А я как раз сейчас рассказывал, как здорово отдохнул в Сахаре. Путешествуешь на верблюдах, как в средние века, но в каждом оазисе – пятизвездочный отель, а сзади за караваном везут на гусеничном тягаче переносной бассейн, так что можно поплавать и попрыгать в воду с верблюда.
Олег хищно улыбнулся Пятакову и начал расспрашивать, в каких галереях можно увидеть его работы. Владимир Иванович охотно отвечал, радуясь, что разговор не касается достоинств ржавой трубы, то бишь инсталляции. Олег заинтересовался и даже попросил у Пятакова визитку с координатами. Тот хотел было ответить, что его телефон есть в справочнике Союза художников и визитки у него нет, но потом все же решил не чиниться и записал свой телефон Олегу в блокнот. Параллельно разговору Владимир Иванович прислушивался к голосам своих собеседников. Беда была в том, что природа, наделив его прекрасной зрительной памятью, обделила его музыкальным слухом. А заодно памятью на голоса. Иногда он не узнавал по телефону даже голос хорошего знакомого, а собеседник Глеба говорил тихо, почти шепотом, так что задача была неразрешима. То ему казалось, что он слышал из своего укрытия Петин голос, то узнавал интонации Олега… В конце концов, решив не ломать голову над ерундой, Пятаков распрощался с меценатами, которые углубились в дискуссию, где лучше встречать Новый год – под водой в корпусе затонувшего «Титаника», переоборудованного предприимчивым японцем в казино, или на Южном полюсе. Двигаясь к выходу, Пятаков утратил бдительность и угодил в когти Шанхайского, который страшно ему обрадовался и тоже стал знакомить с каким-то хорошо одетым мужчиной.
– Володечка, познакомься с нашим американским гостем господином Верри. Джордж, это известный художник Владимир Пятаков.
Шанхайский где-то сумел оставить свою неизбежную жену и поэтому выпил больше шампанского, чем обычно. Глаза его блестели, речь была очень оживлена, а мнения радостны и преувеличенно восторженны. На это Владимир Иванович списал и «известного художника». Американец вежливо заговорил, к немалому удивлению Пятакова, без малейшего акцента.
– Простите, – спросил Владимир Иванович, – где вы так хорошо научились говорить по-русски?
– Дело в том, – ответил мистер Верри, – что я родился и вырос здесь, в Ленинграде, то есть в Петербурге, но тогда он был Ленинградом. Меня зовут Георгий Верещагин, но американцам такую фамилию не выговорить, поэтому я Джордж Верри. Здесь у меня бизнес…
Пятакову показалось, что голос Джорджа Верри тоже похож на голос Глебушкиного собеседника, но полной уверенности не было. Тут, на беду, случилось именно то, чего он боялся: американский гость начал допытываться, как Владимиру Ивановичу понравилась инсталляция. При этом Шанхайский, потирая руки, приготовился слушать – явно собираясь потом передать его слова всем заинтересованным и незаинтересованным организациям и лицам. Поэтому Владимир Иванович сделал вид, что его зовут из другого конца зала, торопливо извинился и кинулся в толпу. Оказавшись недалеко от дверей, он воспользовался суматохой, вызванной появлением знаменитого латиноамериканского хоккеиста, и поспешно покинул мероприятие, провожаемый завистливыми взглядами двух знакомых художников.
***
Итак, мы договорились на пятницу. Кафе я выбрала попроще, не очень дорогое. Мы сели в уголке, в маленьком зале царил полумрак, на лицах лежали тени от ламп на столиках. Просидели мы там часа три, причем я даже не помню, что мы ели, потому что мы разговаривали. Вначале мне было как-то неловко, дискомфортно. Я уже забыла, что можно просто так сидеть в кафе, никуда не спешить, смотреть друг на друга и вести приятную беседу. Последний раз я была в кафе сто лет назад. Раньше мы с приятельницами могли иногда себе такое позволить. Любимый человек меня в кафе не водил, потому что… потому что остерегался появляться на людях с посторонней женщиной, как всякий женатый человек.
К концу вечера я понемногу освоилась, оказалось, что я не все забыла, что вполне могу поддерживать разговор и вообще неплохо сохранилась.
Кстати, разговор поддерживать было совсем не трудно, потому что, какой бы темы мы с Володей ни коснулись, мы всегда находили столько общего, что мне просто не верилось. Я смотрела в его серьезные серые глаза и не верила себе. Мы знакомы всего две недели, а у меня было такое чувство, что всю жизнь. Разумеется, такому чувству способствовали выпитые мною два бокала сухого вина, но пьяной я не была. Где-то в дальнем углу моей глупой головы брезжила мысль, что нельзя так распускаться, что я не девочка, но было так приятно сидеть в уголке и слушать его мягкий голос… В конце концов, имею я право немного расслабиться? Ведь я живой человек!
Как все хорошее, вечер кончился быстро. Когда мы шли под медленно падающими снежинками, Володя спросил:
– Ты правда раньше нигде не видела мои работы?
Соблазн был велик, но я ответила честно:
– «Тыкву» я вспомнила, она мне еще на выставке «13» понравилась.
– А пейзаж ты раньше нигде видеть не могла, он недавно написан, – задумчиво проговорил он.
– Почему тебя удивляет, что я его узнала?
– Так… – Он неопределенно махнул рукой.
– Я бы хотела посмотреть остальные твои работы, пойдем еще куда-нибудь в галерею.
– Сейчас остальные дома, то есть в мастерской. Хочешь, я устрою для тебя персональный вернисаж? – улыбнулся он.
– Хочу! – ответила я так поспешно, что сама на себя рассердилась, надо же соблюдать приличия.
– Может быть, завтра? – предложил он. – А то потом тещу выпишут, некогда будет.
Голос его звучал спокойно и деловито, что меня несколько отрезвило. Видно, он и правда собирается показывать мне картины. Что ж, в конечном счете я была не против посмотреть его работы, чтобы узнать его поближе.
На следующий день, в субботу, я была взвинчена с самого утра. Все валилось из рук, я отшлепала такса, правда за дело, накричала на зятя и выпроводила его гулять с ребенком и собакой. После того как в доме установилась относительная тишина, я опять взялась за туалеты. Вывалив все из шкафа на диван и на пол, я совершенно зарылась в этой куче, сама не зная, что собираюсь искать.
– Мам, что с тобой происходит? – Лизавета стояла в дверях подбоченясь, потом заметила у меня в руках лифчик.
– Ого, уже и до этого у вас дошло?
– Отвяжись! – огрызнулась я, потом помотала головой и очухалась.
Действительно, что со мной происходит, что мне. семнадцать лет, что ли? Это от одиночества, надо смотреть фактам в лицо.
– Мам, ты что, сегодня вечером уходишь? – протянула Лизавета.
– Именно ухожу, и надолго, – злорадно ответила я, и вообще, прошли те времена, когда я, как Золушка, сидела дома. Теперь я собираюсь развлекаться.
– Значит, на день рождения мы с Валериком сегодня не пойдем, – скорбно заметила дочь.
– Правильно понимаешь. Лизавета, должна же у твоей матери быть личная жизнь!
– Ладно уж, давай я тебе хотя бы приличный макияж сделаю, – смягчилась Лизавета.
Она вообще очень хорошо делает макияж и причесывает, видно, сказываются годы, проведенные ею у зеркала. Проработав надо мной минут сорок, Лизавета удовлетворенно оглядела творение рук своих и сказала, что теперь меня не стыдно выпустить в город. Я была полностью с ней согласна.
Мы встретились в городе и пошли не спеша к дому, где жил Володя. Он сказал, что здесь находится мастерская, в ней он и живет, а прописан у тещи. Где прописана жена и, вообще, где она находится, я не стала уточнять, хоть и было интересно, что же у них за отношения, раз дочь даже не навестила больную мать.
На улице к вечеру подморозило, было скользко. Мы подошли к дому, и я поняла, почему тот Володин пейзаж с двориком показался мне таким родным, ведь вот он стоит, тот брандмауэр, и деревце еле торчит из сугроба.
В этом самом доме я жила в детстве с родителями до семи лет, а потом нам дали квартиру в новостройках. Мы вошли в знакомый подъезд, поднялись на самый верхний, шестой, этаж. Дверь нашей бывшей квартиры, на третьем, была другая, железная, с добротным замком. Как видно, коммуналку давно уже расселили. Зато наверху все было как прежде. Пахло кошками, дверь хоть и старая, дубовая, но вся облупленная. В этой квартире раньше жила моя подружка Танька Морозова со своей матерью и бабкой. Интересно, где она сейчас?
Я с любопытством оглядывалась по сторонам, решив пока не говорить Володе, что уже бывала в этой квартире. Раньше тут были две большие комнаты, я точно помнила. В одной жила семья Морозовых, а в другой тихий пьяница дядя Леша Ситников. Дверь в бывшую дяди-Лешину комнату была закрыта.
– Там такой беспорядок, – сказал Володя смущенно, – хлам всякий навален, я живу и работаю здесь.
В этой комнате вдоль стен были расставлены и развешаны картины. Действительно, получился вернисаж! Я стояла в центре и крутила головой. Мне они все нравились. И городские пейзажи, преимущественно старые дворы, никаких памятных общепринятых мест, до такого Володя не опускался. Из памятников он позволил себе написать только Новую Голландию – еще Петром строенные речные склады и огромные ворота из потрескавшегося камня на заросшем травой острове на Фонтанке.
Еще там был огромный букет в простой глиняной вазе – ноготки, ромашки, разноцветные астры. Я подумала, что букет Володя писал не в мастерской, – цветы явно выглядели только что сорванными и какими-то деревенскими. Так и есть, на желто-белом фоне сзади я уловила трещины, это была старая, давно не беленная печь. Интересно, это его собственная дача или он гостил у друзей?








