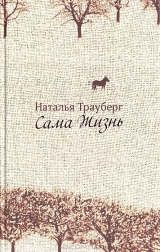
Текст книги "Сама жизнь"
Автор книги: Наталья Трауберг
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 24 страниц) [доступный отрывок для чтения: 9 страниц]
Государственный экзамен
6 апреля 1949 года посадили Руню Зернову и Илью Сермана. Ей дали пять лет, ему – двадцать пять, без права переписки. Когда мы пошли к его матери, Ру-ниной свекрови, она сказала, что прекрасно знает смысл этих слов, но к Илье это не относится, мы его скоро увидим. Действительно, мы увидели его в Москве, на вокзале, в 1954 году.
Однако пятый курс– это пятый курс. Ни проработки Жирмунского и Эйхенбаума (Пропп был раньше), ни надвигавшийся арест Матвея и Григория Гуковских не могли отменить государственных экзаменов. Меня предупредили, что по одной из специальностей, западной литературе, решено поставить мне тройку, зачем – не знаю. В аспирантуру я бы и так не сунулась. Предлагать что-то подобное В. Ф. Шишмареву (романо-германская филология) никто бы не посмел; зато профессор, у которого я была в семинаре и по кельтам, и по Каролингам, и по Шекспиру, и Бог знает по чему, был известен пристрастием ко мне и определенной забитостью. На него и уповали.
Посидев сколько мог, он исчез. Остались загадочная особа, присылавшаяся тогда с каких-нибудь сомнительных кафедр, и Мария Лазаревна Тройская. М. Л. преподавала немецкий романтизм да еще и любила его, что совсем плохо, и была женой только что пониженного в должности латиниста по имени Иосиф Моисеевич. Он, в свою очередь, был братом Исаака Троцкого, который в свое время сел, не успев сменить фамилии. М. Л. была поэтична, хрупка, мы менялись с ней английскими детективами, а вредоносные студенты со вкусом изображали, как она выпевает на кафедре: «Гно-о-омы…»
Папин брат, терапевт, делал мне перед «госами» укол, и я почти все время спала, но все же отвечала как-то на обозначенные в билете вопросы. Потом, когда все сдали, нас потомили перед залом – и позвали сообщать оценки.
Тогда я и услышала сквозь сон, что комиссия особенно отмечает ответы Аллы Афанасьевой и Натальи Трауберг. Мгновенно проснувшись, я впервые в жизни впала в истерику. На меня плескали водой.
Профессор появился примерно в это время. Одни говорили, что он меня поздравил, другие – что тихо прошел куда-то. Мама считала после этого, что мы с ним не знакомы. Я, естественно, так не считала.
Михайловский сад
Лето 1949-го года выдалось тихое и прохладное. Прошли госэкзамены, я собиралась в Москву, а пока -ходила пешком с Петроградской в Михайловский сад и читала там честертоновского «Диккенса».
Помню, однажды отправилась на Невский и долго рассматривала в какой-то витрине фотографии балерин, а вернувшись домой, увидела, что папа с мамой – совсем серые. Оказалось, что посадили братьев Гуковских. Старший, Матвей Александрович, был заместителем Орбели в Эрмитаже и проректором у нас. Занимался он живописью и вообще культурой Возрождения, а нам рассказывал часто
о семинаре Гревса, где учился, а может – и работал вместе с Карсавиным, Федоровым, Добиаш-Рождест-венской и легендарной Еленой Чеславовной Скржин-ской, героиней карсавинских «Noctae Petropolitanae».
Григорий Александрович в лагере умер, М. А. -вернулся. Как сейчас помню: здесь, в Москве, я вышла его встречать в мамином красивом платье цвета персидской сирени. Хожу по тротуару и плаваю от счастья. Это бывало в середине 1950-х, когда возвращались «оттуда».
А в 1949-м я сидела, читала и вдруг очень удивилась. Честертон пишет: «Особенно хорошо Диккенс описал, как ребенок попадает к людям, про которых он только позже поймет, что они – „простые". Современные прогрессисты, кажется, не любят, чтобы их дети торчали на кухне, и не берут к ним в наставницы Пеготти. Но именно так проще всего воспитать в человеке достоинство и чувство равенства. Ребенок, уважавший хоть одну добрую и умную женщину из народа, будет уважать народ всю жизнь. Чтобы покончить с неравенством классов, надо не обличать его, как мятежники, а просто не замечать, как дети».
Как же так? Какой народ? Я боялась его и начисто забыла, что за год до этого, вместе с Валей Берестовым, каялась, что мы – high-brow[ 33 ]33
Высоколобые (англ.). Ред.
[Закрыть]. Мало того -меня воспитала та самая Пеготти. Больше всего на свете я обязана няне, Лукерье Яковлевне, орловской крестьянке.
Тимур
Зима 1950-1951 года очень много значила. Летом меня выгнали с работы, куда послали за год до этого, и мы с мамой снова стали делать абажуры. Стояла полная тишина: Питер затих, гости у нас не кишели. Я читала Лескова, журнал «Strand», привезенный из Лондона Валентиной Михайловной Ходасевич в 1924 году, и «Перелетный кабак». Именно тогда стихи из него соединили для меня дом и свободу, крестьянский кенозис с английским либерализмом. Даст Бог, я еще напишу об этом. Сейчас собираюсь рассказать о другом.
Сравнительно молодой летчик, который почему-то писал картины, попросил меня об очень странной услуге: он служил и дружил с сыном Фрунзе, того убили, надо написать его портрет, а я на него похожа. Я удивилась, но согласилась. Неподалеку от Русского музея, если не путаю – в доме Виельгорских, неофициальные художники заняли большую запущенную комнату. Удивительно, как сильна была тогда не учтенная властями жизнь. И абажуры мы сдавали в тайный магазин бывшей фрейлины, и стихами беспрерывно обменивались, а тут еще подпольная мастерская на самом виду.
Стала я туда ходить. Узнав об этом, бывшая сокурсница, с которой мы совсем не дружили, написала и подарила мне стихи, начинавшиеся так:
Милый друг, в суровой жизни не влечет тебя Амур, хочешь ты служить отчизне, как прославленный Тимур.
Амур меня влек, я была давно и несчастливо влюблена, что же до отчизны, после посадки Руни Зерновой и Ильи Сермана я билась и молилась при одном этом слове.
Итак, я позировала, читая художнику Коле «Поэму без героя», а он писал, отвергая «бабьи стихи» и предлагая мне взамен Павла Васильева. Репродукция портрета сохранилась у мамы. Это – полный бред: кисейная барышня в летном шлеме. Для чего он был предназначен? Не знаю… Скажу главное: именно в ту зимуя снова стала «практиковать», как выражаются католики. Всю идиотскую пору ранней молодости я плакала в церкви, мечтала, воспаряла, но не причащалась, тем более – не исповедовалась. Каноны разбавленного романтизма это запрещали или, скорей, заставляли считать ненужным.
Тимур (2)
Летом того же, 1951-го года я поехала искать работу в Москве. Мама почему-то надеялась, что Москва больше верит слезам. На уровне учреждений это было не так, а вот люди были живее, чем у нас. Кто-то где-то слушал, как Пастернак читает свой перевод, кто-то ходил по улицам, читая стихи, и вообще, жизнь – была, в отличие от Питера, где зима 1950-го-1951-го прошла отчасти на небе, но уж никак не на земле.
Жила я не у Гариных, они куда-то уехали. Сперва поселилась у Елены Ивановны Васильевой, в одном из сретенских переулков, потом – у Рошалей, на Полянке. Там бывало много народу. Муж Майи Рошаль – Георгий Борисович Федоров, человек совершенно замечательный, переписывался с Эмкой Манделем, будущим Наумом Коржавиным. Мне он (муж, а не Мандель, пребывавший в ссылке) прочитал стихи:
Можно рифмы нанизывать Посложней и попроще, Но никто нас не вызовет На Сенатскую площадь…
Теперь их все знают, многие – ругают, а ты тогда поживи!
Среди рошалевских, точнее – федоровских гостей был молодой моряк Тимур. Познакомившись с ним, я через несколько дней сняла на Петровке угол – то ли кто-то сказал, что неудобно обременять друзей, то ли я сама поняла. Сняла угол, пришла откуда-то и прилегла на железную кровать, отделенную занавеской, за которой ходила и шуршала хозяйка.
Вдруг я чувствую, что рядом, на стуле, кто-то сидит. Смотрю, а это Тимур с розами и шампанским. Я онемела от ужаса, потом подняла крик, наверное -тихий. Читатель не поймет этих слов, поэтому поясню: хозяйка была чужая, и я испугалась, что меня обвинят в моральном разложении. Бедный Тимур счел меня сумасшедшей и ушел, оставив цветы. Неужели здесь, в Москве, было настолько иначе? Сам он, конечно, был моряком, а не безработным, и сыном Аркадия Гайдара, а не космополита, но все-таки…
Увиделись мы почти через сорок лет, на «Апреле», если кто помнит – что это. Как ни странно – узнали друг друга, обнялись и решили встретиться, но слишком были стары и заняты. Я переводила дни и ночи, он стал контр-адмиралом. Кроме того, к тому времени у каждого из нас появились внуки.
У Столба и Гриба
Филологи «золотого века»[ 34 ]34
Золотым он был не в стране, а в университете.
[Закрыть], то есть примерно 1945-1948-го годов, довольно скоро начинали понимать, что они должны знать историю не хуже историков и владеть сопутствующими филологии ремеслами, скажем – переводом. Оговорю сразу: узнавали это те, кто был влюблен в свою загадочную науку. Рядом смирно пребывали девушки, варившие синюю тушь для ресниц или вязавшие кофты. Они (девушки, но и кофты) были красивее опупелых. Таких красавиц, словно с камеи, как Лина П. и Светлана Г., я позже не видела, причем одна была dark (morena), a другая – fair (rubia)[ 35 ]35
Темненькая (англ., исп.) и светленькая (тоже).
[Закрыть]; одна – похожа на гречанку, другая – на датчанку. Правда, была и Мара Б., сочетавшая ученость с тяжелыми рыжими волосами. Но я отвлеклась.
Чтобы овладеть переводом, мы переводили. Больше всего помогал нам Ефим Григорьевич Эткинд. Кажется, мне в голову не приходило, что это будет моей главной, если не единственной, профессией. Мы смутно мечтали о какой-то сияющей славе, связанной с наукой. Надеюсь, что науку мы все же любили больше, чем себя. Приведутолько один пример, от обратного. Я стояла спиной к выходу и смотрела на список конкурсных тем. Среди них были «Иберо-романские лексические параллели». Подошел ослепительный, как Стирфорт, предмет моей первой любви, Готя Степанов, и окончательно пленил меня, сказав примерно так: «Натали, вы, может быть, любите науку в себе, а вот я – себя в науке. Поэтому уступите мне тему». Конечно, он шутил, а все-таки… Тему я уступила, доклад его был блестящим.
Сверхтщеславную мечту удачно разрушили папины беды. Как дочь космополита ни в какую аспирантуру я пойти не могла. Благороднейший Шишмарёв настоял на том, чтобы я сдавала «кандидатские» экстерном, и я их сдавала, но даже его просьбы не помогли, когда речь зашла о диссертации. Кстати, мечтала о ней уже только мама. Мне, выгнанной с работы после первого же года, было совсем не до того.
Так я стала переводчицей. В Питере заказов было мало, в Москве – много. Начиная с переезда (май 1953-го) я постоянно работала для издательств, главным образом – для Гослита, как по старой памяти называли «Художественную литературу». Особенно споро пошло, когда летом 1955-го выделилась редакция современной литературы. К ней отнесли Пиран-делло, Честертона, Лорку и многих других, тоже не очень современных.
Начальством (кажется, заместителями главного редактора) стали Валерий Сергеевич Столбов и Борис Тимофеевич Грибанов. Они были прекрасны. Именно им да еще «Иностранке» мы обязаны тем, что Бродский назвал «окном в Европу, через которое он и вывалился» (цитирую неточно). Б. Г., прозванный Грибом, затеял «Всемирную литературу». В. С, прозванный Столбом, особенно способствовал испанистике, поскольку еще студентом воевал в Испании. Он приветил Гелескула, Дубина, Малиновскую; у него работали такие редакторы, как Стелла Шмидт, Лилиана Бреверн, Галя Полонская. Работала там и Альба, дочь аргентинки, и Скина, дочь индуса. У англичан, подвластных Грибу, работала Эрна Шахова, похожая на Лилиан Гиш (наверное, многие знают ее дочь Машу), а переводили, среди прочих, Виктор Хинкис и Владимир Смирнов. У французов разместился известный вам Борис Вайсман и такие асы, как Ирина Лилеева, Олег Лозовецкий, Морис Ваксмахер; с разных языков переводили Коля Томашевский и Симон Маркиш. Словом, Гос-лит конца 1950-х, 1960-х, да и 1970-х годов был, на уровне редакторов, истинным цветником, где мы, переводчики, легко попадали в совершенно несоветскую атмосферу. Но, в отличие от других издательств, этому способствовали начальники – бывший разведчик Столб и чуть ли не комсомольский работник Гриб.
Они тоже были fair и dark. Валерий Сергеевич, из Вятки, вообще напоминал эскимоса, но голубоглазого и светловолосого, если такие бывают. Оба отличались изысканной куртуазностью (Б. Г. даже целовал нам, дамам, руку); оба почти непрерывно пили коньяк (может быть, и другие напитки). Я не знаю и не люблю «шестидесятые», боюсь коллективов, туризма, бодрых песен, а это – люблю и вспоминаю с огромной благодарностью.
Прибавлю, что с детьми повезло и Столбу, и Грибу. Дочь В. С. – африканистка Ольга Столбова, похожая на деревянную мадонну; у нее мы раньше собирались в день его смерти. Среди грибанов-ских потомков – Саша Грибанов, занимавшийся Солженицынским фондом, Марина, ее дочь Ася, пе-реводчик-библеист, с которой мы недавно выпустили книгу Чарльза Додда, и Асины дети – Аня, Даша, Сережа Десницкие. У Саши – Соня и Вера, они в Америке. Сколько лет прошло, а все мы связаны.
Dr Trauberg
Помнит ли кто-нибудь страшный май 1980 года? Приближались Олимпийские игры, Москву очищали от разных хиппи, которых было немало, недавно начался Афганистан, приближалась Польша. Мы еще осенью переехали в Литву-дети, уже взрослые, сказали мне, что больше в Москве жить не могут. Помню, как я ехала с вокзала, прижимая к себе кота, и думала: «Вот, ровно десять лет прошло в России, а теперь, навсегда, в Литву». Почему я ошибалась, расскажу в другой раз.
Итак, мы с Марией жили в Литве, а Томас – еще в Москве. Предполагалось, что его жена Оля и новорожденный сын Матвей скоро приедут, а там и все они переберутся. Последнее было спорно; Оля то
хотела уехать, то не хотела, а Матвей был очень слабенький.
На время, на лето, Оля с Матвеем и старшим сыном Андреем (четыре года) прибыли в середине мая. И сразу же, чуть ли не на следующий день, меня вызвали в Москву, потому что у мамы пошла горлом кровь и ее увезли в больницу.
Я поехала. Потом оказалось, что лопнул какой-то сосуд в бронхах, но сперва ее просто положили под капельницу, ничего толком не зная. Поместили ее в бокс, а мне поставили там каталку вместо кровати. Увидев меня, едва говорившая мама попросила поклясться, что я защищу докторскую диссертацию.
Трудно передать, насколько это было нереально и ненужно. Еще в 1953 году мама велела мне защитить кандидатскую, и я написала какую-то ерунду про так называемое «двойное сказуемое». Защитила в июне 1955-го, хотя с тех пор нигде и никак мне эта степень не понадобилась. До 1990-х годов я вообще только переводила.
Кроме того, никто не взял бы меня даже в заочную докторантуру. Науками я не занималась, зато дружила с диссидентами да и сама была хороша. Как выяснилось позже, пока я была с мамой, в Вильнюсе прошел странный, полускрытый обыск – какие-то тетки сказали, что проверяют «санитарное состояние квартиры». Я в это верила, но после освобождения Литвы, зимой 1991-1992 года, мне сообщили правду люди, занимавшиеся этими мерзкими архивами.
Однако отказать в последней просьбе нельзя, и я пробормотала что-то вроде клятвы. Мама успокоилась и потом почти все время спала.
За следующие десять лет мы вернулись в Москву, у дочери родились две девочки и один мальчик, умер папа, мы съехались с мамой. Здесь, в той квартире, в которой я сейчас пишу, она быстро приступила к делу: «Когда же ты наконец займешься докторской?» Хотя я уже читала лекции, говорила по радио и никак не была изгоем, такой замысел оставался диким – ни времени не было, ни причины, ни желания. Давно приучившись обманывать бедную маму, как дети, трикстеры или герои Вудхауза, я что-то врала, а она меня привычно ловила на нестыковках. Тем временем возникло (или воскресло) Библейское общество и стало, между прочим, издавать журнал «Мир Библии». Когда вышел первый номер, я увидела, что в английском Summary, а может – еще где-то перечень членов редколлегии пестрит докторами. И отец Георгий Чистяков, и кто-то еще, и я -все «Dr». Мне объяснили, что в некоторых странах наш кандидат автоматически становится доктором. Казалось бы, почему не магистром? Но нет, именно доктором. Поблагодарив ангелов, я понесла журнал маме.
Она ни на секунду не усомнилась, что я неведомо где получила новую степень, но не выразила ни удивления, ни радости. Я тоже не очень удивилась. Мама неуклонно придерживалась странного правила: если что-то «не так» – ругать, если всё в порядке -молчать. Мы все, включая бабушку, от этого уставали, но она объясняла, что для нее хорошее – норма.
Четвертое колено
Мой старший внук Матвей (вообще-то – Мотеюс) заинтересовался историей, а больше – теорией кино. Он сказал мне, что хочет помогать совершенно дивному человеку, Науму Клейману, которого я знаю с тех пор, как тот, отбыв с родителями ссылку, приехал учиться в Москву и попал к вдове Эйзенштейна. Со ссылкой тоже не так все просто. Отец Наума, носивший, судя по отчеству, имя Иехииль, вышел в киргизскую степь, проводить сына в школу, оба они увидели ее красоту – и смогли жить. Сейчас, когда Наум Иехиильевич – один из крупнейших в мире киноведов, он иногда об этом рассказывает. Для «самой жизни» прибавим, что Марии, моей дочери, он рассказал это в тот самый день, когда она услышала точно такую же историю от выросшего в ссылке литовца.
Господь долготерпелив. Из каких-то Своих соображений Он попускал мою неприязнь к кино, особенно к советскому и нацистскому. При этом я знала и Гариных, то есть Эраста Павловича с женой Хесей, истинных, просто лесковских праведников, и ПеруАташеву, эту самую вдову, поразительно добрую, веселую и несоветскую, и самого Наума, тоже ламедвовника[ 36 ]36
Ламедвовники (от названий букв еврейского алфавита «ламед» и «вов») – 36 иудейских праведников, которые держат мир. Ред.
[Закрыть] высшей пробы. Этого мало – отношение к кино легко приводило к нарушению пятой заповеди; а поди ее не нарушь, если твоя родственница, скажем, -Лени Риффеншталь. Особенно мучили меня ахи и охи: «Вы знали N!», «Вы общались с Z!», и я неуклюже объясняла, что гордиться тут нечем.
Очередной конфликт правды с милостью разрешился очень просто. Матвей пошел к Науму (прямо Библия!) – и Наум разрешил ему что-то делать в Музее кино. Когда М. вернулся и сказал об этом, Вавилон, великая блудница, с грохотом пал. Теперь меня умиляют статьи из киножурналов (и я тоже стала для них писать). А как же истина? Не знаю.
Несколько слов о фильме «Лев, колдунья и волшебный шкаф»
Фильм этот вышел у нас недавно, но откликов уже немало. Большей частью они с относительной точностью рассказывают о К. С. Льюисе, и повторять, даже обобщать их незачем. Правда, один вызвал у меня искреннюю радость. Лидия Маслова пишет в газете «Коммерсантъ»: «На экране оказалась очень разительно представлена воинственная природа добра – это такое самоотверженное христианское добро, но при этом с… кулаками, зубами и когтями. В решающей схватке с колдуньей смертоносный прыжок льва показан таким образом, что камера буквально ныряет ему в пасть и остается неясным -то ли Аслан целиком проглотил противницу, то ли из христианского всепрощения ограничился откушенной головой» (23 декабря 2005).
Воистину, потерпишь-потерпишь, а плохое и осыплется. Долго и тщетно пытались мы говорить о том, что в сказках Льюиса, тем более – в первых двух романах кроме многих прекрасных вещей есть и чрезвычайно популярное «добро с кулаками». Как обычно в таких случаях, слушали плохо, даже Аверинцева. Вот и пришлось, в конце концов, дождаться правды от тех, кого не коснулась свирепая религиозность, очень похожая на свирепость недавних, советских времен. Она вообще удобна и проста, а как раз христианство пытается перевести нас в другой план. Но опыт напоминает, что писать об этом почти бессмысленно – или обвинят в толстовстве, хотя никак не Толстому принадлежат великие слова и притчи Евангелия, или придумают головоломные «казусы», или решат, что ты считаешь все на свете добром, как нынешний сторонник политкорректное™. Почти бессмысленно напоминать о щеке или плевелах, слишком уж это странно и почему-то непривычно. Религиозный человек спокойно говорит по радио, что истинно верующий готов убить ради веры. Да-да, не умереть, а «убить».
Перейду к беседам с создателями фильма. Они приятны, но сводятся, в основном, к рассказу о Льюисе, Нарнии, самом себе и спецэффектам. Возьмем из них только то, что связано со смыслом и восприятием фильма.
Режиссер Эндрю Адамсон говорит, что восприятие зависит от того, «во что мы верим». Есть «религиозный аспект», есть и «прекрасно рассказанная фантастическая история». Продюсер Марк Джонсон, получивший некогда «Оскара» за фильм «Человек дождя», уделяет миссии сказок больше внимания. Однако прежде всего он говорит о том, что теперь, после «Гарри Поттера», возник интерес к повестям
из английской жизни. Несколько лет назад, когда Джонсон выпустил фильм «Маленькая принцесса», такого интереса почти не было. Права на сказки Льюиса лежали лет десть с лишним, и на студии уже подумывали о том, чтобы перенести действие в современную Калифорнию.
Кроме того, он сравнивает «Льва, колдунью» с экранизированным «Властелином колец». По его мнению, Льюис предоставляет многое воображению читателя, и экранизировать его труднее.
Отвечая на вопрос, обращен ли фильм к детям, Джонсон говорит о том, что он предназначен для всей семьи («an all-family film»). Вероятно, он прав, без родителей дети могут не понять евангельских аллюзий; но возникают и сомнения. Религиозные разъяснения очень легко становятся сухими или/и слащавыми. Дети остро чувствуют фальшь, а теперь -и гораздо сильнее отстаивают свою независимость. Словом, надо быть чрезвычайно осторожным, не то мы в тысячный раз отвратим детей от веры.
Джонсон, простая душа, об этом не думает. Для него миссионерская роль картины несомненна. Поэтому он собирается ставить «Каспиана» и другие сказки, все семь.
Зато о чем-то подобном думают у нас. Церковные люди с недоверием отнеслись к выходу «Хроник Нарнии», так как вообще «не приветствуют жанр фэнтези». Свое отношение к библейским аллегориям прокомментировал заведующий сектором публикаций Отдела внешних церковных связей Московского патриархата протоиерей Александр Макаров:
«Для православных читателей стиль фэнтези сомнителен и доверия не вызывает. Хотя некоторые
православные священники считают, что книги Льюиса вполне приемлемы. Но, на мой взгляд, странно учить ребенка основам Евангелия на подобных сказочных произведениях, когда можно это сделать по хорошим пересказам Священных историй для детей, где больше правды и мозги не засоряются посторонними фантазиями, не имеющими отношения к Библии и сегодняшней реальности. Кроме того, в нашей традиции колдуньи не бывают добрыми, хотя в западных сказках встречаются добрые феи. Если подобные фильмы смотреть с миссионерской целью, то это надо делать в ограниченных „дозах", при этом отмечу, что искажение первоначального смысла Священного Писания нехорошо. Я бы не стал рекомендовать своим прихожанам смотреть этот фильм. А вот посмотреть подобный фильм в нехристианской среде, может быть, и имеет смысл».
Позволим себе и согласиться, и усомниться. Если речь идет о сказках вообще, дело далеко не однозначно. Об этом много спорили и лучше отослать читателя хотя бы к эссе Честертона «Радостный ангел», «Драконова бабушка», «Волшебные сказки». Что же до жанра, называемого неуклюжим словом «фэнте-зи», он не вызывает доверия прежде всего потому, что очень агрессивен. Дети в своем большинстве агрессивны и сами; стоит ли подпитывать это свойство? Поверьте, «чувства добрые» и неприятие зла гораздо крепче воспитывают книжки вроде «Маленькой принцессы». Могут пробуждать эти чувства и родители, если их имеют.
Перечитала-и подумала: кому-то покажется, что я не люблю Льюиса. Нет, люблю (иначе зачем бы переводить его в «те» годы?), но именно поэтому пытаюсь не быть к нему пристрастной. В отличие от Аслана, Льюис – никак не Христос, и все-таки лучше оставаться с истиной, если они не совсем совпадают.








