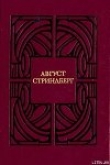Текст книги "Путешествие по жизни. Письма другу"
Автор книги: Наталья Казимировская
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 4 страниц)
Годы учёбы. Саратов 1966–1968
Но вернусь к себе и к своим переездам. Мне 14 лет! Папа опять в новом театре. Это Саратовский драматический театр, носящий гордое имя Карла Маркса. В театре работают маститый Юрий Каюров и юный, совершенно «зелёный», по словам папы, Олег Янковский, женатый на ведущей актрисе театра Людмиле Зориной. Красивенький и юный Янковский того времени, уже выкрашенный в соломенный цвет для фильма «Щит и меч» и рассказывающий глупые анекдоты в театральных гримёрках, мне совершенно не нравился и даже не льстила зависть подружек (ведь я могла не только легко пересекаться с Янковским в кулисах, но даже репетировала один раз с ним общую сцену в спектакле «Судебная хроника» Якова Волчека, где Олег играл хулигана Бабичева, а я изображала положительную девочку Надю, мужественно свидетельствующую против него в суде). Нравиться не нравился, но когда Янковский, обращаясь ко мне – Наде, произнёс нечто, типа: «Выступила? Теперь пей по утрам молоко! Будешь бегать далеко, будешь прыгать высоко!» – у меня пошли мурашки по телу! Видимо, режиссёру – моему отцу – сразу стало понятно, что на роль положительной героини я не гожусь – он не продолжил работу со мной, это была единственная репетиция. К тому же я была занята по горло – стала студенткой музыкального училища при Саратовской консерватории.
Саратов был и, похоже, остаётся моим самым любимым городом! И, наверное, не только потому, что в те годы он был очень красив: широченная Волга, огромный мост, связывающий Саратов с Энгельсом, очаровательный сквер Липки с памятником Чернышевскому на площади при входе. И здесь же, наискосок друг от друга, на пересечении улиц Радищева и Кирова, два самых дорогих для меня здания: Консерватория имени Собинова и наше музыкальное училище, непосредственно граничащее со стадионом, который зимой превращался в огромный каток с музыкой, цветными фонариками и бегущими по льду фигурками. Саратов мне дорог, в первую очередь, потому что здесь прошла моя ранняя юность – самые счастливые годы с искренними порывами души, возникновением крепкой дружбы, с интересной и осмысленной учёбой. Здесь испытала одну из самых сильных влюблённостей в своей жизни, не побоюсь сказать, любовь. Вся жизнь воспринималась остро, иногда остро до болезненности! На курсе я оказалась одной из самых младших. Нас таких было только четверо: Таня Васильченко – дочь бывшего директора нашего училища, Таня Агроскина – дочь замдиректора оперного театра, я и Наташка Шабалина – дочь какого-то солидного юриста. Нас «по блату» приняли в училище на год раньше положенного, обязав доучиваться в 8-м классе вечерней школы. Мы стали закадычными подругами и, по моему мнению, самыми лучшими пианистками курса. Гордились своей симметричностью: две Наташки – две Танюшки, две стройняшки – две толстушки, две блондинки – две шатенки. (Сейчас грустная симметрия тоже соблюдена: двое из нас ушли в мир иной, мы с Агроскиной ещё живём, тьфу-тьфу-тьфу.)
Учиться в саратовском училище было радостью. Поскольку оно было «при консерватории», мы сразу почувствовали себя взрослыми. У нас были те же преподаватели, что и в консе (так фамильярно мы называли консерваторию), возникали общие компании со студентами, а кроме того, в самом училище учились люди намного старше нас, например, на вокальном отделении. Так возник в моей жизни Анатолий Безродный – высокий донской казак с неотразимым для меня взглядом светлых глаз. Он обладал красивым, на мой вкус, баритоном, был старше меня на одиннадцать лет и заканчивал последний курс училища. Его другом в те годы был, ставший впоследствии известным, драматический тенор Володя Щербаков. Но какой тенор может сравниться с бархатным и мужественным баритоном, поющим чувственно: «Я встретил вас…». Мы познакомились на новогоднем вечере, где я была наряжена цыганкой, а он нахлобучил на себя какую-то собачью голову. Он не оставлял меня в покое весь вечер, без конца повторяя одну и ту же фразу: «Ох, хороша цыганка!» Я внутренне с ним соглашалась, что «хороша», чувствовала себя неотразимой, скользила, убегала, он раздражал меня своей прилипчивостью, хотелось успеть покорить в этот вечер ещё чьё-нибудь сердце. Но вскоре за мной пришёл папа и отвёл меня домой.
А потом я «заболела» этим человеком. Помногу раз бродила по улицам, где могла встретить ЕГО (и встречала – Бог дарил мне эти встречи), вела дневник, где подробно и взволнованно описывала каждый его взгляд, который я ловила, и каждый вздох, который я отпускала при встрече. А он начал сторониться и избегать меня, узнав, что мне всего четырнадцать лет и что я дочь известного в Саратове человека, то есть ответственности за меня не избежать. Тем не менее, моя настойчивость иногда вознаграждалась! Никогда не забуду те несколько часов в музыкальном училище, когда я явилась туда в выходной день, зная, что он подрабатывает там сторожем. Видимо, ему было скучно и в какой-то мере льстила моя романтическая влюблённость, потому что некоторое время (а на мой взгляд, целую вечность) Безродный читал мне своего любимого поэта Есенина, а я каждую фразу любовной лирики относила на собственный счёт. «Какие у тебя сейчас глаза!» – сказал он с чувством в конце нашей встречи, и я, совершенно счастливая, отправилась домой. (Возможно, что я не буду понята сейчас современным поколением, у которого совершенно иные представления и ощущения от такого рода взаимоотношений. Возможно, не будет понят и «герой моего романа» или его поведение объяснят иным образом, но я убеждена, что в отношении ко мне у него сочетались заинтересованность, удивление, польщённое самолюбие и страх «перейти грань».) Так продолжалось два года. А потом папа опять поменял театр. На сей раз мы переезжали в родную для папы Белоруссию, в город Витебск, где он когда-то ставил свой дипломный спектакль «Лекарь поневоле» с выдающимся Ильинским (белорусским Ильинским) в главной роли. Я уезжала из Саратова с разбитым сердцем. Мы сели в машину, погрузили в неё вещи и поехали на вокзал, а по дороге я умолила папу в последний раз провезти меня по саратовским улицам. И, о чудо! На перекрёстке я увидела Его, переходящего дорогу. Наши взгляды встретились, и машина увезла меня. Не думаю, что он что-нибудь понял в этот момент «рокового» совпадения, просто узнал позднее о том, что мы покинули город.
Витебск 1968 (июнь) – 1968 (декабрь)
Витебск я невзлюбила сразу (по всей видимости, несправедливо). Но уж больно всё отличалось от Саратова! Школярская атмосфера в музыкальном училище, провинциальные нравы – все знают всё и всех, сплетни. Лысый и отвратительный директор музучилища Кутневич, который начал приводить меня в «норму» и столкнулся с жёстким моим противодействием. Я любила ходить с распущенными волосами – это явно говорило о моей распущенности и дурных наклонностях. На меня появились шаржи в стенной газете, а красивая «эсэсовка» – секретарь парторганизации и по совместительству преподавательница литературы – попыталась запретить мне появляться на занятиях в таком виде. В один прекрасный день я появилась на её уроке с двумя заплетёнными косами и двумя огромными капроновыми бантами, закрывающими практически всю голову. Сложив ручки на столе, – одна под другой, как и полагается очень примерной девочке, и состроив умильное лицо, я мужественно выдерживала, чтобы не расхохотаться в голос. Зато, глядя на меня, веселились вовсю мои однокурсники. Дама никак не могла призвать их к порядку. Больше всех резвился скрипач Миша Казинник! «Казинник, прекратите!», «Казинник замолчите!» – командный голос нашей «эсэсовки» не помогал наведению дисциплины. Когда прозвенел звонок об окончании урока, я демонстративно стянула с головы свои банты и не менее демонстративно начала сворачивать их в трубочку. Меня вызвали к директору. Глядя на него в упор, я заявила: «Причёску не поменяю. Хотите – выгоняйте! Но напишите в формулировке ЗА РАСПУЩЕННЫЕ ВОЛОСЫ». Ради справедливости надо признать, что за распущенные волосы меня шпыняли и в Саратове (нравы в Стране Советов были строгие!). Не проходило дня, чтобы какая-нибудь бабка на улице не прошипела бы: «Распустила Дуня косы, а за нею все матросы!» А на постоянные вопросительно-злобные вопросы прохожих: «И чего ты волосы-то распустила?» – я отвечала, глядя прямо в глаза (вычитала в какой-то книжке): «Дураков считать!»
Если вернуться к Витебску, то несмотря на то, что город этот был связан с Марком Шагалом, и мой папа вместе с театральным фотографом Коханом даже посылали Шагалу фотографии старого Витебска (насколько я помню, городское начальство не откликнулись на желание Шагала посетить город и даже не приняло от него в подарок его картины), несмотря на наличие довольно интересных знакомств (чего стоил, например, наш учитель по гармонии композитор Борис Яковлевич Магалиф, поощрявший нас называть его Борисом Ящеровичем – человек, живший в двухкомнатной квартире, где в одной комнате ютился он сам с женой и сыном, а в другой размещался огромный террариум со змеями и ящерицами. Иногда прямо на уроке рубашка на нашем преподавателе начинала шевелиться и из-под неё около ворота высовывалась головка какого-нибудь земноводного. Мы ловили мух на занятиях, чтобы кормить его ящериц (и не было большего комплимента для девочки со стороны Магалифа, чем сравнение с «ящеркой»). Несмотря на усиленное внимание со стороны однокурсника Миши Казинника и некоторых других особей мужеского пола, несмотря на активное и очень весёлое участие в массовках, где в «Нестерке» я переодевалась в национальную белорусскую одежду и пела с упоением в хоре «Сивый конь, сивый конь – белые голёнки, ты не едь, мой милЕнький, до чужой до жёнки!», а в «Клопе» Маяковского (пост. Бориса Эрина) меня одевали в блондинистый парик и узкую юбку, и я, невзирая на пышные формы, ритмично двигалась вместе со всеми под весёлую музыку, так вот, несмотря на всё это, я страшно тосковала и хотела вернуться в Саратов во что бы то ни стало! Я просто сходила с ума и периодически играла и пела, примеряя на себя текст романса «Я ли в поле да не травушкой была…». Особенно трагично выводила я строчки: «Неволей меня бедную взяли», а потом своего сочинения: «И в Витебск проклятый умотали, – и опять классическое, – Ах ты горе моё горюшко, Знать такая моя долюшка!» Я просто бредила наяву, закрывала глаза и представляла себе, как иду по любимым улицам Радищева, Провиантской, Рабочей. Я писала неистовые письма нашему доброму директору Ялынычеву и умоляла разрешить мне перевестись назад в середине учебного года. А тут ещё подружки стали писать, что в училище появился новый преподаватель, ну до того интересный, и до того замечательный предмет он ведёт «Смежные виды искусства», что я сразу поняла – это моё!
Саратов 1968–1970
В зимние каникулы я с благословения моего любимого папы отправилась в Саратов, уселась плотно в директорской приёмной и сообщила слегка ошеломлённому директору, что не сдвинусь с этого места, пока меня не примут назад. «Доконала родителей?» – спросил он коротко, и я была возвращена в альма-матер! (Всю жизнь я была ему за это благодарна! Когда через множество лет, прилетев в Саратов из Швеции, я нашла его – старенького больного алкаша – и обрушила на него море подарков, он заплакал.)
Так я «ушла» из родительского дома. Мне было шестнадцать лет. Родители и Эдик поделили расходы на меня: 100 рублей – 50 плюс 50. Этого мне с лихвой хватало на оплату койки для жилья, оплату съёмного пианино для занятий и на пирожки с бочковым кофе в ближайшей забегаловке. Иногда я устраивала себе пир: покупала на Крытом рынке зелёный лук, огурцы, редиску и мягкую непересушенную воблу и наслаждалась… Частенько забегала к приятельнице, пышногрудой официантке в кафе напротив консерватории, и угощалась блинчиками, политыми маслом и посыпанными сахаром. Так я легко и весело пережила голодные годы в Саратове, проходя мимо всех людских очередей за продуктами: мясом, колбасой, яйцами и лишь мельком пробегая глазами по пустым магазинным полкам с пирамидками консервных банок, – салатом из морской капусты.
А ещё у меня были друзья – мальчишки моего двора. Всё свободное время я проводила с ними, в основном играя во дворе в настольный теннис. Играла я неплохо (впоследствии даже получила какой-то разряд), один раз потрясла их воображение тем, что, крутанувшись неудачно, зацепилась за что-то плиссированной юбкой и, порвав её от подола до талии, продолжила игру до конца, сверкая трусами и ляжками (гордость не позволила мне убежать сразу!). Особенно любила я Вовку Левинсона – здорового крепкого брюнета (впоследствии выяснилось, что его мама – двоюродная сестра актёра Э. Виторгана, не проявлявшего, впрочем, никакого интереса к своим «незнатным» родственникам) и рыженького обаятельного шутника Лёню Гурьянова. С этими двумя мальчиками я поддерживала связь очень долго. Они оба получили «практичные» профессии, как и положено еврейским мальчикам без особого образования. Вовка стал часовщиком и гравёром, работал в собственном киоске на бойком месте в помещении городского рынка (что-то он мне даже когда-то выгравировал и что-то починил), всю жизнь прожил в Саратове, был заядлым охотником, страшно растолстел (хотя вечно дразнил меня и мою подружку Васильченко за отсутствие талии), заболел и, к моему великому горю, умер. Лёнька работал фотографом, впоследствии подавал какие-то признаки жизни из Израиля, был, по-моему, женолюбом и одновременно подкаблучником, потом исчез с моего горизонта… Оба мальчика, уже будучи взрослыми, признавались мне, что невзирая на всяческие ехидства, дразнилки и внутренние разборки, они сами и ещё пара мальчишек нашего двора были в меня влюблены. Думаю, что я это чувствовала и поэтому ни на что по-настоящему не обижалась, а «купалась» в этом мальчишечьем обожании, а сама думала только о Безродном.
Итак, вернувшись в Саратов и начав новую жизнь без родителей, я оказалась в комнате вдвоём с какой-то бабулькой, в квартире с общей кухней, с соседями, взрослый и женатый сын которых выказывал мне всяческое расположение. Всё это меня никак не задевало и не волновало, а находилось на периферии жизни, главное действие которой проходило на перекрёстке улиц Радищева и Кирова. В шесть утра открывалось музучилище, и я приходила в это время туда, чтобы ухватить возможность позаниматься пару часов до восьми утра, до начала занятий, до прихода остальных студентов. Потом шли обычные занятия. В обеденные часы я бежала в квартирку напротив, где одна предприимчивая бабулька сдавала пианино для занятий. А поздно вечером возвращалась назад в училище и занималась ещё два часа до закрытия. Шесть часов ежедневных занятий, академические концерты, выступления. Сцену я любила, волновалась, конечно, но любила. Любила учителей! Благородного вида старец Гончаров, преподаватель камерного класса, в вечно усыпанном перхотью пиджаке, беспрестанно певший в унисон с нашей игрой, его жена – старенькая Неверова – преподаватель фортепиано, холодная и белокурая Воскресенская – жена «злобненького» завуча, которого мы все побаивались; суховатая и жестковатая на вид, но на самом деле довольно трогательная выпускница ленинградской консерватории Ирина Николаевна Иванова. И, конечно, два наших консерваторских профессора, которые тоже имели учеников в училище: экстравагантный и смешной в своём вечном беретике Семён Соломонович Бендицкий, ученик Нейгауза, и вальяжный, слегка надменный красавец Борис Гольфедер. Сольфеджио и гармонию у нас преподавал теоретик и композитор Виктор Владимирович Ковалёв – автор балета «Девушка и смерть», в прошлом муж известной в те годы оперной певицы Галины Ковалёвой и, по слухам, «сделавший» её. Через много лет мы с подружками признались ему в «страшном преступлении». Мы – яркие пианистки, музыкальные, темпераментные, довольно виртуозные, но у троих из нас был довольно посредственный слух, и сдать прилично госэкзамен, написав трёхголосный диктант, было просто невозможно! Верхний и средний голоса ещё реально, но бас… И мы придумали! Посадили прямо перед нами нашу подружку Васильченко, единственную из нас, кто обладал абсолютным слухом, и она, заложив левую руку за спину, продиктовала нам весь нижний голос: один палец – До, два – Ре, три – Ми, четыре – Фа, пять – Соль, кулак –Ля, комбинация из трёх пальцев – Си! Все мы – четверо – сдали госэкзамен на «отлично»! Выслушав наше признание, Ковалёв не только не возмутился, но пришёл в восторг и, как говорят, рассказывал следующим поколениям студентов о нашей изобретательности!
Очень любила я студентов-товарищей! Самый лучший в училище кларнетист Зотов, которому я аккомпанировала и с которым переиграла ряд шефских концертов. Витя Пацевич – длинный, как верста, под стать своему контрабасу, над которым он возвышался ещё на метр (говорят, он играл у Спивакова в какие-то годы). Алкаш уже тогда, он, будучи четверокурсником и получив, как и мы все, белый нарцисс для вручения «новобранцам» – первокурсникам, поднёс его к носу, потянул воздух и, изобразив блаженную мину, произнёс: «Ркацители» (сорт вина). Лучший вокалист Паша Сычёв (не знаю, какую он сделал карьеру и сделал ли) и способный парень Сергей Алексашкин (ныне солист Мариинского театра). А сколько шуток, сколько веселья вызывали даже всяческие неприятности! Помню, как закрыли на ремонт женский туалет (а смешанных тогда не существовало). Родилась частушка, которую мы тут же спели на концерте на мотив из «Ярославских ребят»:
А намедни, а намедни
Нам закрыли туалет.
Этим очень подорвали, о-ох!
Женский наш авторитет.
Один раз на уроке музлитературы я насмешила всех однокурсников, не подумав и выучив мрачный лейтмотив «Пиковой дамы» в скрипичном ключе и сыграв его весело и бодро. С тем же Пацевичем разыгрывали мы сценку на праздничном «капустнике», где я исполняла роль «кроткой и беззащитной» мамаши, а он – моего недоросля-сыночка, которого я приводила за ручку на музыкальный экзамен. «Поверьте сердцу матери!» – говорила я, с удовольствием прикладывая руку «экзаменатора» к своей груди.
А потом был выпускной бал, на котором я перецеловалась со всеми нашими чуть подвыпившими учителями: от председателя экзаменационной комиссии и ректора консерватории Кузнецова до милого с мягкими тёплыми губами Олега Одинцова – одного из лучших наших педагогов (к счастью, «Ми Ту» тогда не зверствовало, и эти поцелуи никого и ни к чему не обязывали!).
Не могу обойти вниманием ещё одного нашего преподавателя, с которым жизнь столкнула меня в те годы, сталкивала впоследствии в театральном институте и сталкивает иногда и сейчас. Это тот самый «новый» преподаватель «Смежных видов искусства» блистательный лектор Георгий Александрович Праздников. Он прибыл в Саратов из Ленинграда, впоследствии сделал приличную карьеру и сейчас является профессором нашего питерского Российского института сценических искусств. А в те годы он преподавал в нашем саратовском училище, и, я подозреваю, что никогда и нигде он не был так любим и обожаем, как у нас. В нашем тесном и достаточно провинциальном мирке его лекции и рассказы были, как глоток свежей воды! Смею думать, что принадлежала к числу его любимых учениц: я провожала его домой после занятий, впитывая каждое слово. Он открыл для меня Мандельштама, Ахматову, Цветаеву, Уолта Уитмена. Подарил самиздатскую копию книги «Камень», и я повторяла и выучивала оттуда прекрасные строки: «На бледно-голубой эмали, какая мыслима в апреле…» Я никогда не была влюблена в Праздникова, хотя впоследствии во время первых лет учёбы в театральном институте, наши отношения принимали различные формы. Думаю, что просто глубоко уважала его, он был мне интересен, казался значительной личностью, и мне льстило его отношение ко мне.
Влюблена я была все эти годы в так и не состоявшегося певца Анатолия Безродного, который после окончания училища не поступил в консерваторию, а пошёл по профсоюзной линии и сторонился меня ещё больше после моего возвращения в Саратов. У него были красивые взрослые девушки, которых он нередко менял, – а я вела им учёт, мучительно завидовала, писала ему письма, воображая себя Татьяной из «Евгения Онегина», и доходила даже до того, что, зайдя в кафе после его ухода оттуда, прикладывала губы к его чашке с недопитым кофе. «Болела» я этим человеком долго, но в какой-то момент, когда он уже решился посягнуть на мою невинность, и для этого возникла подходящая ситуация, сработали моё воспитание и инстинкт самосохранения – и дело ограничилось страстными поцелуями, следы от которых я носила и берегла как заслуженные и выстраданные почётные ордена.
После этого мужского «фиаско» уже никакие мои «преследования» и попытки оправдаться не возбуждали интереса в этом взрослом и опытном мужчине, они стали его просто раздражать. Должна рассказать о финале этой истории, когда много лет спустя я прилетела из Швеции навестить любимый город, любимых подруг и, конечно же, хотела увидеть человека, благодаря которому я пережила такие сильные чувства. Узнав телефон, я позвонила ему и попросила о встрече. Он категорически отказался. Я смирилась и «терпела» почти до самого конца своего пребывания в Саратове, а затем решила, что не буду себе отказывать в желаниях и, взяв такси, отправилась по адресу, где проживал мой избранник со своей семьёй. Это оказался убогий рабочий район на окраине города.
Попросив таксиста подождать меня, я выпорхнула из машины и отправилась на поиски нужного подъезда. У подъезда на лавочке сидел мрачного вида дедок в старомодной шляпе и читал газету. В своей меховой пижонской «разлетайке», я выглядела в этой обстановке, как павлин, залетевший в курятник. «Не подскажете код подъезда?» – обратилась я к старичку, подумав в ту же минуту, что подобные «совковые» личности обязательно проявят бдительность и добровольно не «сдадутся». К моему удивлению, код я получила немедленно и, взлетев на нужный этаж, позвонила в дверь. Мне никто не ответил. Тогда я позвонила к соседям. Открыла приветливого вида женщина, и я попросила передать Анатолию Безродному привет от шведской гостьи и пакет, в котором были пара бутылок виски и моя фотография. «Да он же сидит там на лавочке!» –всплеснула руками женщина. О ужас! Как же мне сердце не подсказало, как не дрогнуло во мне ничего! Когда я сбежала вниз, старичка и след простыл! Села в своё такси и попросила водителя объехать дом дважды, пояснив, что, похоже, один старичок затаился в кустах. Никого не нашла. Прилетев домой в Швецию, я позвонила Безродному и услышала горестные признания в несостоятельности, в неудачной семейной жизни, в болезнях и нежелании мне показываться в таком виде. Конечно же, он меня узнал! И на прощание сказал, что, наверное, он всё-таки чего-то стоит, если я сохранила память о нём.