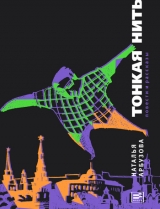
Текст книги "Тонкая нить (сборник)"
Автор книги: Наталья Арбузова
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 22 страниц) [доступный отрывок для чтения: 9 страниц]
3
Не успели мы отмахать таким манером трех перегонов, пришлось стать. На рельсах сидели явные шахтеры, с глубоко въевшейся в поры лиц угольной пылью и в шлемах. Почему сидят, вопроса не вызывало – не дают зарплаты. Но почему здесь, а не на транссибирской магистрали? Однако и этим вопросом мне не пришлось долго задаваться. Вместо привычного названья станции «Железнодорожная» я с ужасом прочла: «Анжеро-Судженск». По-прежнему озорничали и пространство, и время.
Мы перелетели через шахтерскую сидячую забастовку по воздуху, как наловчились еще на российско-украинской границе. У Курского вокзала нас встретило утро. На асфальте спал страшный алкаш, в головах у него помещалась миска с объедками, как подле собаки. Наш еще дееспособный бомж заботливо подобрал спавший с его грязной ступни опорок и водворил на место. Немного поспешив во времени, перед нами застенчиво встала мужская половина многоверстного памятника Веничке Ерофееву. Наш бомж козырнул с почтеньем. Веселый юбилейный поезд Москва – Петушки только что отошел от платформы. Последняя бутылка звучно разбилась о рельсы, выброшенная рукою, что высунулась из открытого окна его. Мы снова вышли на площадь. Перед зданием вокзала стоял плотный молчаливый круг лиц кавказской национальности, посеред которого метался с затравленными глазами их обреченный соплеменник. Прохожие спешно покидали площадь. Мы свернули к Каланчевке.
На Каланчевке Гоголь сделал знак остановиться и направился в стеклянный павильон – вход в подземный переход под рельсами. На полу спали люди. Возле них стояла керосинка, на ней пустая немытая сковорода. Становище было, по всем приметам, многодневным. Временный вожатый наш бомж проявил интерес к его бытовым проблемам. Затем мы продолжили путь свой, и я забылась в бричке кратким беспокойным сном.
Очнулась я от холода, хотя была уже плотно закутана в ту самую гоголевскую шинель, из которой мы все вышли. Бричка наша въехала в яркий зимний полдень, и от полотна железной дороги разбегались четкие лыжни. Кони стояли, бомж на козлах весело растирал замерзшие руки. Мы покинули бричку и двинулись туда, откуда тянуло дымком.
Лес на пути нашем был срезан, будто здесь падал тунгусский метеорит. Срубленные сосновые ветки плотно устилали снег. Посреди хаотичной вырубки были настланы помостами тонкие слеги, на коих воздвиглись линялые брезентовые палатки. Огромный постоянно поддерживаемый костер обогревал неандертальскую стоянку. Возле него сохло белье на веревках, протянутых меж стволов. Снег давно стаял кругом. Чернобородые люди в стеганых халатах дружно пилили оставшиеся деревья. На фоне мятущегося пламени их темные фигуры напоминали чертей или в лучшем случае цыган, которыми они, строго говоря, не являлись. Электрички шли мимо, весело приветствуя их гудками. Самолеты заходили на посадку против ветра – аэропорт Внуково был рядом.
На границе этого доисторического поселенья на куче сосновых веток поставил палатку одинокий русский беженец отчаявшегося вида. Он притащил со свалки сетчатую кровать, плиту и ржавый чайник. К нему-то на чай и стремился наш тюремной внешности бомж. Мой карманный черт – не худшего сорта – уделил им бутылку из своих таинственных запасов, и мы оставили их не такими несчастными, как встретили. Нам, отъезжающим, стелилась скатертью зимняя дорога, и горький дымок тянулся над ней.
4
В Москву мы въезжали с Поклонной горы, что твой Наполеон Бонапарт. Зима еще царила в причудливом нашем мире, и дети во все стороны съезжали с вершины ее на разных нехитрых приспособленьях. Раздражающая придирчивых москвичей Ника со стелы Зураба Церетели, перевесившись всем своим корпусом в нашу сторону, возложила венок на голову Гоголя, старательно обойдя мою. Она здорово смахивала на ревельского кадриоргского ангела, простирающего руки с венком на волны морские, покоящие погибших моряков с корабля «Русалка».
Не скажу, чтоб в Москве нас никто не ждал. Этот отнюдь не самый гоголевский город сделал все, что мог. Кто-то даже по старинке стоял с плакатом: «Нам нужны такие Гоголи, которые бы нас не трогали». Уличные музыканты, обычно прячущиеся в метро и подземных переходах, сейчас образовали подобие парада. Они заливались на приличном расстоянье друг от друга, являя некогда учившемуся скрипичной игре Гоголю все уровни своего искусства и не ожидая мзды. Новоарбатские художники предлагали гостю портреты самого что ни на есть мистического свойства. Нищие, попрятав в карманы усталые от вечного протягиванья руки, праздно глядели на сошествие чуда, забыв снять с груди таблички с описанием бедственного своего положенья. Неопасные сумасшедшие, выписанные из скорбного дома по причине нехватки продовольствия, разнообразили толпу живописными нарядами.
Мы подъезжали к Парку культуры. Издали славный чугунный Петр со стрелки, овеваемый чугунными парусами, кивнул нам головой. Храм Христа Спасителя блеснул медным куполом. Возле парка выставка ледяных скульптур, из чуть более раннего времени, встретила нас холодным блеском, что твой ледяной дом Анны Иоанновны. Москва таки подпустила новым бонапартам красного петуха. Она готовила нам если не пожар, так коммунистический митинг под красным флагом. Холодом веяло большим от этих людей, чем от этих скульптур ледяных, и мертвые души тускло глядели из темных глазниц.
Надо всеми этими головами высился круглоплечий Собакевич, которого я по неподвижности позы сначала приняла за памятник Владимиру Ильичу. Однако ж он поворотил в мою сторону не голову, а весь свой стан, высокий, но не гибкий. По-ленински простер руку и стал настойчиво нахваливать и всучивать мне мертвецов своих: «Не хотите ли этого? Стукач, ну просто артист, подсадная утка из ресторана! А этот – палач, ах, какой был палач! Не стану и говорить – чего только он не умел. А этот – какой был несун! Один, без товарищей мог перекинуть баранью тушу через забор Останкинского комбината. А этот – номенклатурный, начальник, не важно чего. Чиновник, какой чиновник! Как тонко, вежливо брал! Инструктор райкома – хотите? Преподаватель марксизма? Ну же, право, берите!» Тут новоявленный мой вергилий впервые отверз уста и заговорил подобно валаамовой ослице. Он сказал не «поехали», как Юрий Гагарин, но круче – «проехали». И сразу наступило лето. Мы поворотили мимо Николы в Хамовниках на Лужники.
И чего только не было на рынке в Лужниках! Так что хошь бы в кишене было рублей с тридцать, и тогда не закупить бы всего рынка. Народ шел стеною на торг, брал оптом и разъезжался по огромным территориям других московских рынков – торговать, торговать, торговать. Двумя радостями никак не могли насытиться после долгого запрета изголодавшиеся люди: вдоволь намолиться в церквах и всласть наторговаться на рынках. Вся Москва превратилась в большие сорочинцы. Во времена Союза не было в Москве такого стечения языков. Мягкая украинская речь радовала сердце моего вожатого. Цыгане, ближайшие свойственники нашего черта в красной свитке, резали сумки бритвами.
Обнаружились целые торговые народы. Лишь раз в жизни, на вокзале в Астрахани, видела я такой перекресток путей народов восточных. Монголоидные физиономии коварных корсаков, черные, как сапожные голенища, соседствовали там с тонкобровыми писаными лицами с иранских миниатюр. Так и сейчас в Москве. Пакистанцы в чалмах и курды, Боже мой, нелегалы курды, что ходят по городу лишь по двое, торговали здесь в открытую, едва понимая по-русски. А вот уж и китайцы, и вьетнамцы с настороженными недружелюбными лицами. Берегися, многолюден и могуч Восток! Петрушка с Селифаном все высматривали дуги, хомуты, мочала и пряники, но все было заморское и какое-то неправильное. Потолкавшись боками, мы пустились в путь, и я со вздохом вспомнила цветастые кустодиевские ярмарки.
Миновали манеж. Под стеной его сидели на корточках русские панки со своей ритуальной хохлатой стрижкой. Куполообразное сооруженье постоянно о себе напоминающего одиозного Зураба уже существовало. Мы проехали мимо библиотеки в крыле старого университетского зданья, которую почтил своим постоянным присутствием и трудами граф Николай Николаич Бобринский, прямой потомок Екатерины Великой, plus royalist que le roi. Для сокрытия рожденья предка его во время краткого царствования Петра III двое сторонников Екатерины подожгли дома свои, устроив в Петербурге нарочитый переполох. Пока я вспоминала этот исторический анекдот, чугунный Ломоносов промежду библиотекой и недавно отвоеванной Татьяниной церковью рассеянно кивнул нам.
Мы подъехали к гостинице «Россия», везя с собой свое пульсирующее время. Перед гостиницей стоял палаточный городок правдоискателей с детьми и скарбом. Не токмо как большое торжище, но и как большое кочевье встретила нас Россия в этот иллюзорный день. Казалось, с падением советского колосса на глиняных ногах началось новое переселенье народов, и евразийская сущность России обнаружилась как никогда. Запад есть Запад, Восток есть Восток, и вместе им не сойтись. А мы оказались на линии разлома, думала я, въезжая на Большую Дмитровку, Пушкинская тож. И в подтвержденье мыслей моих в причудливом нашем безразмерном времени провалилось несколько домов. Сразу стал виден сквозь многие улицы мерцающий клипом памятник Дзержинскому, то рушащийся, то зловеще встающий из руин, и уж заранее вновь вздрагивающий храм Христа Спасителя.
Пронеслись мимо опекушинского памятника Пушкину, они с Гоголем раскланялись. И вот уж по Тверской несется бричка через ухабы. Мелькают мимо будки, бабы – всё как положено: балконы, львы на воротах и стаи галок на крестах. Вот и крест моей церкви Всех Святых на Соколе. Выезжаем из Москвы на, простите, Ленинградское шоссе, и – вдоль по Питерской по дороженьке. Черт завозился у меня в кармане и заорал дурным голосом: «В Петербург! К царице!». Проезжаем Зеленоград, он же Крюково – вотчину сына моего Митьки. Оглядываюсь на нарядную церковь при въезде, стараясь не толкнуть в тряской бричке напряженно молчащего Гоголя. Думаю о том, что Митька и в Зеленоград переехал по слову, так же как и в свою нижегородско-костромскую деревню. Когда в сравнительно ранние опасные месяцы перестройки колонны демонстрантов шли против молчаливого построенья войск, коим неизвестно какой приказ был отдан, впереди были зеленоградцы. Одни молодые мужчины, под руки, ровной ниткой во всю ширину площади. На груди с расстановкой большие буквы:
З Е Л Е Н О Г Р А Д
Возле Зеленограда мелькнула бывшая деревня Ржавки, теперь скопище коттеджей. Сюда перед войной выезжала наша семья летом, на грузовике со всем скарбом. Здесь бодал меня во чреве матери судьбоносный бычок – картина, достойная иглы Пабло Пикассо. Бычок, сделавший из меня то, что я есть. Здесь держала меня на руках крестьянка Татьяна Башкова. А сын ее Коля Башков ходил по пятам за городскими пришельцами и говорил мечтательно: «Чеснок пахнет колбасой». Не берусь с ним спорить. Нaм вдалбливали сызмальства искаженное представленье о том, что первично. Лично я склонна уподобить чеснок духу, колбасу же материи. Дальше как вам будет угодно.
5
В Петербург, к царице. Но не к той властной и запальчивой даме, что беседовала инкогнито с Машей Мироновой. К другой, прекрасной, женственной и обреченной, как Мария Стюарт. Ее или не ее останки прибыли вчера из Екатеринбурга, про то пусть ведает господь Бог и православная наша церковь. В нашей умученной царице точно так же не было ни капли русской крови, как и в царице, кузнеца Вакулу облагодетельствовавшей. Но как шли ей кокошник и бусы! Она походила на иных фотографиях на Лину Кавальери, была многочадна, как достойнейшие из римских матрон, и любима супругом своим едва ли не более России. А потом в преисподней екатеринбургского подвала летали рикошетом пули, отскакивавшие от корсетных планок ее прекрасных дочерей, и ник на руках царственного отца болезненный мальчик в возрасте Димитрия, царевича убиенного. О, недаром по всему миру страховые общества не страхуют автомобильных гонщиков и коронованных особ.
Вот она легла костьми в великокняжескую усыпальницу придела святой Екатерины Петропавловского собора Петропавловской же крепости, наша кроткая царица, к которой мы так спешили, или же, по контрверсии православной нашей церкви, невольная самозванка, такая жe мученица, им же несть числа. Бог ведает, церковь судит, будут ли кости сии наречены святыми мощами. В том, что церемония захороненья стихийно перерастет в поименное поклонение мощам, я ни минуты не сомневалась. Должно было в последний момент произойти какое-то благое вмешательство. Вышло в точности по-моему. Академик Дмитрий Лихачев в данном случае блистательно сыграл традиционно русскую роль мужа, народом во старчество нареченного и власть предержащим путь указующего.
Мы пошли к бричке. Черт наш, пока скромно дожидался нас в отдалении от святого места, надзираемый Петрушкою и Селифаном, сильно приуныл. Зато какое вниманье проявил он к посещению нами Волкова кладбища! Боюсь, ему было хорошо известно, что душа Владимира Ильича Ульянова не найдет успокоения и тогда, когда иссушенное тело его будет честно предано этой земле – лучше поздно, чем никогда – в соответствии с завещаньем усопшего.
Усопшего, но не покойного. Уж какой покой тому, чье мертвое тело постоянно латают и реставрируют. Какой покой тому, чье имя упоминают ежесекундно в прямо противоположных контекстах, будто тащат в разные стороны. Какой покой тому, кто заварил всю эту несъедобную кашу.
Государь ты наш батюшка,
Государь наш Владимир Ильич,
А кто ж ее будет расхлебывать?
– Детушки, матушка, детушки,
Детушки, сударыня, детушки.
Вот и расхлебываем.
Никакие митинги на Дворцовой площади, ни же беспокойные призраки октябрьского переворота не смогли испортить нашего краткого пребыванья в Санкт-Петербурге. Невский проспект стелился под ноги Гоголю. Вот уж мы уезжаем, кони наши не знают усталости. Это не Гнедой, Чубарый и Заседатель, но огнедышащие чудовища. Петрушка с Селифаном вели себя выше всяких похвал, за ними дело не стало. Черт был услужлив и расторопен. Отъезд наш сопровождало тяжело-звонкое скаканье по потрясенной мостовой: медный всадник проводил нас самолично.
6
Уезжаем через Гатчину. Откуда ни возьмись, поперек дороги стал Павел I – ни дать ни взять три полковника КГБ с машиной на пути танков Кантемировской дивизии, вызванных Жуковым при аресте Берии – и сделал артикулы запретительного характера. Я вышла из брички, изобразила робкий кникс. Куды там! На счастье наше явился как из облака Великий лейтенант Российского приорства Мальтийского ордена граф Николай Николаич Бобринский. Гневно распушив роскошные усы свои, никаким пером, никакою кистью неизобразимые, он погрозил Павлу пальцем и произнес с укоризной: «Но не совсем он правил на рыцарский манер». Павел стушевался и отступил с барабанным боем.
В Ревель, к кадриоргскому ангелу! Может быть, он даст мне скорбный венок свой? А навстречу нам снова возвращаются с победой петровские полки. Сам Петр проскакал мимо нас с гордой и радостной улыбкой. Дорога идет высоким морским берегом. Здесь ехал мимо зарослей шиповника по коварному приглашению тестя князь Канут. Миновали замок Раквере. Все здесь отдает Россией – Жуковским, Алексеем Константинычем Толстым и моими остзейскими предками. Я чувствую себя как маг Просперо, низким обманом вытесненный из своих владений отнюдь не могущественным, но коварным подданным.
Что понадобилось Гоголю в Ревеле? Зачем он завез меня наподобие черноногой коробочкиной девчонки? Гоголь мысленно ответил мне, что боготворит Россию и русский язык. Что малороссийское дворянство спокон веку говорило по-русски. Только русский язык впору ему, Гоголю, только всё без изъятья российское пространство подобает душе его. Не станут же обожаемые им малороссийские селяне указывать, на каком языке ему писать. В Эстляндии, где мы находимся, дворяне были немцы, крестьяне чухонцы, чиновники, офицеры и дерптские студенты – русские. Так и везде. Разъять сплошную эту ткань невозможно.
Я, мысленно слушая гоголевский монолог, вспоминала, как накануне второго отторжения Эстонии от России жила здесь в доме русской женщины, брошенной мужем-эстонцем. Она растила дочь от этого распавшегося брака, не говоря с нею ни слова по-русски из страха за ее будущее. Эта женщина ушла из великой языковой культуры в тесную ей узость малого народа. Бедная, обделенная!
Вот мы в Ревеле, и кадриоргский ангел тоже возлагает венок свой на голову Гоголю, не взглянув в мою сторону. Мы стоим на берегу, дважды венчанный Гоголь и простоволосая я, глядя на волны морские. Вон несутся попутным ветром с острова Рюгена под варварские звуки своих волынок воинственные славяне, предводительствуемые Боривоем. А уж бедные русскоязычные не-граждане мнутся возле нас. Они пришли с петицией к Гоголю, не видя иного заступничества. Гоголь сложил поданную ими бумагу и очень аккуратно убрал в шкатулку, расположение отделений коей известно читателю «Мертвых душ». Какие-то санкции, я думаю, воспоследуют. В том, что у него есть связи в потустороннем мире, я нимало не сомневаюсь.
Из Ревеля поехали западными губерниями, намереваясь посетить Менск – административный центр эфемерного содружества. Но все не слава богу. Теперь дорогу преградил Александр Лукашенко, в хоккейном шлеме и с клюшкой, коей готов был в любую минуту нанести удар нам. Петрушка с Селифаном собрались было дать отпор, черт подзуживал из кармана. Международный конфликт назревал. Лукашенко предъявил нам какие-то претензии исключительно на белорусском языке. Гоголь достал из небезызвестной шкатулки устрашающее перо свое. Вышло только хуже. Лукашенко принял нас за журналистов и ринулся, как бык на красную тряпку. Сравненье не совсем удачно, поскольку собственно против красного цвета он ничего не имел. Но пусть так и будет, карте место.
Мы озирались по сторонам, ища спасенья. Божественному провиденью на сей раз было угодно послать для избавленья нашего прадеда графа Николая Николаича Бобринского по материнской линии. Грянул гром небесный. Алексей Степаныч Хомяков собственной персоной материализовался из облака и произнес с чувством:
Вспомним: мы – родные братья,
Дети матери одной.
Братьям – братские объятья,
К груди грудь, рука с рукой!
Александр Лукашенко устыдился и бесследно исчез.
7
Мы оставили мысль посетить Менск и поворотили восвояси. Алексей Степаныч Хомяков сопровождал нас некоторое время. Я упросила Селифана взять меня к себе на козлы и дать подержать в руках вожжи. Гоголь разрешил чуть приметным кивком. Я была всецело поглощена непривычным занятьем и живописной дорогой. Вдруг оборотясь на новый голос, донесшийся из экипажа нашего, я с трепетом восхищенья узрела Алексея Константиныча Толстого. Он говорил соседям своим в бричке:
Еs ist ja eine Schande,
Wir müssen wieder fort.
Мы остановились в корабельной роще Псковской губернии, и из нашей чреватой чудесами брички вышли, как из брички Василисы Кашпоровны или же из телефонной будки неисчерпаемых возможностей: Гоголь, Алексей Степаныч Хомяков, Алексей Константиныч Толстой, братья Киреевские – Иван с Петром, Сергей Тимофеич Аксаков и… Федор Иваныч Тютчев. О, куда мне бежать от шагов моего божества! Я спряталась за ствол, изготовившись ловить каждое драгоценное слово импровизированной разномастной и разношерстной славянофильской тусовки.
Еще ни одного долгожданного слова не было произнесено, как вдали что-то засияло. Будто кто идет к нам в золотом шеломе, или же само, расставив луч-шаги, шагает солнце в поле, не в обиду никому будь сказано. Меня осенило: Пушкин. И впрямь шел, почти что канонизированный советским литературоведеньем, в красной рубахе и широкополой шляпе, вкруг высокой тульи коей нимб был перевит наподобие ленты. Подошел, снял нимб свой. Бойкий черт мой подхватил и стал перекидывать из ладони в ладонь, дуя на него по обыкновению своему. И совсем уж в облаке просиял Ломоносов, серебрясь париком.
Высокое собранье проявило немногословие, суть же решения сводилась к следующему. Языку русскому быть, царствовать и распространять влияние свое. Пусть работают ему с прилежаньем. Пусть дерзают ныне ободренны обогащать его (сие последнее я приняла как прямое руководство к действию). Да воскреснет Русь, и расточатся враги ее, яко дым от лица огня. Пусть сторонятся и дают ей дорогу другие народы и государства. Когда же все это было Гоголем в точности записано, из-за мачтовых сосен выступил соснового роста колосс и приложил к документу руку: «Быть посему. Петр».
Мы отбыли из корабельной рощи со славянофильского пикника в малом комитете: Гоголь, я, Петрушка с Селифаном и верный черт. Высокочтимые наши единомышленники, сделав свое дело, дружно дематериализовались. Не успели мы отъехать и версты, как в молодом сосняке послышался нечеловеческий храп. Сцены из «Руслана и Людмилы» стали приходить мне на ум. Русский дух витал окрест. Приблизившись не без опаски, мы легко поняли, что перед нами не кто иной, как Поток-богатырь собственной персоной, великолепный крупный экземпляр породы русской.
Он спал. Который это был его захрап и в каком времени ему сейчас надлежит проснуться, можно было только гадать. Время крепко загуляло. Решено было, соорудив нечто вроде матросской брезентовой койки, увязать его позади экипажа нашего наподобие чемодана, а там в какое время ни прибудем – пусть он комментирует, ибо счастливо сочетает проворство, стать и удаль с непробиваемым здравым смыслом. Тоже и прям – когда ни разбуди, режет правду-матку. В нынешнее время, когда на Руси начинают переводиться богатыри, нам привалила баснословная удача, и глупо было бы упустить ее.
Сказано – сделано. Поток-богатырь слил мерный храп свой со стуком колес наших. Тут под боком у меня снова раздался милый сердцу голос творца его Алексея Константиныча Толстого. Видно, он снова решил к нам присоединиться, чтобы порадоваться на свое разумное детище. Он вопросил богатыря, постучав красивым перстом о заднюю стенку брички: «Говори, уважаешь ли ты мужика», а Поток встрепенулся: «Какого?».








