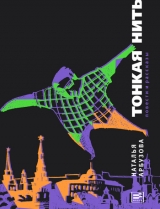
Текст книги "Тонкая нить (сборник)"
Автор книги: Наталья Арбузова
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 22 страниц) [доступный отрывок для чтения: 9 страниц]
135. Секреты Полишинеля
Может быть ты, мой читатель, не знаешь, что такое допуск? Допуск, не в пример свежести, бывает первый, второй и третий. Первый – самый сильный, у меня же был второй. Постепенно я убедилась в том, что учрежденская секретность существует чаще всего не для сокрытия чего-либо от бдительного взора врага, но скорее для создания мутной воды, в коей удобнее ловить рыбу. Засекречивали, или закрывали зачастую те околонаучные материалы, которые не выдержали бы широкого обсужденья и критики. Позднее засекречивали любые цифры, которые могли бы стать основой для конкурентных околонаучных работ. Еще позднее, когда выполненье договоров свелось к перетасовке в компьютере абзацев прежних работ, стали просто прятать любой околонаучный текст.
Я развернула настоящий нефтяной шпионаж. Выносила из первого отдела в рукавах бумажки с переписанными цифрами. Первый отдел, мой неподготовленный читатель – это комната, где хранятся материалы за грифом, то есть с пометками «секретно» и «совершенно секретно». Человеку с равноценным допуском можно там их посмотреть. Если же он что-то перепишет, должен свои заметки там и оставить. Удивляйся как знаешь, мой простодушный читатель. Сам понимаешь, пользоваться этими материалами с соблюдением таких правил невозможно. Я научилась дальнозоркими глазами считывать бумаги с чиновничьего стола, скромно торча на стуле у двери и вытянувши шею, как хорошая гусыня. Однажды сидела в оранжерее бывшего нефтяного министерства с видом усталой тетки, которой еще бежать в десять магазинов. Навострив уши, я слыхала целый разговор в другом конце оранжереи. Три генеральных директора нефтяных объединений Западной Сибири впервые договаривались о создании нефтяной компании «Лукойл». Иногда я чувствовала, что в руках у меня очень дорогостоящая информация.
136. Система меня отторгает
Ходить бывает склизко
По камешкам иным.
О том, что очень близко,
Мы лучше умолчим.
А впрочем, как хочешь, мой читатель. Не любо – не слушай, а врать не мешай. В нашем богоспасаемом институте людей осталось с гулькин нос, или кот наплакал, как тебе больше нравится. Ну, там, жены, дочери чиновников, коим халтурные договора всегда подпишет другой чиновник. Нефтяники же, учившие меня делу, все ушли. Ушел могучий Саттаров с печальными диковатыми глазами, с тяжелым кулаком. Как, бывало, он грохал им по столу! Как я любила идти с ним плечом к плечу стенка на стенку, и мы всегда брали верх. У него был сверхчеловеческий деловой ум, больше похожий на собачье чутье. Я глядела на него, как младший мальчишка во дворе на обожаемого старшего забияку.
Теперь каждый год мне вручали предупрежденье об увольнении. Я ходила с ним по полгода и больше, прячась от заведующего отделом кадров, пока не принесу какого-нибудь туфтяного договора. А институт все приходил в умаленье. Освободившиеся помещенья сдавались. Иногда это делалось за наличные. Деньги попросту разносились заведующим отделом кадров по замдиректорам. Иногда съемщики оформляли фиктивные договора на тех же членов дирекции. Все молчали – над каждым висел топор увольненья. Бюджет каждый год утверждался все позднее, и уж стали подписывать договора в сентябре, а сдавать надо было в декабре. Туфта – она туфта и есть. Уволить же до сентября могли любого. Все затаились. У иных замдиректоров осталось в подчинении менее двадцати человек. Однако они отнюдь не думали добывать им договора и ни в какие министерства отнюдь не езжали. Директор же постоянно обретался в командировке в США, кою сам себе выписывал. Начальник отдела кадров караулил, как кот у мышиной норки. Земля опять горела у меня под ногами.
137. В жизни всегда есть место подвигу
Я, мой читатель, в 55 лет совершила подвиг возвращенья к своей специальности. Нашла место в вузе, встала чуть что не впервые в жизни к доске и начала учиться преподавать, как некий интеллигент у Солженицына учился в лагере на зэках делать внутривенные вливанья. Не вини меня, о мой суровый читатель, что я не ушла преподавать в прежние годы. Тогда это было хлебное место, в вуз брали либо по звонку из райкома партии, либо по родству. Теперь же это место не сытное, и я пролезла. Не моя вина, что у меня в 55 лет не было нужного опыта. А что это мое призванье – я догадалась еще когда растила детей.
Задаюсь мыслью, почему студенты стерпели мои внутривенные вливанья, за что открыли мне неограниченный кредит доверия? Было такое, что диссидентка Ирина Кристи в возрасте помоложе уехала в США. Встала первый раз в жизни на кафедру. Начала преподавать математику сразу на английском языке. Думаю, ее студентам тоже пришлось солоно. Но впереди нее бежала молва, как она с альпинистским снаряженьем залезала через окно в залы суда над советскими диссидентами, стенографировала процессы и передавала стенограмму на «Немецкую волну». Я же вошла в клетку к студентам, защищенная лишь любовью к ним. Ничего, этого хватило. И, конечно, сестра моя математика узнала меня в коросте тридцатипятилетней халтуры и протянула мне руку. Я и впрямь люблю их. Мне кажется, будто призрак молодости танцует передо мной свой диковинный танец. И еще мне кажется, что будущее меня приняло, и я могу пройти еще несколько поприщ, еще не с одним поколеньем.
138. Экспроприаторы
Накануне первых ельцинско-зюгановских выборов у меня побывали экспроприаторы. Они разбили окно на втором этаже и украли: шубу, кожаное пальто с выдранной пуговицей, две бутылки спирта «Моцарт», выданные по талонам на работе лет шесть тому назад, да еще подчистую всю еду из морозилки. Я, мой удивленный читатель, придумала такую версию. Возле Карамышевского шлюза стояла баржа, на которой матросов не кормили. Они пошли, взявши причальный крюк на веревке с узлами, закинули его на первый же задраенный балкон. Влезли, разбили стекло и бросились прежде всего к холодильнику. Схвативши еду, побросали ее в мою синюю сумку, прихватили шубу и пальто. Вышли через дверь, пошли в предрассветном тумане к шлюзу. Свистнули лодку, доплыли до баржи, тут и рассвет. Снялись с якоря и ушли, и концы в воду. Теперь неведомая астраханская красавица носит мою шубу, дай бог на доброе здоровье, в студеные астраханские зимы, чуть что налетели ветры злые с той, с восточной стороны. А у меня теперь на всех окнах решетки. Одно время, начитавшись «Архипелага ГУЛАГа», я все думала, что нужно бы держать на балконе привязанную веревку. Если придут арестовывать среди ночи, уходить через балкон. А теперь уж не уйдешь, дудки – я в клетке.
139. Приход Веры
Из моих семерых внуков на меня похожа лицом и характером одна Вера Дмитриевна. Только родилась она в конце апреля, под знаком Венеры. Когда душа ее отправилась к нам с далекой звезды, она послала мне, своей непосредственной предшественнице, довольно явственный сигнал. Я увидела во сне розовую зарю и Веспер-звезду в вечернем небе. Стою с радостным сердцем на холме в березах, а внизу усадьба с замерзшим прудочком. Одно лишь дитя катается на коньках в розовой жилетке. Такая подкрашенная рождественская открыточка. И я говорю вслух: «Ну конечно в розовом – ведь это девочка», – и просыпаюсь. А через несколько дней она явилась в мир, не замешкав сменить меня на моем необозначенном посту.
Она не боится говорить высоким слогом: «Спасибо, папа, что ты нам бабушку привез – у нас сегодня великий день». Она сочиняет музыку, которая мне кажется очень хорошей. Миленькая, она поет в хоре и очень привержена к этому занятию. Она смотрит на мир, как настороженный волчок, никому на слово не верит и все пытается понять сама.
140. Без названья
Конец уж виден, а где же те, кого я любила? Что же их лица вовсе не промелькнули в кадре, и нигде не чувствуется их присутствия? Пожалуй, я скажу им собирательно: «Парень, не тебе решать, быть ли мне счастливой или несчастной. Ты не Господь Бог».
141. Дорога к храму
Пятнадцать лет назад еду в троллейбусе вдоль бульваров. Входит старик и спрашивает светлым голосом: «Я до храма Христа Спасителя доеду?» Отвечаю ему радостно и громко: «Воистину доедете». Доехал ли он, дожил ли до того часа, как мы, упрямые, настояли на своем и в черные годы разрухи отстроили его, громадный, нескладный и родной? Так вот у Андрея Тарковского в разоренном Владимире мучили татары церковного сторожа, пытая, где церковные клады. Тот, переведя дух, только отвечал: «Все отстроим заново».
142. Эпилог
Бывало, мой начитанный друг, и я читала много. Вспомни Пашков дом, на холме и в сирени. Бывало, пролезала в любую щелку за хорошими фильмами. Теперь я всё больше наблюдаю. Мне кажется, что кто-то показывает мне живое кино или книжку с живыми картинками. Не променяла бы свое переломное время ни на какое другое. Я не китаец, которого не приведи бог жить в эпоху перемен. Только разрезав на кусочки и в цинковом гробу меня можно отправить с моей родины. Я была счастлива с нею и в более мерзкие времена. Теперь же, когда впервые появилась надежда на выздоровленье обожаемой больной – ни за какие коврижки. На своей ни на что не похожей родине я приобрела диковинный опыт неведомо чего. Так сказала Анна Андреевна Ахматова – но в мире нет людей бесслезней, надменнее и проще нас. Я не знаю, что именно я умею и где, кроме моей многострадальной родины, могло бы пригодиться такое уменье. Наверное, нигде. Но сделать из меня не то, что я есть, очень трудно. Я неподатлива, и вижу, что не я одна.
Моя очень умная и в последнее время очень дружная со мной невестка Наташа сказала вот что. Когда реставрируют зданье, надо решить, на уровне какого года желательно его восстановить. Ведь мы имеем дело с наслоеньями разных эпох. Так, она говорит, и с нашей разрушенной страной. Давай, мой читатель-соотечественник, восстанавливать на уровне тринадцатого года. Будет вернее. Для меня, мой милый, и мордва Россия, и Литва Россия. Не вижу большой разницы. Этого развода я не даю.
Засим желаю здравствовать. Писано в Купавне и Суле летом 1997 года. Писано в России, Малороссия для меня тоже Россия. Я не собираюсь резать Гоголя пополам – таков будет мой соломонов суд. Прощай и не поминай лихом.
Черт в кармане
Фантасмагория-коллаж
1
Купавна и Сула – два прелестных славянских названья, и улыбчивая круглолицая муза с русой косой и пастушеской свирелью повадилась наведываться ко мне в обоих сих местах. В Суле она проводит со мной даже более времени, нежели в Купавне, благо мне трижды в день ставят под нос горячую миску две хохлушки, что поют на два голоса, закрывшись на кухне. Ради того я и поспешила вторично в Сулу, и на подольше.
Вот я коснулась ногой ее желанной земли. Повторила много раз произнесенное зимой заклинанье – кони ржут за Сулою, звенит слава в Киеве. Бия копытом, раздувая ноздри и чутко прядя ушами, стала вслушиваться, не раздастся ли где свирельный звук. Луга в низине между стариц курились туманом. Светлела вровень с берегами гладь основного русла, дубравы отражались в ней слитными темными купами. Глядишь и не знаешь, идет или не идет ее величавая ширина. Казалось, вот-вот послышится плеск весел верных хлопцев и выплывет с излучины дуб с паном Данилой, Катериной и дитятею. Но все молчало.
Я вышла на песчаный берег к омуту, заросшему по краям кувшинками. Там пели стрекозы – над нами трепещут былинки, нам так хорошо и тепло, у нас бирюзовые спинки и крылышки, точно стекло. Наклонилась к воде и на мгновенье увидала на дне круглое лицо в обрамленье русых волос. Но тотчас дрогнула гладь омута, и вместо лица музы моей явилось мое лицо, а это все-таки не совсем одно и то же. Стрекозы играли со мной: смотри, какой берег отлогий, какое песчаное дно. А я все смотрела и слушала, не понесет ли мимо вода в намокшем платье, с цветами в распущенной косе мою несвязно поющую музу, хватающуюся за нависшие кусты тонкими руками. Но все затаилось.
Я пошла в село, стала под шелковицу на давленые ягоды, высматривая дорогу: нейдет ли. Но всё дремало. Одни только гуси ковыляли вдоль улицы. Дойдя до меня, сделали равненье налево. Крикнули, сбросили все по перу, после чего встали на крыло, выровнялись и улетели. Вот и знак! Я собрала перья и поспешила в дом в ожиданье новых знамений. Они не заставили себя ждать.
Проходя под стеной дома, я подпрыгнула, силясь заглянуть в узкую щель занавешенного окна. Хозяйственный хохол, директор базы, держал под замком много всякого добра. Мне хотелось удостовериться, правда ли у него нет лишних одеял. Другое обстоятельство, обращавшее мысли мои к действительности, было следующее. Назавтра брат одной из миловидных стряпух наших предлагал за сколько-то долларов автомобильную прогулку на четыре персоны по гоголевским местам, в эпицентре коих мы находились.
Ангел – Олечка, моя очаровательная соседка из русско-немецкой дворянской семьи, уж второй год подбивала меня поехать. Я положила на всякий пожарный случай в карман богоданное гусиное перо и пошла уговариваться об экскурсии нашей. Машину должны были подать наутро. Однако ж человек предполагает, а Бог располагает. И впрямь подали, да только не те подали, не то, не тогда и не на столько персон, как было условленно.
Стемнело рано – юг. Знаете ли вы украинскую ночь? О, вы не знаете украинской ночи. Тиха украинская ночь, прозрачно небо, звезды блещут. Я вышла под звезды, приговаривая про себя:
Как ночи Украйны
В мерцании звезд незакатных,
Исполнены тайны
Слова ее уст… Ax!!!
У порога тройка стояла. Темны были кони, и черт – худой, в красной свитке – на козлах фертом сидел. Петрушка же с Селифаном кой-как теснились с ним рядом. А Гоголь – А Гоголь Вергильем прикинулся, не без труда римский профиль скроив. Потеснился в бричке, дал место, накинул шинель мне, и ну считать версты, по-ше-е-е-л!
Рассвело очень скоро. Столбы верстовые виднелись, и тут разъяснилось, зачем так спешила заря. На иных столбах были версты, вот этак: 121 / 122, на прочих же годы стояли: 1826 / 1825. Однако ж системы в том не было – вроде бы едем к Москве, а потом оказались в Полтаве, и даже баталию видели. Иной раз вспять шли часы, в глубь времен – коли на козлах сам черт, так чему ж удивляться. Но ближе к границе с Россией Гоголь занервничал, черт сковырнулся с козел. Догнал, вскарабкался, но Селифан уже правил, и черт полез мне в карман вместо кукиша. Я поняла, что пространство и время в кармане моем, и надо глядеть да глядеть.
Петровские полки отходили обратно в Россию, загромождая дорогу нашу. Мы пережидали их без досады, любуясь выраженьем радости победы, столь уместным на широких лицах большого и сильного народа. Вот Петр пронесся – и ветер победы за ним. И хорошо мне было в минуты этих вынужденных остановок отдохнуть от нелепой горечи подстроенных поражений.
Мы пересекли границу российскую, перемахнув через шлагбаум. Лошади взяли препятствие дружно и чисто, как на соревнованиях. Бричка проплыла по воздуху не качнувшись. Долго бежало за нами, осыпаемое землею из-под копыт лошадей наших, некое лицо славянской национальности в трудно идентифицируемой форме – должно быть, таможенной. Сей хохлацко-кацапский гермафродит имел окладистую москальску бороду и бритую круглую голову с долгим оселедцем, несколько раз обернутым вкруг уха. Оно размахивало флагами одновременно красным с серпом и молотом, жовто-блакитным, российским триколором и белым с синим крестом – андреевским. Оно кричало, как крыса, плывущая за бумажным корабликом оловянного солдатика: «А паспорт у тебя есть?». Но Селифан свистнул, кони дернули стремглав, и оно отстало.
По мере того как внедрялись мы в Россию, я, привычная думать о себе и о ней нераздельно, постепенно уверилась, что едем мы в Купавну. Я примечала поэтический тракт, проложенный между Сулою и Купавной прошлогодней моей книгою. Это позднее первое дитя незримо сидело у меня на коленях, в то время как вторая книга уж требовательно брыкалась в голове моей, как Афина в голове Зевса. Молчал малороссийский мой вергилий. Черт же высунулся из обжитого кармана и предложил мне сыграть в карты на судьбу прошлогодней книги – будет ли жить. Я села играть, затаив дыханье. Но карты оборачивались то уменьшенными страницами той же книги, то календариками дворянского собрания с изображеньем высочайших особ.
Сольвейг сказала Перу Гюнту: «Ты чудной песней сделал жизнь мою». Анна Андреевна Ахматова говорила, когда Бродского высылали за тунеядство: «Какую, однако ж, биографию они делают нашему рыжему!». Теперь-то я знаю, зачем так много мудрила со своей жизнью. Оказывается, я сама себе шила биографию, загодя лепя поэтическую легенду. Теперь, наконец, выстрелило висевшее на стене ружье. Понадобилось сначала прожить жизнь, прежде чем ее записывать. Но с последней страницею книги одна жизнь закончилась и началась вторая. Поезд привез из Сулы не того человека, который уезжал, и из зеркала на меня глядело новое лицо. У меня явилось новое дыханье, новое зренье и новое бодливое рвенье вовсевмешательства. Полезно, знаете ли, бывает поглядеть на себя пристально.
2
К Купавне мы подъехали при наступлении сумерек и на несколько лет ранее того времени, что было у нас на дворе при отъезде из Сулы. Свидетелем чуда был один лишь Сережка Камбаров – синеглазый кудрявый инородец с варварскими чертами лица и благородным строем мыслей. Он бродил, как медведь-шатун, движимый заботой об алкоголе насущном.
Непрестанные измененья алкогольной политики государства подорвали железное Сережкино здоровье. Он давно уж не надеялся на деньги, теряющие ценность и к тому же отбираемые женою, но работал соседям в долг. За водкой приходил потом по мере надобности, во все дома по очереди, как деревенский пастух. Сережка поглядел на меня без удивленья, но с укором. Черт поспешил ему навстречу из кармана моего и протянул невесть откуда взявшийся шкалик.
Вернувшись во время прошедшее, я вновь увидала палисадник своей только что купленной четвертушки дачи в первозданном виде плюшкинского сада. Вымахавшие кустарники образовали хитросплетение ветвей. Выкинули протуберанцы почище тех ведьминых метел, что бывают у мучимых городом сосен, летящих на чюрленисовский шабаш. Между ними путался радиопровод, протянутый от столба через мой палисадник к соседке Федоре. Незримые токи правды и неправды дремали в нем.
В полумраке палисадной кущи в мое отсутствие без зазрения совести резвился никогда не покидавший своего проданного владенья прежний хозяин моей четвертинки Юрий Александрович Шуман. В дом он мог проникать лишь через печную трубу, заслонка же печная была заперта снаружи. Теперь-то я понимаю, что печь мою он обжил еще при мне, благо топить ее я так и не выучилась. Она была сложная, с плитою и духовкой, из тех, при разжигании коих надо сначала сунуть зажженную бумагу в дымоход. Именно Шуман жалобно выл в печи моей по ночам, пугая Федору за тонкой перегородкой.
Иногда Шуман не по ошибке, но сознательно залетал в трубу Федоры – с целью попугать. Так случилось и в данном конкретном случае. Мы с Гоголем и всем его причтом подъезжали при последних проблесках долгого дня к моей поэтично-прозрачной калитке по подозрительно пустой улице Тургенева. Шуман как раз пролетал над моим палисадником верхом на некоем духовом инструменте, издавая при помощи его сомнительные звуки наподобие того дантовского дьявола и устремляясь в трубу Федоры. Та уж томилась дурным предчувствием, и из форточки ее долетали явственные стоны, производимые во сне.
Конечно же, Шуман не ожидал столь скорого и столь необычного моего возвращенья. Услыхав наше с Гоголем прибытие, он нервно обернулся, задергался и зацепился за радиопровод. Радио громко рявкнуло сразу из всех Федориных окон и не судом пошло передавать про свершившийся коммунистический переворот. В тую ж минуту из дома напротив с бетонными шарами на ограде вылетела на метле Анна Петровна и полетела вдоль улицы Тургенева, стучась в окна и крича: «Я снова депутат, я вас оповещаю!!!»
Шуман той порою спроворил где-то по соседству надувной шарик-колбасу, оседлал и туда же – понесся следом за Анной Петровной, вооружась выцветшим флагом из тех, что втыкали в флагштоки на поселковых домах по советским двунадесятым праздникам. Он неукоснительно приезжал в означенные дни и не без удовлетворенья вывешивал флаг в те годы, когда владел еще бедным сим приютом, но уж не пользовался им. Теперь же, в печи живучи, он это свое обыкновенье по соображениям конспирации с видимой досадою оставил и рад был дерзко возобновить на глазах моих. Музыкальный инструмент, на коем он прибыл не из хороших, я думаю, мест, прикинулся упавшей водосточной трубой. Произведенный же Шуманом переполох пришлось бы расхлебывать мне, кабы не Гоголь. Этот последний достал перо и бумагу из вместительной шкатулки, поглядел на усиливающееся беснованье пристально, и все стихло. Лишь ветер мел в сумерках серую пыль по асфальту.
Я вошла в дом, тогда как молчаливый мой вергилий пошел через дорогу переведаться с Анной Петровной. Шуман же в состоянии аффекта сумел открыть изнутри гребенкою печную заслонку. Высунувшись, он прежде всего сыграл на гребенке «Полет валькирий». Затем придирчиво оглядел комнату и спросил строго: «А где плетеная мебель? Где саксонский сервиз? Где полное собранье сочинений Толстого?» Я поняла, что все перечисленные Шуманом незнакомые мне предметы когда-то ранее существовали в этих стенах, и хотела с помощью черта отмотать время назад, чтобы утешить старика. Но он уж схватил кочергу и со словами «надо проучить» стал гоняться за мной сначала по дому, потом по палисаднику. Подпрыгнул, завис в воздухе, как Вацлав Нижинский. Снова задел за радиопровод, на этот раз кочергой. И все началось по новой: «Народные массы восторженно приветствуют приход к власти Геннадия Андреича Зюганова…»
Я хлопнула себя по юбкам и посулила Шуману черта. Черт, не к ночи будь помянут, высунул из моего кармана мерзкую рожу, и Шуман быстро ретировался в печь. Тут подоспел скоропомощный мой вергилий. Одобрил черта молчаливым кивком, мне же указал настоятельно-учтивым жестом идти к бричке. Висячий замок сам вскочил на дверь мою и громко щелкнул. Шинель плавно проплыла по воздуху с перил крыльца к нашему экипажу. На улице не было ни души. Мы отбыли в молчании.
Пространство и время пошаливали, и недалёко ж мы до глубокой темноты отъехали – всего на версту к Бисерову озеру, по разбитой и перекопанной поперек дороге. Перекопали ее зеленые купавенские дачники, борясь с военным ведомством, которое уж совсем было получило разрешенье на застройку берегов его. Пока зеленые сопротивлялись, власть успела перемениться. Военное ведомство сникло, и проект строительства был похерен. На берегу озера растет лишь гора консервных банок, которую смело уподоблю тамерлановой груде камней для счета погибших воинов. От затевавшейся стройки остался лишь вечно запертой склад неведомо чего. При подъезде нашем к озеру уж месяц светил вовсю, а на таинственном складе в ожиданье имеющих быть чудес сидела глазастая сова. Так начался первый наш недолгий вечер на хуторе близ Купавны.
Конечно же, враг рода человеческого соблазнился блеском месяца и улизнул его красть. Вернулся с добычей ко мне в карман, где месяц поместился наподобие пряника. Хоть он и не был особо горяч, но вскоре прожег в кармане моем препорядочную дыру, из которой черт казал то хвост свой, то мерзкое копыто. Звезд же было хоть отбавляй, и были они так ярки, будто мы привезли их с собой из Сулы. По непонятным мне соображеньям черт решил с ними не связываться – пусть светят. И Анна Петровна не спешила на метле своей собирать их. Гоголь же в длинной рубашке полез, пока тихо, при звездах купаться – наподобие русалки.
В то время как призрачный мой вожатый, не проронивший пока со мной ни единого слова, полоскался в долгой своей рубахе в Бисеровом озере, из затоптанного сосняка вышел бомж. В голове сего последнего день и ночь смешались от многолетнего употребленья некачественных спиртных напитков. Не только в часах суток, но и во временах года он стал нетверд, почему и был одет в ватник, а на голове красовалась тюремного вида ушанка. Соответствующим образом он приветствовал выходящего из воды Гоголя, приставив руку козырьком ко лбу: «Моржам от бомжей!» После чего без церемоний полез на растяжимые козлы брички нашей, и нам ничего не оставалось, как проследовать туда, куда он казал нам дорогу.
Бомж притащил нас к полотну железной дороги. Долго препираясь и с Петрушкою, и с Селифаном, и с самим чертом, он принудил экипаж наш стать на рельсы наподобие конки. Он так убеждал и упорствовал, будто сам только что пришел с каторги по шпалам. Наконец мы стронулись с места. Никто не сигналил нам навстречу, и никто не врезался нам в спину. Утро так спешило нам навстречу, как если бы царь природы восходил не с востока, но с запада, куда мы хорошо ли, плохо ли, но двигались.








