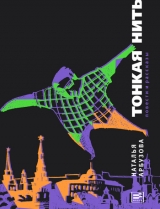
Текст книги "Тонкая нить (сборник)"
Автор книги: Наталья Арбузова
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 22 страниц) [доступный отрывок для чтения: 9 страниц]
38. Евгения Михайловна Танберг
Кто-то клал нам в почтовый ящик небольшие деньги, по три, по пять рублей – думаю, что она. Высокая стройная старуха отличалась смелостью, эмансипированностью, нелюдимостью и умеренным нюдизмом. Меня она облюбовала для передачи всех перечисленных свойств. Даря мне, дитяти, стеклярус от старинных штор, она приговаривала бесстрастным голосом: «Мужчины всегда подавляли мою индивидуальность». Я мотала на ус.
39. Дриада
Ты, мой читатель, должно быть заметил, что хаос мой просветился и устроился. Я кой-как соединила распавшуюся цепь времен, и вместо сбивчивых излияний из-под пера моего полились довольно гладкие мемуары. Так вот, я стала дриадой. Из города пока не выезжала, как Тристрам Шенди до середины книги еще не надел штанов. Пряталась в парках. Однажды мы с классом пошли гулять не куда-нибудь, а на Канатчикову дачу. Я забылась среди деревьев и не заметила, как все подхватились и ушли. Когда меня потом бранили, сказалась задремавшей на траве, чего на самом деле не было. После этого стала убегать из дому. Нашла дорогу в Нескучный сад – пешком по трамвайным рельсам. Вход был платный. Я висла на кольях забора, разрывая полосами сшитое ангелом-сестрицей платье в оборках. Иной раз, когда по реке шел катер, съезжала на всегда готовом экипаже с песчаного обрыва, становилась на парапет и махала ему рукой. Я была счастлива.
40. Фронда
В школе я ушла в глухую оппозицию. Ходила лишь на уроки нравившихся мне учителей, остальное время сидела на школьном чердаке и довольно внятно пела. Частенько меня слышали и за мной приходили. У меня была «оборудованная парта» с прорезью, заложенной вынутым бруском. Я всегда держала под партой раскрытую книгу. Однажды ее отобрали, это оказались «Былое и думы».
41. Марина Скурская
Из вырезанной нашей родни, благодаренье Богу, осталась Марина Скурская, моя великовозрастная кузина. Когда ее мать в гражданку умирала от туберкулеза, Марина ходила кругом ее одра, бубня: «Если ты умрешь, я наемся бузины и тоже умру». К счастью для нас, четырехлетняя сиротка своей угрозы в исполненье не привела. Я помню еще сравнительно молодую веселую Марину, играющую с нами в шарады в одной из семейных квартир в Сверчкове переулке. Снуя взад-вперед, Марина одна изображает целую очередь за батонами и хватает поленья в качестве батонов. На Сверчкове переулке жива аура прежней жизни. Квартира уплотнена многочисленными жильцами, имя им легион, однако почти не разграблена благодаря авторитету покойного физика Сергея Анатольевича Богуславского, материного кузена. Елена Анатольевна Богуславская, пока была жива, приютила опальную Марину по приезде из Сибири. В другом аспекте Марину тогда же приютила Зоя Дмитриевна Шостакович. Под ее началом Марина работала в зоопарке, нося пальто с ее плеча и юбку с ее же условно говоря плеча.
Теперь, когда я это пишу, Марина стара и очень мрачна. Ее сын физик Сережа Скурский работает в институте Курчатова и по вечерам проверяет билеты при входе в метро. Марина воскресает лишь на Пасху, и, христосуясь с ней, я вспоминаю счастливую игру в шарады после войны.
42. Смех и слезы
После войны еще жива была скорбной жизнью тетушка Вера Валерьевна. Она вынесла революцию и 37-й год, а вот во время оккупации Орла впала в душевную болезнь, от которой более не излечилась. А ведь была и война 14-го года. В орловском имении деда Дмитровском и соседнем Киреевском, данном за другой материной сестрой, в замужестве Шермазановой, работали пленные немцы и мадьяры. Тогда насмешливая тетушка Вера писала:
Столпотворенье в Вавилоне,
Ей-богу, было дребедень.
Его я, сидя на балконе,
Могу увидеть каждый день.
Вокруг австрийца девки пляшут,
Их восемь штук, а он один,
И между тем мадьяры пашут
Без лишних слов за клином клин.
Зачем же немец, маму бросив,
На драку с нашими полез?
Про это знает Франц-Иосиф,
Или, верней, сам лысый бес.
Но кто это ползет с косою,
Минуя флигеля крыльцо?
Я вижу, радости не скрою,
Родное русское лицо.
Се Веденей, туземец кровный,
Увы, и кровный же дурак.
Скосил не то, скосил неровно,
Скосил не там, скосил не так.
Смотрю, и думаю, и плачу.
Пойду, чтоб долго не скорбеть,
На шермазановскую дачу
Петрене Иштвана смотреть.
Потом, как сами знаете, была революция, и в голод тетушка Вера писала для всеобщего ободренья сладкие стихи:
У Эйнема куплю шоколада,
В плитках, в бомбах, с начинкой и без.
Всех пирожных по фунту мне надо,
У Каде закажу торт англез.
Для решенья дальнейших вопросов
Ждет меня на углу площадей
Неизменный мой друг Абрикосов
И шестнадцать его сыновей.
Наберу я всего и помногу,
А вернувшись, начну истреблять.
Приходите ко мне на подмогу
К самовару часов этак в пять.
Вспомним молодость светлую нашу.
И какие же мы дураки,
Что не полную выпили чашу
И знавали минуты тоски,
Что мечтали о призрачном счастье
Посреди ощутительных благ,
И когда были дешевы сласти,
Погружались душою во мрак.
Всё мы вспомним, и всеми зубами
Мертвой хваткой вопьемся мы в торт.
То, что наше, мы скушаем сами,
И того не отнимет сам черт.
Смех сквозь слезы завещала мне моя не готовая к столь жестокому миру тетушка.
43. Дедушкино завещанье
Дедушка Валерий Николаич завещал мне любовь к фольклору, коего был страстным собирателем. Крестьяне прозвали его «простой барин». В русской рубахе с подпояской он не ходил, но как только слышал народные песни, с места не сходил, пока не допоют. Я точно так же намедни в мороз стояла посреди дешевого рынка у Киевского вокзала, пока хохлы не допели на голоса свое хохлацкое. Знаю от матери орловские песни, каких больше нигде не сыщешь. Вот:
Уж как по морю на досточке,
Разломило мои косточки.
Пойду к матушке пожалуюсь,
Скажу – матушка, головушка болит,
Государыня, неможется,
На деревне жить не хочется,
Во деревне молодежь не хорош.
Ты отдай-ко меня, матушка,
Отдай меня во Додурово село,
Во Додурове ребяты хороши,
Во всю улицу танок завели.
И помирать буду, буду помнить, откуда я – я из русской песни.
44. Не ждали
А вот и отец пришел, не в тот день, когда мы его не дождались с рынка, а без малого через три года. Немножко не домаялся – амнистия вышла после смерти Сталина. Когда его спросили, тяжко ли было, сурово ответил: «Посильно». Гляжу теперь через Ветлугу в леса, уходящие на Вятку, и лучше понимаю его строгий нрав. Он пришел богатырем, как и уходил, а лет ему уже было предостаточно. Принес альбом своих карандашных зарисовок из лагеря. Услыхал, как я пою за стеной «Ой, да ты, калинушка» и попросил: «Спой сначала».
Не спущай листы во синё море,
По синю морю корабель плывет,
Как на том корабле три полка солдат.
Офицер молодой Богу молится,
А солдатик часовой домой просится.
О картинах своих не спросил и пошел оформляться на тот же завод.
45. Спаси и сохрани
Через много лет на своей четвертинке дачи в Купавне нашла я в корешке «Робинзона Крузо» пожелтевшую бумажку. Неразборчивым взрослым почерком была написана строка из неизвестной мне молитвы. Дальше детской куричьей лапой приписано: «1938 что бы папу не арестовали Юра». От купавенских соседей знаю, что Юрин отец ареста избег, хоть и знался со всякими такими людьми. Я находила оберточную бумагу с карандашной надписью: «Такому-то имярек от наркома промышленности». Стало быть, Юрино прошенье в небесной канцелярии не затеряли, как сказала бы моя вольнодумка мать.
46. Хоть и поспешный, но удачный выбор
В 16 лет мне было Божие внушенье, чтоб не соваться мне в гуманитарные профессии. Я довольно четко увидала, что на таком поприще мне не миновать изолгаться, чтобы не сказать хуже. И, не долго думая, я бросилась в холодные объятья математики. В свое время прадед, декан химического факультета Московского университета, приказал деду моему получить математическое образованье. Тот не смел ослушаться, но в жизни занимался чем угодно, только не математикой. В частности, писал славные русофильские поэмы:
Улеглась метель, спаслись от смерти верные.
И сказал тогда Иван Петрович Гневошев:
«А не нам казнить, когда Бог милует —
Знать, Он сам велит принять нам тебя, сношенька»,
И все подряд такое же уютное.
Милый дедушка, с которым я в этом мире разминулась во времени! Знал бы он, какое спасенье математическое образованье при советском строе! Какое это убежище, какая экологическая ниша! В самом деле, математика сложна, в ней не всякий научится плавать. Следовательно, это отнюдь не проходной двор. А дурные люди обычно не очень умны – Господь так плохо своих даров не положит. И наконец, мой читатель, согласись со мной – дважды два всегда будет четыре, что при Сталине, что при Гитлере. На многие темы тебе, математику, высказываться не придется – целее будешь. Похоже, не я одна все это увидала молодыми ясными глазами. Сейчас я знаю, что наша мехматская профессура была сплошь дворянской. Начать с Андрея Николаича Колмогорова, нашего декана – он дворянин Тамбовской губернии. И так-то все. Стала я недавно смотреть «Высочайше утвержденный перечень дворянских родов Российской империи» и всех наших профессоров, записанных во младенчестве, там нашла.
Сказано – сделано. На всех парусах влетаю на мехмат. Я никогда не разочаровывалась в своем поспешном выборе профессии, чего никак нельзя сказать о других моих поспешных выборах.
47. И вот нашли большое поле
Это не про поле деятельности, открывшееся мне, а непосредственно про Бородинское поле. Сразу по поступлении в университет нас с пылу с жару послали в колхоз грести сено. Оно сохло вокруг Шевардинского редута. Уже зачисленные, мы с легким сердцем ворошили его, такое душистое. Подымая головы от граблей, видели всякий раз памятник павшим русским, редут оборонявшим, и его визави – обелиск с орлом в честь погибших французов, редут штурмовавших. Бородинское поле было в большей своей части засеяно овсом. Вечерами мы бродили в нем, как стреноженные кони, отыскивая многочисленные памятники, читая надписи и грезя о славе отечества.
48. Магистр математики
Вот как Святослав Рихтер, увы, теперь уже – был – магистром музыки, так вот и Андрей Николаич Колмогоров был магистром математики. Сейчас я читаю лекции по теории вероятностей после тридцати пяти лет нефтяной халтуры. Это перестройка потрясла-потрясла, и хотя бы один шарик попал в свою лунку. И стоит надо мной великий магистр, жует беличьими щеками, держит двумя руками мел возле губ, будто собирается его сейчас сгрызть. При этом говорит какие-то общие вещи, после которых всё в голове выстраивается. Надо сначала увидеть, что собственно здесь должно иметь место, прикинуть свою догадку на частном случае, потом приискивать доказательства своей правоты. Если догадка верна, то и доказательства будут. И благоговенье перед истиной охватывает меня через сорок лет столь же сильно, как в юности. В хорошее дело я встряла!
49. Пока еще все хорошо
В своей новой студенческой жизни я делаю все то же, что умею. Вылезаю на крышу из окна аудитории 1408. Пою в университетском хоре, громко разучиваю партии в перерывах между лекциями. Бегаю в аэродинамической трубе на стройке корпуса механики, как кролик внутри удава. Однако скоро мне придется пасть жертвой хрущевского приема в университет вне конкурса взрослых, уже поработавших людей. Тут бедный кролик побегал недолго. В восемнадцать лет мне предстоит выйти замуж и делать то, чего я делать не умею. Но это уж после целины.
50. Еду на целину
По окончанье первого курса меня взяли работать вожатой в пионерлагерь. Тут вдруг слышу, что наших снаряжают на целину. Пока я доработала смену, они уж были таковы. Я испросила в комсомольском бюро персональную путевку и – туда же за ними. Куда конь с копытом, туда и рак с клешней. Уложила весь багаж в школьный портфель, села без билета на поезд с Казанского вокзала, и поминай как звали. Однако ж в дальних поездах я сроду не ездила. Мне бы сесть в общий вагон, коих в медленном нашем поезде было в преизбытке. Я же попала в спальный. Залезла на третью полку, положила под голову старенький портфель и погрузилась в мечты о восточных пределах нашей евразийской страны. Думала о том, кто были те инородцы, без разбора названные татарами, что подщетинили Ивана Северьяныча. Вернее всего, калмыки. А может быть, мои будущие знакомцы – казахи? И пятки мои заранее чесались.
Тут некто сильной рукой стащил меня за ногу вниз, как меня не раз уже стаскивали на протяжении этой хронологически не вполне упорядоченной книги. Я сунула кондуктору, а это он и был, под нос свою путевку. Кондуктор не взял на себя политической ответственности ссадить меня с поезда, но осуществил привод меня к начальнику его. Тот почесал в затылке и дал команду отвесть меня в общий вагон. Там я и ехала четверо суток. Поезд наш стоял на иных станциях по три часа и более того. Я хлебала горячие щи за столиком прямо на перроне. В Канаше сели к нам чуваши – сплошь в розовых ситцевых рубахах, с групповой путевкой на целину и групповым бесплатным билетом. Я приободрилась и ловко подмешалась к ним, будучи черна, как дочь печенега. Вскоре я выучила ихние чувашские песни и пела, дико вращая глазами:
Шур аталта, шур аталта,
Шапчах юр юрлах.
Долго ли, коротко ли, доехала я до Булаева и не без труда нашла своих. А что я увидела на месте, я от тебя, мой любознательный читатель, не скрою.
51. Места, богом забытые
Наконец-то я обняла своих товарищей. Они, сердешные, жили в бараке на сто человек. Спали на нарах. Потеснились, я вселилась. Посреди барака была печка, на ней сушилось нехитрое тряпье. По балкам бегали крысы, тяжело шмякаясь на нас. Воду для мытья брали из котлована, средь которого плавала дохлая лошадь. Питьевую привозили в бочке. В чистом поле стояла железная печка, на которой мы готовили. Вокруг барака никаких хозяйственных построек не было. Кой-где виднелись совершенно прозрачные березовые перелески под названием «колки», непригодные для уединенья. Ближайший населенный пункт назывался аул Комсомол. В нем было восемь низеньких домов, сложенных из дерна и обмазанных глиной. Они глядели грязными слепыми оконцами на глинистое месиво проезжей дороги. Более – ничего, никаких построек, заборов, насаждений. За всякой нуждой казахи садились на проезжей части, впереди домов, потому что позадь домов глина была жиже, а здесь редкие грузовики ее немного утрамбовали. При этом они из вежливости закрывали полою лицо. Они ничего не варили, но пили трижды в день чай с молоком и хлебом, коего сами не пекли. Овцы их дохли от повального бруцеллеза. Мы копали для них могильник, в который могли бы лечь все павшие воины Тамерлана.
Родители, удрученные моим неподготовленным отъездом, выслали мне почтой кой-какие вещи из скудного нашего дома. Я пошла пешком за посылкой в русское село Успенское, шесть верст от дикого нашего стойбища. Достигнув цели своего путешествия, я едва не обратилась в соляной столп от удивленья. На расстоянье пешего перехода от нас существовал иной мир. Чистенькое село было сложено из светлых бревен. Резные наличники, яркие герани, занавески в оборках. Яблони ложились на крепкие заборы, ломясь от яблок. Гуси гоготали посреди подсыпанной песком улицы. Над колодцами скрипели журавли. Рослый народ шел с поля. Я получила на почте свою посылку, купила в лавке жестких пряников товарищам и пошла назад, думая о том, поверят ли они моему рассказу. Решила слаться на Некрасова:
Горсточку русских сослали
В страшную глушь за раскол,
Волю да землю им дали,
Год незаметно прошел,
и так далее —
Воля и труд человека
Дивные дивы творят.
52. Туфта
Конечно же, мы были там не нужны. С тем объемом работ, что имелся в наличии, отлично справились бы жители аула Комсомол, если бы были дееспособны. Но они весь день предавались чисто восточному созерцанью какой-нибудь дохлой собаки посреди улицы. У них было штук пять комбайнов. То есть работал все время только один – немцев Эрика с Эрной. Сменяя друг друга, они караулили по ночам свой комбайн от разворовыванья на запчасти, потому что казахи давно растрясли от своих машин все гайки. Иногда, собравшись с силами, в поле выходил еще один комбайнер – русский. Он-то и давал нам работу на копнителе, а немцы управлялись сами. Надо было торчать весь день на высоком тряском помосте и лишь изредка нажимать на педаль, выплевывая копёшку. Напрашивается мысль, ужели нельзя было сделать в кабине водителя эту педаль и зеркальце – следить за наполненьем копнителя? Так я в школе работала на зловонном заводе плавленых сыров, отгребая сырки от расфасовочного автомата школьной линейкой. Тогда я задавалась мыслью, почему нельзя в автомате сделать такую отбрасывающую сырки гребенку. У меня все-таки отец инженер с немецким образованьем.
Однако ж скоро и целинных землеустроителей посетила дельная мысль. Лампочка Ильича должна загореться в ауле Комсомол – лучше поздно, чем никогда. Из нас, ста человек, отобрали четверых самых ретивых, и меня в том числе. Мы вели линию электропередач вдоль аула. Не вдруг вырыли мы ямы для столбов, но всё равно больше четырех лопат не наскреблось. Ямы были узкие, в них вели нами же прорубленные ступени. Впечатленье было довольно жуткое, когда лишь голова оставалась на поверхности. И спускаться по тесной земляной лестнице было жутко, будто сходишь в собственную могилу. Потом ставили столбы, громко ухая. Дальше я в кошках лазила на них, натягивая провода – кошки были одни. Наконец, мы вчетвером же резали кирпичи из дерна и строили электростанцию, а попросту говоря клали сарай для движка. Получилось, и даже довольно ровно. Если меня посадят в тюрьму, у меня есть профессия.
53. Позабыт-позаброшен
Иссякла какая ни на есть работа, давно лег снег, а нас забыли и всё не вывозили. Молодой университетский преподаватель, возглавлявший пять-шесть разбросанных вдали друг от друга студенческих отрядов, привез к нам местное партийное начальство, чтобы показать наше бедственное положенье. Кивая пальцем, подозвал он меня, представлявшую собой зрелище наиболее вопиющее. На мне было легкомысленно взятое с собой за неимением куртки подростковое пальтишко. Рукава доходили до локтя, карманы же въехали столь высоко, что тщетно пыталась я спрятать в них обветренные руки. Аксессуары были подстать. Партийный казах посмотрел на меня, и жесткий взор его смягчился состраданьем. Он дал команду выдать нам телогрейки. Так товарищам моим был прок от меня.
54. Общежитие
Вот я уже замужем, как грозилась, вселяюсь в общежитье. Дежурная с этажа требует предъявить свидетельство о браке. Это первый этаж «за кордоном». Остальное все поделено на мужскую и женскую зону, и их друг к другу не пускают. Отец, поставь его, Господи, у престола Твоего, носит мне, вечно голодной, огромные оковалки ветчины. Эту ветчину и его, старого и печального, вспоминаю с нежностью.
Кругом шумит нескончаемый фестиваль. Вот Сирия от кого-то отделилась – во дворе весь день колоритный хоровод в бедуинских головных уборах. Вот полетел в космос Гагарин, из открытых окон двадцатиэтажного общежитья несется дружный крик, мимо нас летят смертоубийственные бутылки. А в соседнем блоке живет настоящий Ротшильд, в буквальном, а не в переносном смысле – из семьи Ротшильдов. Я на него глазею исподтишка.
55. Роддом
Когда родились мои дети, мне велели открыть глаза, посмотреть и сказать вслух, кто у меня родился, чтобы я потом не спрашивала того, чего не было. При этом акушерка трясла надо мной моими бедными малютками, держа их за ноги в двух руках, как цыплят. В тот же вечер у меня сделалась жесточайшая горячка, я впала в бред на много дней, а встала лишь через месяц. Живи я несколько раньше, помереть бы мне родами как пить дать. Мне следовало поставить памятник изобретателю пенициллина, как то сделали испанские торерос. В бреду мне все чудилось, что летит нечто низко над землей и всем высоким срезает головы. Бред сей не лишен правдоподобия.
56. Сказки раннего младенчества
После рождения детей меня, как истинного люмпена, или даже провозвестника хиппи, опекают работницы мусоропровода. Они стирают выброшенный иностранцами шерстяной трикотаж, распускают во время своих дежурств, а потом вяжут моим сыновьям носочки и шапочки. У них своя легенда о моем страшном исхуданье во время горячки: «Вот как извелась над детьми. А такая ли была! Любо-дорого!» Я работаю в университетской библиотеке, чтобы купить детям шерстяные костюмы. Наконец, деньги у меня в руках, я еду в детский мир. Стою на автобусной остановке, и вдруг – о радость! – подходит двухэтажный 111-й автобус. Я влезаю на второй этаж и от восторга при выходе оставляю там кошелек.
Вот мать едет ко мне в обыкновенном 111-м автобусе. А надо вам сказать, что на шпиле университета живет сокол, ему там нравится. И вот за 111-м автобусом летит голубь, преследуемый соколом. Водитель быстро открывает дверь, впускает голубя, но никак не сокола. Голубок поехал, а сокол летел позадь автобуса и клювом бил в стекло.








