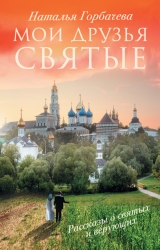
Текст книги "Жизнь - вечная. Рассказы о святых и верующих"
Автор книги: Наталья Горбачева
Жанр:
Религия
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 14 страниц) [доступный отрывок для чтения: 6 страниц]
– Так же и сценарный, – усмехнулась я. – Не сомневаюсь.
– Но на сценарный все же легче… Написал и сразу понятно, есть ли что у человека за душой. А режиссеру целое кино надо снять, прежде чем поймешь, что он за штучка, – улыбнулся он. – Может, удастся проскочить?
– Это из области фантастики…
– Знаете, Наташенька… Послушайте седого волка, какой он приобрел опыт. Когда человек задумал что-то сделать, серьезное… Бывает, у него не получается. Раз не получается, другой, третий… Вот уже и руки опустились. Надо сделать последнее усилие, а кажется – невозможно. И человек отступает, складывает крылышки… Проходит какое-то время, и он понимает, что тогда чуть-чуть не дожал, всего чуть-чуть, поддался панике… И все! Время ушло, – он замолчал, не видя моей реакции. – Ну хорошо, скажу словами философа, если мне не верите. Люблю Сенеку: «Никто не возместит тебе потерянные годы, никто не вернет тебе тебя. Время твоей жизни, однажды начав свой бег, пойдет вперед, не останавливаясь и не возвращаясь вспять».
– Какие хорошие слова, – прорвало меня.
– Дерзайте, дружок! Не останавливайтесь. Не знаю, сколько Господь мне оставил жизни, но пока жив, обязан вам говорить это.
Я чувствовала, какая грусть легла на душу художника: он и верил, и не верил… И совсем не в то, поступлю я или нет, он скорбел о нашем грядущем расставании. Крылов был настоящий учитель жизни в творчестве, у которого, конечно, кошки на душе скребли от того, что оставляет его прилежный ученик. Но: «орлята учатся летать». Выучившись, они должны покинуть родное гнездо. Больше таких искренних и даровитых учителей в моей жизни не было. Во ВГИКе царили совсем другие нравы. Или мне не повезло там с учителями. Но скорее всего Господь судил мне начать взрослеть.
Неудивительно задним числом писать о случившемся с легкой иронией… Но чтобы не соблазнить читателя этой легкостью, свидетельствую: решиться переменить жизнь, оставить друзей, привычное спокойное существование, заладившуюся карьеру, уехать с двумя чемоданами в столицу и без поддержки родных, считавших мою затею блажью, сделаться «свободным художником» – дело крайне трудное, которое не всякому под силу. Без Божьего благословения осуществить этот выход «в безвоздушное пространство» невозможно. Тогда я так не рассуждала. Тогда меня постоянно преследовал образ будто я, сдирая в кровь пальцы, карабкалась вверх по отвесной стене, рискуя упасть и разбиться. Но кровь, которая текла во мне, была казачья… Казаки не сдаются.
Решившись поступать на сценарный, я послала на предварительный конкурс прошлогодние работы, рассуждая так: что есть, то есть. А если нет, то откуда ему взяться за год? Вызов мне снова прислали. Я могла бы еще десять раз посылать и столько же проваливаться. Без везения, как в лотерее, удачи не видать! На сценарном стихов читать не надо было – уже везение. Творческий конкурс проводил Евгений Габрилович, который тогда, как впоследствии выяснилось, работал над сценарием «Сладкой женщины». Мэтр что-то такое во мне учуял и это передалось мне. На экзамене я расслабилась, страх сразу прошел. В течение целого часа мы разговаривали, как давние знакомые на всякие житейские темы. Он выспрашивал: а как бы женщина к такому отнеслась, а как к эдакому, что бы она на это сказал, как бы на то прореагировала. Разве это экзамен? Известный сценарист остался доволен, даже какие-то пометки делал в своем блокнотике, и поставил мне пятерку. Сочинение со страху я тоже написала на пятерку. Последним был экзамен по истории. Школьную историю я знала плохо, а в свете того, что слышала от Феликса и Крылова, вообще учить ее боялась, чтобы мозги не засорять. Я могла ответить на единственный вопрос: раздробленность Древней Руси. Когда я вошла в аудиторию и потными пальцами взяла билет, сердце от страха заколотилось так, что казалось, его стук слышен всем. Я глянула в билет, увидела вопрос: раздробленность Древней Руси и вызвалась отвечать без подготовки, потому что это была тема моей экскурсии. Тогда я думала, как повезло! Теперь знаю: слава Богу за все!
ТАСС уполномочен заявить
Выпускникам сценарного факультета ВГИКа в мое время предоставлялась оплачиваемая стажировка на киностудии. Стажировка давала возможность стабильного существования еще целых два года, в течение которых можно было «запуститься» со своим сценарием и попасть в число действующих кинематографистов. В случае неудачи «свободного художника» ждал мрак неизвестности. Наш курс состоял всего из пятнадцати студентов, но стажировку давали только десяти. И все понимали, что в стажеры наверняка возьмут всех учившихся на нашем курсе детей известных родителей. Простой смертный мог надеяться только на чудо.
Факт, что я получила стажировку. Но с таким же успехом я могла ее не получить. Оказаться в аутсайдерах сразу после окончания ВГИКа в тот раз Бог не попустил. Загвоздка с моей стажировкой была в том, что я «не про то» дипломный сценарий написала. А «не про то» – это вот про что…
Летом после четвертого курса сценарного была предусмотрена преддипломная практика. Каждый должен был выбрать себе тему дипломного сценария и поехать, так сказать, на объект, собирать материал. Почти две трети студентов нашего маленького курса принадлежали к когорте детей известных режиссеров, актеров и писателей; почти все они, двадцатилетние, не сильно задумываясь, отправились искать темы будущего сценария на побережье Черного моря, где как раз снимал свой будущий шедевр режиссер Y. Эти «дети» по праву рождения принадлежали к советской художественной элите, имели представление о таинственной творческой «кухне», их известные фамилии и связи обеспечивали их киношное будущее, а режиссер Y – летнее приключение на съемочной площадке. Преимущество тех, кто не имел богемных родителей, состояло в том, что, будучи старше «везунчиков» и, как правило, имея уже высшее образование, они успели поработать и лучше ориентировались в проблемах обычной жизни. Модная тогда «производственная тема», востребованная в советском кинематографе, была ближе и понятней. Имевшие «первое высшее», напридумывали для своих дипломов сюжеты с производственными конфликтами – чтобы уж наверняка… Про борьбу лучшего с хорошим, смеялись мы над собой в общаге. Всем оплачивали дорогу к «объекту» художественных размышлений. И «немосквичи» за казенный счет разъехались по домам – «думать над сценарием», а лучше сказать, побыть с родственниками, по которым год скучали.
Я так и не побывала в Самарканде и Бухаре: все накопления ухнула в пишущую машинку “Unis”. Подумала: не поехать ли туда на преддипломную практику? Но все же хватило ума не придумывать «производственного конфликта» в братской Узбекской республике. Восток все-таки – дело тонкое.
Захотелось тогда двинуть еще дальше и побывать на Дальнем Востоке. В Хабаровске жила подруга Ася, с которой мы познакомились в Москве, на вступительных экзаменах во ВГИК. Несколько лет мы активно переписывались. Я позвонила Асе. Она восприняла мой приезд на «ура», пригласила к себе пожить и передала от мамы Ирины Васильевны, работавшей на студии кинохроники, большущий привет.
Просмотрев кое-какую литературу, я написала сценарную заявку, связанную с ловлей красной рыбы на Сахалине. Руководители нашей сценарной мастерской заявку одобрили и даже похвалили за то, что я в отличие от остальных действительно собираюсь окунуться в самую гущу жизни… Это была первая похвала за годы учебы во ВГИКе.
Для осуществления чеховской мечты побывать на Сахалине пришлось принять настоящий бой. Бухгалтерия категорически отказывалась оплачивать мою дорогостоящую поездку. «Производственных конфликтов и поближе полно, – внушали мне в бухгалтерии. – На такие-то деньги четырех студентов можно командировать…» Я поняла: глухо! Билеты действительно были дорогими. Цена самолета туда и обратно равнялась полугодовой стипендии…
Откуда явилась мне мысль обратиться в ЦК комсомола, не помню.
Пусть несется весть —
Будут степи цвесть,
Партия велела —
Комсомол ответил: «Есть!»
Организацию под названием ВЛКСМ, которую надо было поддерживать копеечными членскими взносами, я тихо ненавидела за ее ложь. Это еще в те времена, когда даже не догадывалась о том, что первые шесть ее главных секретарей были расстреляны, а последние стали обычными номенклатурщиками. Но и без того чувствовалось, что система комсомольского агитпропа агонизирует и дурно пахнет…
Мое решение обратиться в ЦК комсомола вызвало у наших богемных мальчиков приступ заслуженного негодования. Хорошо было им со своими знаменитыми папами и мамами, а мне надо было пробиваться самой. Я подумала: с худой овцы хоть шерсти клок, хотя подобный компромисс был совсем не в моем характере. В другом случае просто отказалась бы от поездки. Но тогда почему-то не отказалась. И это было благое решение. А благое решения кто внушает? Правильно – ангел хранитель!
О роли ангелов в моей жизни я еще не сильно задумывалась, поэтому долго боролась с собой, поддавшись традиционной гамлетовской рефлексии «To be, or not to be, that is the question». Все же решила: «to be» – и с прошением от ВГИКа пошла по инстанциям. В здании на Старой площади за пару недель обошла несколько кабинетов, в которых за столами сидели приятные молодые люди, которые к моей затее отнеслись с большим вниманием и пониманием. В конце концов я получила подъемные и командировочное удостоверение, подписанное самим товарищем Мишиным В. М., первым секретарем ЦК ВЛКСМ. Этот факт окончательно и бесповоротно убедил многих моих сокурсников, что я именно и есть «настоящая Горбачева», родственница недавно ставшего Генсеком Михаила Сергеевича. Тогда, по их мнению, все объяснялось: каким образом после провинциального мехмата я попала во ВГИК, да еще сразу на второй курс, а потом перевелась с заочного на очный, что равносильно новому поступлению или невозможной удаче для обычного человека. Переводы во ВГИКе – вещь экзотическая. И еще – дружила с Паолой, которая даже в общагу ко мне в гости приходила, а она просто так ни с кем дружить не станет. И вообще – я ничего не боялась…
Насчет «ничего не боялась» – вроде не замечала за собой, но сокурсники, стало быть, замечали. Пришлось задуматься. И я нашла ответ.
– С Дону выдачи нет, слышал? – сказала я как-то самому славному из наших богемных. – Донские казаки не возвращали беглых холопов, и те становились свободными. И крепостного права на Дону не было, рабства то есть. Свободные люди жили. Я – донская казачка, если что…
– Ясно дело, если Горбачева.
– Горбачев из Ставропольского края. Не знаю, какой он там казак, а мой дед казак донской. Он был директором конзавода, в Сальских степях, слышал о таких? Его сам Буденный назначил.
– Ну! – воскликнул богемный. – ЧТД, как ты говоришь, – что и требовалось доказать. Связь установлена. Будешь ты у нас, Горбачева, в Госкино важной птицей.
И я заметила, что в отношениях «богемных» ко мне наступила некая оттепель. Наша сценарная мастерская негласно была поделена на «общежитских» и «домашних» – и на досуге ни мы – к ним, ни они – к нам не захаживали. Даже в институте особого общения не наблюдалось. Действительно, о чем было говорить людям из разных – хоть и советских – слоев общества? В течение четырех лет я, признаюсь, белой завистью тайно завидовала нашим богемным мальчикам и девочкам. Если бы я, как они, могла с младых ногтей общаться со вхожими в их семейства великими режиссерами, композиторами, музыкантами, поэтами, писателями, артистами… Я бы… Мне бы… У меня бы… Глядя на богемных, я с тоской думала – никогда мне не пробиться в этот их мир кино, нет во мне чего-то такого… Нет связей, нет тыла, нет талантища, который мог бы сам за себя постоять… Что я вообще делаю во ВГИКе? Зачем я сломала себе жизнь? Господи!? Где Ты? Хрупкой моей соломинкой оставалась лишь совсем недавно вживленная в душу вера. В Евангелии, впервые прочитанном, более всего поразили меня слова Христа: «Не бойся, малое стадо! Ибо Отец ваш благоволил дать вам Царство»[12 – Лук. 12:32.] и другие, подающие надежду: «В мире будете иметь скорбь; но мужайтесь: Я победил мир».[13 – Иоан. 16:33.]
Когда поняла, что «богемные» уверены, что я «настоящая Горбачева», белая зависть вмиг испарилась – раз и навсегда. Грустно стало, что у будущих сценаристов, у этой киноэлиты так примитивно просты взгляды на жизнь: ты – мне, я – тебе. Вероятно, оттого, что ничего серьезного преодолеть им не давали – тепличные ведь растения. О чем же они тогда будут рассказывать людям в своих сценариях, удивлялась я? Говорить наши богемные мальчики и девочки были горазды, не отнимешь. Сколько спорили мы про «гамбургский счет» в искусстве. Это, когда все по-честному. Каждый, конечно, мечтал, чтобы его произведение «на пять» оценивали именно профессионалы. Иначе и писать не стоит. У нас даже поговорка была: «Если можешь не писать – не пиши!»
…Я прилетела в Хабаровск, поселилась у своей подруги Аси и прикомандировалась к студии кинохроники. Но это так, номинально. В действительности мне предоставили полную свободу действий. Неделя ушла на то, чтобы привыкнуть к семичасовой разнице во времени.
Потрясла меня природа. Амур-река простиралась в ширину почти на два километра. С хабаровской набережной еле просматривался другой берег. Целое море. Стихия. И закаты были – совершенные шедевры по масштабной игре цвета и света, невозможно оторваться. Подобного я не видела нигде. Китайская граница в двадцати пяти километрах. Тоже стихия. Сам же город, находящийся за несколько тысяч километров от Центральной России, обликом напоминал любой среднестатистический советский полумиллионник. Древностей в городе не обнаружила, ему и было-то чуть больше ста лет. Зато главная площадь имени Ленина была по размерам сравнима с Красной. Нашла памятник генерал-губернатору Восточной Сибири Н. Н. Муравьеву, В. И. Ленину и Ерофею Хабарову, землепроходцу семнадцатого века, прошлась по «Амурскому чуду» – трехкилометровому мосту через Амур с дугами огромных пролетов, который был открыт за год до Великой Октябрьской… Каким образом его смогли построить в то время? Может, про мост что-то придумать? В голове у меня зашевелился совсем еще голый сюжетец, о котором решила порассуждать с Асей и ее мамой. Они жили на разных квартирах, но иногда мы вместе собирались «на чай» у Аси. Ирина Васильевна, всегда пахнувшая хорошими духами, бодрая, веселая, улыбчивая, входя в квартиру Аси – обязательно с тортом, начинала разговоры прямо с порога.
– Интереснейшая тема, – одобрила она, снимая в прихожей туфли на шпильках. – Да-да-да! Мост по величине занимал первое место во всем Старом Свете, построен за три года, стоит до сих пор. Благодаря этому чуду техники в 1916 году было наконец открыто сквозное движение по Великому сибирскому пути Петроград—Хабаровск—Владивосток. Исключительно по русской земле, минуя Маньчжурию. Мост замыкал Транссибирскую магистраль по территории России. Это был один из сотни масштабных проектов предреволюционных лет, стоимость которых исчислялась десятком миллионов царских рублей… Успехи России кому-то очень не нравились.
– Кому же, кому? – насторожилось я.
Кому зима – арак и пунш голубоглазый,
Кому – душистое с корицею вино,
Кому – жестоких звезд соленые приказы
В избушку дымную перенести дано.
Немного теплого куриного помета
И бестолкового овечьего тепла;
Я все отдам за жизнь – мне так нужна забота —
И спичка серная меня б согреть могла…
Вместо ответа Ирина Васильевна продекламировала стих и спросила:
– Кто написал, знаешь?
– Нет, – ответила я.
– Мандельштам, подруга, – усмехнулась Ася. – А знаешь, как амурский мост назывался до революции? Алексеевский. В честь наследника цесаревича Алексея Николаевича.
– Какого… какого царя наследника? – переспросила я.
Ирина Васильевна и Ася многозначительно переглянулись. Обе закончили исторический факультет.
– Наследника последнего русского царя Николая II. Большевики его любили Николашкой величать… – развела руками Ирина Васильевна. – Как сказано в известном фильме: «Потом пришел гегемон, и все пошло прахом…» И «Николашку» с семьей расстреляли без суда и следствия, знаешь?
– Что-то такое слышала, – пробормотала я.
Меня бросило в жар. Наверное, я сделалась красной как рак от стыда за свое невежество. В годы советского застоя понятие стыда было еще ходовым.
– Во ВГИКе про царей не учат, – сказала Ася.
– Понятное дело, – засмеялась Ирина Васильевна. – Идеологический вуз. Там готовят преданных советскому «кину» людей. Как говорил вождь мирового пролетариата, из всех искусств для нас важнейшим является кино. Вино и домино.
– Противно бывает, очень, – согласилась я. – У нас каждое мастерство начинается политинформацией. Наша Капа толкает про постановления партии и правительства. Час тоски, а потом пять часов разговоров про то, как писать сценарий. Кому-то нравится так, кому-то эдак… А судьи кто?
– Твоей Капе очень понравилась бы тема, как «Николашка» Россию развалил, – вдруг усмехнулась Ирина Васильевна. – Ну что, будем писать про Амурское чудо?
– Понимаете, Ирина Васильевна, мне не хватает знаний… – стала оправдываться я. – Вот проучились мы четыре года, а результат? Никаких знаний. Что мы «проходили» и «пробегали»? Русскую и зарубежную литературу с теорией, ИЗО – историю изобразительного искусства, историю кино… А саму историю? Никому не нужно!
– Именно, – согласилась Ирина Васильевна. – Манкуртами легко манипулировать.
– И потом… Вот я думаю: если человеку не о чем сказать, что он может родить, хоть он триста раз теорию литературы на пятерку сдаст?
– Тут не переживай, – сказала Ирина Васильевна. – Человек сначала белый лист, а потом начинает набираться жизненного опыта. Уж какой наберет, извините! – развела она руками. Это был ее любимый жест.
– Слушай, Натуля, не гневи Бога! – возмутилась Ася, которая так и не поступила во ВГИК. – Где бы ты посмотрела столько фильмов, которые наш зритель никогда не увидит! Сколько раз ты ездила в Белые Столбы?
– В психушку? – переспросила я, вспомнив о Феликсе. Когда Крылов крестился в Православие, он перестал ходить к нему.
– Ты прекрасно знаешь, что имею в виду Госфильмофонд…
– Вот ведь рассадник… – вздохнула Ирина Васильевна. – Окунулась Натуля в «шыдэвры» загнивающего Запада. «Восемь с половиной» смотрела?
– Несколько раз… – осторожно сказала я. – Не нравится, я не понимаю…
– Я понимаю так… – улыбнулась Ирина Васильевна. – Грандиозная киношная мистификация. Но какая-то бессмысленная: выход из творческого тупика для Феллини – банальное самоубийство героя… Не умно и не весело, несмотря на итоговый карнавал.
– Пир во время чумы, по-моему, – подхватила Ася. – Феллини ставит себя в положение героя фильма, режиссера, который не может сделать фильма о спасении после ядерной катастрофы. И называет это творческим кризисом. Итальянцы хоть понимают, что такое ядерная война? Мы здесь про Хиросиму и Нагасаки много знаем. Не дай Бог! И чтобы кто-то, хоть бы и сам Феллини, над этим насмехался и капустник устраивал… Как он может! Это кощунство.
Ирина Васильевна одобрительно кивнула дочери и спросила у меня:
– А что тебе, Натуля, нравится?
– Например… «На последнем дыхании»… – ответила я.
– Ну конечно! Молодой Бельмондо такой обаятельный… Не важно, что преступник, что со своей девкой машины угоняет. Он так играет, чертяка, что вызывают сочувствие и желание подражать… Общество их не понимает, бедные… Лишние люди… Печорин и княжна Мэри. Не убий, не укради – это не для таких веселых и находчивых… Ложно понятая свобода, Натуля!
– Зато у нас цензура и партийные худсоветы, – зло ответила я.
– И славно! Настоящему художнику цензура не помеха.
– Не поняла… Что-то новенькое, – я замотала головой. – Может, чаю попить?
– Чаю – попить! Ась, организуй… – попросила Ирина Васильевна. – Видишь ли, Натуля… Рожденный писать – не писать не может. По опыту знаю: если графомана долго и нещадно пороть, он в конце концов свое графоманство оставит. Не так с писателем. Трудности его только закаляют, как сталь. Ты разве не знаешь, что классическая русская литература процвела не вопреки, а благодаря цензуре. Пушкин и Лермонтов даже побывали в ссылке за свое писательство. Неистовый и ужасный Салтыков-Щедрин в три погибели сгибался, когда шел в кабинет цензора с очередным номером «Отечественных записок». Достоевский имел неразрешимые проблемы с «монастырскими» эпизодами в «Братьях Карамазовых». А уж какая была сталинская цензура… Чуть что не так – лагерь. От писателей требовали абсолютной политической благонадежности. И что же? Вот имена: Булгаков, Зощенко, Платонов, Бабель, Эренбург, Олеша, Пильняк, Цветаева, Ахматова, Грин, Алексей Толстой, Замятин, наконец.
– Пугаете меня…
– Да, да… Страдание – залог вдохновенных творений искусства. Кончается цензура – кончается литература.
– Мама, успокойся, а то Натуля уйдет из сценаристов, – вмешалась Ася.
– Если графоманка, то уйдет обязательно, – согласилась Ирина Васильевна. – Это вообще тяжкий труд – писать. Писатель не должен разменивать свой талант на голое политическое противостояние. Чехов уверял, что может написать рассказ о чем угодно – о чернильнице, на которую упал взгляд… И люди будут замирать от восхищения! Писатель вообще должен сеять только разумное, доброе, вечное…
– Я никогда не думала…
– Подумай, Натуля! – перебила Ирина Васильевна. – Всегда думай, о чем пишешь. Кто соблазнит одного из малых сих, тому лучше и не родиться. К писателю это тоже относится…
Ася позвала нас на кухню попить чайку с дефицитными «Раковыми шейками». Градус разговора сразу снизился.
Мне трудно было возражать Ирине Васильевне. Я даже не всех перечисленных ею писателей читала, о трагической судьбе некоторых понятия не имела. «Мастера и Марагариту» прочла в Самиздате. Пародия на советскую действительность – гениальная, но про Иешуа Га-Ноцри не очень поняла… Как шептались, Булгаков вывел под этим именем самого Иисуса Христа. Я задумалась о том, что невозможно изобразить Бога, как Михаил Афанасьевич не побоялся?.. По существу же добавить ничего не могла: Новый Завет тайком я прочла лишь раз. Мне очень хотелось поговорить на эту тему с Ириной Васильевной, но даже не знала, как и какой задать вопрос. Неудивительно: наша встреча с ней произошла за несколько лет до того, как возвратились к читателю и увидели свет «Котлован» и «Чевенгур», «Реквием» Ахматовой, «Доктор Живаго» Пастернака и многое еще из запрещенной десятилетия литературы. Еще даже не начинали массово печатать литературу религиозную.
Множество вопросов роились в голове.
– Если бы вы, Ирина Васильевна, были нашим мастером на сценарном… – вздохнула я с сожалением. – Как было бы здорово! Как все у нас ожило бы!
– Что ты, Натуля! – воскликнула Ася. – Мама не выездная. Ее из университета попросили, когда узнали, что она дочь репрессированных.
Впервые я увидела «дочь репрессированных». Вот, оказывается, кого репрессировали – «ум, честь и совесть нашей эпохи». Я даже дар речи потеряла.
– Ненавижу, – с нажимом произнесла я.
Ирина Васильевна в недоумении переглянулась с Асей и осторожно спросила:
– Ты… про меня?
– Про Капу, начальницу нашей сценарной мастерской. Сама ни одного сценария не написала, а учит… Только и может политинформации в мозг вдалбливать…
– Нет, Натуля, ненависть – дело злое, не опускайся до этого. Жалеть надо. Она и так прославилась. Галич какую бесславную рифму на нее накатал!
Ирина Васильевна с Асей поднялись со стульев, встали в позу и как заправские артистки весело пропели всю песню, посвященную гражданке Парамоновой:
В общем, ладно, прихожу на собрание,
А дело было, как сейчас помню, первого,
Я, конечно, бюллетень взял заранее
И бумажку из диспансера нервного.
А Парамонова, гляжу, в новом шарфике,
А как увидела меня, вся стала красная,
У них первый был вопрос – свободу Африке! —
А потом уж про меня – в части «разное».
– Неужели это правда про нее? – вздохнула я. – Как у такой можно учиться, чему? Что я делаю в этом ВГИКе? Только время теряю!
– Натуля, да Бог с тобой! – воскликнула Ирина Васильевна и снова спела дуэтом с дочерью.
Ничто на Земле не проходит бесследно.
И юность ушедшая все же бессмертна.
Как молоды мы были,
Как молоды мы были,
Как искренне любили,
Как верили в себя!
Потом мы выпили по рюмочке, и мое настроение вроде выровнялось.
– Ты не переживай! – похлопала по моему плечу Ирина Васильевна. – Папа Римский сказал, что советские фильмы хороши тем, что: а) не несут никакой революционной идеи и б) почти все добрые. Вот, давай в этом же духе!
– Про папу-то откуда знаете?
– «Узнаю я их по голосам, звонких повелителей мгновенья», – пропела Ася.
– Голос Америки, что ли? – спросила я.
– А как же, – улыбнулась Ирина Васильевна. – Я учила историю. Она повторяется. Или лучше так: ничего нет нового под луной. Вам повезло жить в культурной столице нашей необъятной родины. А нам, знаете ли, на краю земли культурные новости самим добывать приходится. И вот что… Пока еще наши фильмы добрые, но скоро лавочка прикроется. Будет «Все на продажу!», как подметил великий Анджей Вайда. И любой бездарь сможет оправдаться: я так вижу, я так понимаю…
– Не будет у нас такого никогда! – возразила я.
– Все проходит, и это тоже пройдет, – улыбнулась Ирина Васильевна.
Ирина Васильевна как в воду глядела. Во ВГИКе трудно было определить, каков размер и качество наших талантов. Некоторые всю жизнь доказывают, на что способны. Перестройка мощным катализатором таланты проявила. Почти все наши богемные оказались в нужном месте в нужный час, как комсомольские вожаки. Быстро выяснилось, что многие из них под гамбургским счетом подразумевали все-таки лицевой счет… в Гамбургском банке. Один из наших богемных придумал умопомрачительный слоган «Не тормози – сникерсни» и стал мэтром рекламы. Другие замутили бесцензурную «чернуху» и «порнуху» на экране… Сначала, может, было и стыдно. Но потом, встав на ноги и почувствовав запах, силу и власть денег, они справились с этим рудиментом морали… И давай соблазнять всех подряд!
– И что самое ужасное… – уныло сказала я, – наша Капа внушает детям: вы гении, гении, гении! Тоже соблазняет. Они и рады! Я до ВГИКа мехмат окончила, там не поболтаешь, как на сценарном, задачки надо решать, а для этого матчасть зубрить.
– Ну вот тебе и карты в руки! – воскликнула Ирина Васильевна. – Надо тебя отправить на Сахалин, там посмотришь, как красную рыбу ловят, и напишешь про то, что увидишь. Не тридцать седьмой год, не расстреляют. Знаешь про тридцать седьмой?
– Ну так… слышала, – ответила я. – Слышала от умных людей. Это правда?
– Правда, образованщина ты наша… Читала Солженицына?
– «Ивана Денисовича»… В «Новом мире» печатали. Сильно, конечно…
– Слава Богу, хоть так. Если напишешь талантливо, Натуля, найдется режиссер, обязательно, – улыбнулась Ирина Васильевна. – Тема, я тебе скажу, пионерская. Пионер означает что?
– «Тверже ногу. Четче шаг. Юных ленинцев отряд!» – засмеялась я.
– Фи, как по́шло. Пионер от французского pionnier, – с прононсом произнесла она, – первопроходец.
– Мам… На что ты ее подбиваешь! – вступила подруга. – Не морочь девочке голову. И как она на Сахалин попадет? У нее нет пропуска, это закрытая зона, забыла?
– Подумаем, – ответила Ирина Васильевна. – Безвыходных ситуаций не бывает.
– Натуля, попала! – вздохнула Ася.
– Не понимаю твоего скепсиса! – вскочила из кресла Ирина Васильевна. – Человек почти восемь тысяч верст отмахал, а до края земли не доедет! Обидно же!
– Пропуск надо было в Москве заказывать, поезд ушел! – воскликнула Ася.
– Летайте самолетами Аэрофлота! – с загадочным лицом потерла ладони Ирина Васильевна. – Мы Натулю пока во Владик отправим. К ежовой группе прикрепим. Пусть отдохнет…
Но именно теперь мне никуда не хотелось ехать. Потому что у Аси и Ирины Васильевны была целая библиотека дореволюционных и самиздатовских книг – лежали себе в шкафу и ничего не боялись. Бывает же такое! А я привыкла думать, что за такой «рассадник нелегальщины» могут посадить. Невозможно было прочесть и малую часть библиотеки, но хотя бы поговорить по душам с настоящим историком – для меня это было важнее просмотра самого что ни на есть «закрытого» фильма в Доме кино…
И начались наши «исторические вечера». Особенно хотелось почему-то узнать про русских царей. Про гегемона уже знали. Какими наши цари были в действительности – со всеми их венценосными достоинствами и недостатками, карикатурно раздутыми коммунистической пропагандой. Советская школа нарисовала в моей голове образ царя примерно таким: самодур, хорошо, если не жестокий, любитель балов и красивых женщин, душитель свободы, вообще – черная дыра… А если так, то и призыв Ленина – каждой кухарке научиться управлять государством – не кажется таким уж бредовым. Как в этом мире все связано и завязано… Если неправильно подумаешь тут, неправильный вывод сделаешь там, неправильно поступишь здесь, неправильно научишь другого, неправильно поймешь чью-то мысль… А если это ежедневно? Страшно! Надо было приехать на Дальний Восток, чтобы чуть ли не физически почувствовать незнакомый страх… А если мы вообще не так живем? Стоило ли ехать за восемь тысяч километров, чтобы потерять душевный покой?
– Не выйдет из меня ничего. В голове пусто и бесперспективно, – однажды сказала я с отчаянием за традиционным вечерним чаем.
– Да Бог с тобой, Натуля! – спокойно отреагировала Ирина Васильевна и ласково посмотрела мне в глаза.
– Я не понимаю теперь вообще, как жить дальше!
– Очень просто: день за днем, день за днем… У тебя совесть есть?
– У меня? – переспросила я. – Не знаю…
– Мам, ну что ты такое говоришь! – воскликнула, защищая меня, Ася. – Есть у нее совесть!
– Ну… – рассмеялась Ирина Васильевна. – Тогда все в порядке, дорогие мои, любимые девчонки, – и крепко обняла нас.
И спела песню Окуджавы:
Совесть, Благородство и Достоинство —
вот оно, святое наше воинство.
Протяни ему свою ладонь,
за него не страшно и в огонь.
Лик его высок и удивителен.
Посвяти ему свой краткий век.
Может, и не станешь победителем,
но зато умрешь как человек.
Нет, она спела какую-то другую песню, потому что эта тогда была еще не написана… Мы с Асей все равно поняли: совесть должна стать главным цензором нашей жизни. Ирина Васильевна говорила что-то и про веру в Бога, но мы тогда в этом вопросе были первоклашками. На нас больше пока воздействовала литература художественная, говорившая о расплывчатом разумном, добром и вечном. Это был необходимый этап. Потом только, напитавшись словесным молоком литературы художественной, приступила я к твердой духовной пище – писаниям святых отцов. Все они были согласны в том, что совесть – естественный нравственный закон, вложенный Богом в сердце человека при творении. Но если человек не живет по заповедям Божиим, не испытывает и не очищает в покаянии своей совести, сохранить ее не сможет. И тогда совесть перестает быть благим цензором. Но это отдельная тема…








