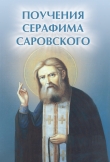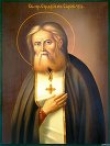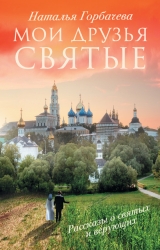
Текст книги "Мои друзья святые. Рассказы о святых и верующих"
Автор книги: Наталья Горбачева
Жанры:
Современная проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 12 страниц) [доступный отрывок для чтения: 5 страниц]
«Хорошие у вас друзья, святые…»
Ближе к концу работы над составлением книги о преподобном Серафиме Саровском мой издатель МихАбр потребовал назвать имя следующего святого, о ком предстояло мне писать в серии «Великие пророки». Об этом я и не задумывалась: про батюшку Серафима дописать бы. Но МихАбра не объедешь: пристал с ножом к горлу, мол, срочно говори, кто следующий, в план надо вставлять… Или смерть, примерно так… Не понимал МихАбр, что святого просто так «в план» не вставишь, его изволение на это должно быть.
Позвонила я своей знакомой художнице Татьяне Терентьевне, чтобы посоветоваться.
– Ума не приложу, про кого дальше писать, – пожаловалась я ей. – Вот скажи мне, как из тысяч святых выбрать правильного?
– Задачка… А ты про Ксению Петербургскую знаешь? – спросила она.
– Что-то такое слышала. Ее на Тысячелетие Крещения Руси, кажется, канонизировали.
– Да, в 1988 году. Именно тогда она мне очень помогла.
– Правда? – удивилась я. – Терентьевна! Почему же ты мне ничего не рассказывала?
– Я рассказывала, ты забыла, – сказала она. – А может, не поверила. Или неинтересно было. Я плохая рассказчица.
– Тогда давай снова рассказывай!
И Татьяна Терентьевна поведала мне такую историю.
В то время она работала учительницей рисования в школе, был у нее муж – каких-то «голубых кровей», но с замашками весьма неблагородными. Застала она его однажды в своем же доме с любовницей. Любила Татьяна Терентьевна своего мужа безумно – стихи даже ему писала, поэтому, может, измены перенести не смогла, – супружескую кровать на следующий же день вынесла на помойку. Поступок, конечно, самый решительный: спать теперь можно было только на полу. Муж объявил ее сумасшедшей и после четверти века совместной жизни ушел к своей пассии. В это же буквально время их дочь Ирину постигла та же самая участь: муж бросил ее с двумя погодками сыновьями-младенцами. Ирина от мужниного предательства заболела нервами так, что ухаживать за детьми не могла. Забота о семействе легла исключительно на Татьяну Терентьевну. В первое время приходилось даже возить на работу коляску с младенцами. Трудно рассказать, что пришлось пережить бабушке. Дело было до Перестройки. После нее положение семейства еще более ухудшилось. Иногда не было денег даже на молоко. Дети росли, требовали новых забот и внимания, материального обеспечения. Ирина мало-помалу впала в жестокую депрессию. Она почти перестала есть, много курила, никуда из дома не выходила, лечиться не желала. Молодая бабушка разрывалась между школой, внуками и больной дочерью. На нервной почве у нее появилась сначала сильная экзема, потом стали проявляться и другие внутренние болезни – целый букет. Вот тут она и обратилась к вере, стала преданным Христу человеком, но сил уже не было ни на молитву, ни на хождение в храм. Бывшие друзья и подруги отошли от несчастного семейства. Ситуация, к слову сказать, типичная для новейшего времени… Внуки-мальчишки, прожив в таких условиях почти десятилетие, приобрели весьма неуравновешенные характеры. По временам стал появляться в доме их отец, но своим поведением вносил лишь дополнительную смуту. Он приходил и уходил, не чувствуя за собой никакой ответственности за жизнь сыновей и жены. Жили как на вулкане. Татьяна Терентьевна целыми ночами лежала без сна и без сил, а утром – снова на работу…
– И вот, представь, – тяжело вздохнула она в трубку. – Однажды легла я спать после очередного никчемного ни с Богом, ни для Бога мучительного дня, в суете кромешной проведенного, безо всякой надежды на лучшее. Нет терпения, нет смирения, нет сил нести дальше свой крест, думала я. Но надо что-то делать. Надо заставить себя двигаться, общаться с людьми, одеться поприличнее, покрасить волосы, ставшие совершенно седыми, сделать короткую стрижку. И вдруг я услышала:
– Не стриги волосы, больше никогда не надо стричь волосы.
– Но я терпеть не могу длинные волосы. Они мне мешают, – не соглашалась я.
– Не стриги волосы, поезжай к иконе.
– К какой иконе? Я никуда не поеду. Нет денег, нет сил.
– К иконе с косой. Там и мощи.
– С косой? К святой мученице Татиане? – подумалось мне, ведь мое имя Татьяна.
– Нет, к иконе рядом с Иоанном Кронштадтским.
– К Ксении? Разве я могу добраться к Ксении – из Москвы в Питер? И что там?
Я открыла глаза, услышала, как мирно посапывают во сне мои внуки, и подумала: «Интересно: и сон, и не сон. Но все это не для меня». Через два дня мне утром позвонили: «Приезжайте за деньгами. Ваша сестра переслала вам из Швеции немного денег». Моя сестра эмигрировала в Швецию, сама там едва сводила концы с концами, хоть и редко, но присылала мне кроны, которые надо было еще как-то менять. Я от неожиданности не поняла, куда надо приезжать за деньгами – в посольство, на чью-то квартиру? Вечером снова позвонили и тот же незнакомый голос сказал: «Есть одно место в автобус на экскурсию в Псков через Санкт-Петербург. Отъезд послезавтра. Сразу же получите деньги».
К автобусу пришел шведского вида мужчина, с акцентом сказал несколько предложений – будто передал звуковое письмо от сестры, вручил деньги и исчез. Я села в автобус: денег было ровно столько, сколько стоила поездка. Всю ночь тряслись в очень неудобном автобусе в Петербург. На экскурсии по Питеру с группой я не поехала, а стала пробираться на Смоленское кладбище. Язык до Киева доведет. И вот шла я уже по аллее кладбища, увидела храм, как оказалось, Смоленской Божией Матери, зашла. Начиналась литургия. Встала я в уголке, в правом приделе. И вдруг взглянула на икону праведного Иоанна Кронштадтского. Тут-то вспомнила свой непонятный ночной диалог с незнакомым женским голосом. Повернула голову и увидела «Ксению с косой». То был дивный, исполненный сострадания аналойный образ святой. Я приложилась к нему, потекли слезы. Было мне так плохо, что, отойдя в сторонку, я ни с того, ни сего зарыдала. Меня спрашивали, что случилось. А я только махала руками, отстаньте! Помогли мне выйти из храма на улицу. Тут же кто-то подарил мне маленькую иконку-листочек «Ксении с косой». После литургии я пошла к часовне блаженной Ксении Петербургской. Неподалеку от часовни стоял киоск, в котором торговали открытками с видами святого места. Я долго не решалась ничего купить. Вдруг, выбрав меня из всех стоявших около киоска, продавщица протянула листок, на котором были напечатаны тропарь, величание и молитва ко святой Ксении Блаженной. До того момента я не знала, как принято ей молиться.
– Сколько? – спросила я, имея в виду, сколько заплатить.
– Обойди, читая тропарь и молитву три раза вокруг часовни, а потом проси, в чем имеешь нужду, – ответила женщина, не взяв с меня денег.
Вот, оказывается, ради чего я приехала сюда, пересчитывая последние копейки и не решаясь отдать последние. Вот ради чего под проливным дождем, промокшая, замерзшая, в худых сапогах, оставила я туристический автобус, отстояла службу в Смоленском храме, затем в часовне, а потом, так и не отогревшись – еще полчаса около киоска! По совету продавщицы, три раза с величанием и тропарем обошла я вокруг часовни и по прочтении молитвы припала к ее стене, обливая горючими слезами, умоляла блаженную предстательствовать за меня пред Всемилостивым Господом. Сколько продолжалась эта молитва – не знаю, только опомнилась я, когда уже стало темнеть. Автобус, ждавший туристов у Витебского вокзала, я нашла чудом, как будто кто-то проводил до него.
Через два дня, по приезде в Москву, дочь моя, лежавшая в депрессии три года, впервые надела пальто и вышла на улицу. Я организовала ту самую художественную школу, в которой мы встретились, помнишь? – закончила свой рассказ Татьяна Терентьевна.
– Это когда сюжет про тебя снимала? Интересно… – удивилась я. – Нет, ты мне ничего такого не рассказывала. Ни в кино, ни в разговоре.
– Да? – в свою очередь удивилась она. – Знаешь, почему, может, не рассказывала? Сама долго не верила, что улучшение было по молитве к Ксении. Наверно, целых полгода. Да и жизнь колесом крутилась. Но потом стала думать: ведь все как с неба упало. Представляешь? Вдруг выделили комнату в школе, которую сколько времени не хотели давать, ученики набежали. Иринка тоже на подработку устроилась… В общем жизнь разделилась: до поездки к Ксении и после. Как черное и белое. А уж мелких чудес – не счесть. Молюсь ей всегда. Так что дарю тебе первую историю…
– Так думаешь, про нее писать? – не совсем уверенно спросила я.
– Зачем думать? Помолись. Она и пошлет знак какой-нибудь.
– Точно… – осенило меня, чувствуя, что состоявшийся случайный разговор с художницей совсем не случайный.
Вечером я вдруг наткнулась взглядом на давно купленный, но забытый акафист блаженной Ксении Петербургской, лежавший сверху книжной полки. Прочла я его и стала прислушиваться к себе, склонилось ли куда-то сердце, по слову преподобных Варсонофия Великого и Иоанна: «Когда не можешь спросить своего старца, то надо трижды помолиться о всяком деле. При этом, если имеешь свободное время, помолись три раза в течение трех дней. Если же случится крайняя надобность, как во время предания Спасителя, то прими в образец, что Он отходил трижды от молитвы, и, молясь, трижды произносил одни и те же слова. После окончания молитв смотри, куда преклонилось сердце хотя на волос, так и поступи, ибо извещение бывает заметно и всячески понятно сердцу. Если же после третьей молитвы не получишь извещения, то знай, что ты сам виноват в том; и если не познаешь своего согрешения, укори себя, и Бог помилует тебя». Пока мое сердце ни к чему не склонялось.
Решила я тогда три вечера подряд читать акафист блаженной Ксении, МихАбру же имени не называть, даже если опять с ножом к горлу пристанет. На удивление, он на эти три дня обо мне напрочь забыл. В третий вечер стало мне немного не по себе перед прочтением акафиста – а ну, если не получу извещения? Как сказано, сама буду в этом виновата. Очень ответственный был третий вечер. Прочла я акафист, помолилась блаженной, чтобы как-то явила она свое согласие или несогласие… Но ничего такого не происходило. Грустно, конечно… Прочитав молитвы на сон грядущим укорила себя, как советовали преподобные Варсонофий и Иоанн, что не познала своего согрешения, с тем и уснула.
Утром я проснулась с ясной мыслью: «следующая в плане», несомненно, Ксения Петербургская. И сколько бы за день я ту мысль не гнала, не то что волосок, целый канат опять возвращал меня к ней. Я позвонила МихАбру и дала ответ.
– И кто дальше, думай, – строго сказал он. – Если ты не догадываешься, летая в своих эмпиреях, скажу: издательство – это плановое хозяйство…
– Так блаженная же Ксения дальше…
– Ясно, что Ксения. За ней кто? Наталья, не зли меня!
– Про нее сначала написать бы… – робко ответила я.
– Твои проблемы, – отрезал МихАбр. – Через неделю лично мне сообщишь, кто следующий…
Так внезапно, в одну секунду, ошеломить и озадачить меня мог только один человек – МихАбр… К тому приходилось приспосабливаться: сначала стараться не обращать внимания, потом привыкнуть, дальше – действовать, желательно с попаданием в яблочко или хотя бы в восьмерочку… И наконец, смириться. В то время мне, кажется, удалось приподняться на третью ступеньку. «Смириться» маячило еще где-то далеко впереди. Смириться в моем случае означало – без всякой рефлексии принять слова МихАбра за волю Божию, которая «ими же веси судьбами» направляет данный человеку от Бога талант к общей пользе. Я признавала, что МихАбр на том отрезке писательского пути был для меня орудием Промысла Божия. Но думалось с тоской об одном: когда же кончатся шипы, где эти самые благоухающие розы успеха?
Составила я всего одну книгу про святых – про преподобного Серафима, но с этой первой книги сразу стала складываться традиция – перед началом работы ехать к мощам того святого, про которого собиралась писать. Преподобный Серафим подтолкнул, а блаженная Ксения эту традицию закрепила…
Я еще раздумывала, ехать или не ехать в Питер. Времени на книгу было дадено уже не полтора, а целых два месяца – прогресс. Но препятствие оказалось совершенно в другом. Если про преподобного Серафима литературы было достаточно, чтобы составить популярный двухсотстраничный текст, то про блаженную Ксению существовало лишь небольшое и единственное житие с описанием чудес. Кто его составлял – неведомо, но появилось оно к моменту канонизации блаженной и было признано каноническим. Некоторые неясности этого жизнеописания вызывали у меня вопросы. Но как получить на них ответы? Что можно добавить от себя до необходимых двухсот страниц? Ничего… Я позвонила МихАбру:
– Про Ксению Петербургскую не могу писать. Потому что материалов недостаточно.
Наступила зловещая пауза.
– Значит так, – ответил МихАбр металлическим голосом. – Из-под земли достань, а напиши…
– Да невозможно же за два месяца! – пропищала я.
– Работай! – крикнул он и бросил трубку.
Вот потому я и решила поехать в Питер, на Смоленское кладбище, чтобы блаженная сама подсказала, как мне выкарабкиваться из этой ситуации. Питер я знала плохо, где находится Смоленское кладбище, понятия не имела. Пришлось просить свою питерскую знакомую довести до места. Лена на просьбу откликнулась и встретила меня прямо у вагона одиннадцатичасового поезда.
– Пойдем куда-нибудь посидим для начала… – сказала она.
– Нет, что ты! У меня в семнадцать пятьдесят обратный поезд, – огорошила я ее. – Вези прямо к Ксении.
– И что, по Невскому не прогуляемся?
Я вздохнула, помотала головой и спросила:
– А ты знаешь, где лежат мощи Иоанна Кронштадтского?
– В Иоанновском на Карповке, – на зависть мне отчеканила Лена.
– Вот нам и туда бы успеть…
Уже на подходах к Смоленскому кладбищу увидела я удивительную картину: стремящиеся в одном направлении люди несли множество цветов, будто на похороны какому-нибудь народному артисту. Оказалось, букеты предназначались Ксении.
– А мы цветы не купили… – грустно сказала я.
– Ладно, в следующий раз, – отмахнулась Лена.
Между могилами лежал снег, хотя в городе весь растаял. В небольшой часовне над могилой блаженной было много народа – не протолкнуться.
– Давай переждем поток, а? – попросила я, увидев, что Лена во что бы то ни стало решила протиснуться внутрь. – В сторонке отдышимся.
– Здесь всегда столько народа, – ответила Лена. – Тебе что от нее надо-то?
– Мне? Написать про нее… – вздохнула я.
– Ты, матушка, замахнулась! – сделала круглые глаза Лена.
– Да, помоги мне Бог! – согласилась я. – Все серьезно. Поэтому, может, акафист прочтем?
– Здорово! – воскликнула она. – Хоть один день с пользой проведу. Каждый раз не хватает времени. Что-то случается, прибежишь к Ксеньюшке, поставишь свечку и убежишь…
– И что, помогает? – с пристрастием спросила я.
– А то! Не бегали бы сюда люди…
– Хорошо, потом расскажешь. А сейчас, пожалуйста, попроси Ксению, чтобы помогла мне. Такой обвал, ты не представляешь…
Отошли мы немного, где место посуше, и я вслух прочла акафист с поясными поклонами. Потом, как делала это Татьяна Терентьевна, обошли мы вокруг часовни, попеременно читая тропарь. Многие так делали, большая цепочка обвилась вокруг часовни. Потом народ немного рассосался, и мы вошли внутрь нее. Батюшка закончил молебен, собирал принадлежности. Люди прикладывались к святой гробнице, встали в очередь и мы. На гробнице стоял небольшой поднос, на котором лежали оторванные от стеблей бутоны гвоздик. Люди брали их в благословение. Перед нами бутоны закончились. В голову тут же влетела паническая мысль: что-то не так я делаю, не хочет Ксения, чтобы писала про нее, даже бутончиком не одарила.
Лена просто спросила у служительницы:
– А больше бутонов нет?
– Нет, – строго ответила та.
– Ну, посмотрите, сколько вам цветов тащат, а вы жалеете, – выговорила Лена.
– «Тащат» не нам, а Ксеньюшке, и раздает тоже она, – ответила служительница и ушла в подсобное помещение.
Народ, на удивление, почти весь схлынул. Я стояла в центре часовни и с грустью думала, как мгновенно все произошло: вчера была в Москве, утром в Питере, прибежали на Смоленское и вот уже надо уходить… А мне так хотелось побыть в часовне – хоть до вечера простояла бы. Знала, что нескоро сюда приеду опять, жалко. В Питер почему-то никогда не тянет, как будто не существует этого города. Он для меня как музей: посмотрел и – домой, в музее разве можно жить… Действительно: есть москвичи, а есть питерцы. Питерцы Москву недолюбливают, а москвичи в Питере категорически жить не могут. Но что интересно, не в Москве Господь Ксению поселил, а именно в Питере, почему? Наверно потому, что наша гордая Северная столица более всех в России нуждалась в блаженной утешительнице вдов и сирот; слишком много было «униженных и оскорбленных» в граде Петра, который именно из Питера начал рубить окно в Европу… Вот в Москве был Василий Блаженный, юродивый, который царя Грозного безбоязненно укорял. А Ксению запомнили тем, что утешила и спасла целые толпы людей. И продолжает это свое служение до сих пор…
– Побежали! – окликнула меня Лена. – Не успеем в Иоанновский.
– Подожди, – откликнулась я. – Давай еще немного постоим. Здесь так хорошо…
Лена только пожала плечами, мол, не она, а я, кажется, тороплюсь на поезд.
Тут из-за двери вдруг вышла служительница. Я боялась ее строго вида, но будто чья-то рука властно подвела меня к ней и заставила говорить.
– Матушка, простите… Я из Москвы… приехала вот, ночью. Мне предложили написать про блаженную Ксению книгу… приехала ей помолиться…
– Что же, пишите! – разрешила служительница, хотя я предполагала, что в ответ она должна была сказать что-то вроде, мол, много вас тут ходит всяких. И была бы права.
– Ой, – ободрилась я. – А тогда можно на память что-нибудь от Ксении получить, в благословение, что ли…
– Можно, – служительница окинула меня взглядом с ног до головы и скрылась опять в своей подсобке.
Ее не было минут десять, которые показались вечностью. Лена стала меня торопить, потому что до обратного поезда оставалось всего два с половиной часа.
– Да не выйдет она больше, пошли… Знаю я ее!
– Подожди, еще пять минуточек, – просила я.
И вдруг она вышла. Но я увидела только розу красного цвета на длинном стебле, которую служительница несла на вытянутой руке.
– Вот вам, – вручила она ее мне.
– Это мне? – удивилась я, впрочем, как и Лена, которая даже хлопнула в ладоши от неожиданности.
– Вы же просили? – сказала служительница.
– Не до такой степени, чтоб целую розу… – растерялась я. – Дай Бог вам здоровья! Вы не представляете… не представляете, какой это подарок.
– Это аванс… – улыбнулась она. – Отрабатывайте.
– Да?
– Помоги Господь! – сказала на прощание служительница.
Мы вышли из часовни и на все лады стали обсуждать подарок от Ксении. Настроение было расчудесное. Перспективы – радужные. Подарок – удивительный. Лена заставила меня сфотографироваться с красной розой на фоне часовни – для истории.
Когда мы добрались до Иоанновского монастыря, было без двадцати пять вечера. Пока купили свечи, написали записки и нашли усыпальницу кронштадтского чудотворца, то у дверей ее обнаружили монахиню, которая закрывала входную дверь.
– Матушка, матушка, подождите! – закричали мы хором.
Она повернула ключ в обратную сторону и сказала ласково:
– Часовня открыта до пяти…
– Я на поезд опаздываю… – пожаловалась я и юркнула в усыпальницу.
У надгробия святого бухнулась на колени и зашептала:
– Батюшка Иоанн, ты добрый, прости, что нет времени у нас. Такой дикий ритм жизни, прости… Помолись пред Престолом Господним, чтобы я книгу про Ксению смогла написать. А после нее – про тебя… Благослови, если уж ты привел меня к себе… Преподобный! Святой! Праведный! Иоанне Кронштадтский! Еще надо успеть на поезд. Помоги…
Сзади уже стояла монахиня и махала рукой, чтобы мы шли к выходу. У нее было послушание – закрывать усыпальницу ровно в пять. Я поднялась и, озираясь на гробницу, пытаясь хотя бы взглядом сфотографировать эти низкие своды, надгробную плиту и роскошные букеты вокруг. А мы опять прибежали без цветов. Хотела я оставить свою розу, но не могла – это теперь была моя святыня.
И вот я уже сидела в плацкартном вагоне в обнимку с этой розой. Все ближе была Москва и все явственней вставал вопрос: что же и как писать про блаженную Ксению? Даже о ее современных чудесах я не поинтересовалась в часовне.
Время, отведенное на книгу, побежало. Несколько дней я не могла ни на что решиться. И вдруг ноги как будто сами собой понесли в Ленинку. Прошла наверх, поначалу неуверенно стала рыться в главном каталоге нашей главной библиотеки, но за полдня ни единой книги, кроме уже знакомого репринтного жития, не обнаружила. Тогда я сообразила пойти к консультантам. Три или четыре человека передавали меня из рук в руки, пока не познакомилась я с одной женщиной-библиографом – про таких кино снимать надо. Профессионал, преданный своей книжно-буквоедской работе до смерти. Озадачилась она моей проблемой и направилась в какие-то спецкаталоги, куда вход простым смертным был закрыт. Меня попросила прийти через часик. Пошла я на выдачу – взять какие-то первые заказанные мною книги. И тут обнаружились интересные вещи.
Например, то, что священник Смоленского кладбища Стефан Опатович одним из первых взял на себя труд записывать случаи молитвенной помощи Ксении блаженной, которые передавались богомольцами из уст в уста. Отец Стефан начал служить в Смоленской церкви в 1858 году, к этому времени со дня смерти юродивой прошло более пятидесяти лет.
Но самое главное, узнала я, кто написал то самое жизнеописание, которое везде печатается как житие. Священник Евгений Рахманин составил самое полное жизнеописание «Раба Божия блаженная Ксения, почивающая на Смоленском православном кладбище в С.-Петербурге». Именно этот батюшка собрал множество рассказов о посмертных чудесах блаженной Ксении. Жизнеописание юродивой Христа ради Ксении, составленное Евгением Рахманиным, было положено в основу послереволюционных эмигрантских изданий. Русской православной церковью за границей блаженная Ксения была канонизирована на десять лет раньше, чем в России. И вероятно, из-за отсутствия возможности рыться в русских архивах жизнеописание о. Евгения было оформлено как житие. Так же поступили и при канонизации блаженной Ксении к Тысячелетию крещения Руси. Это открытие дало мне повод начать искать ответы на возникшие вопросы. Если коротко, то главное смущение состояло в общепринятом мнении о причине смерти мужа и последовавшем затем «безумии» блаженной Ксении.
Это общепринятое мнение состояло вот в чем. «Когда Ксении исполнилось 26 лет, ее муж – полковник, придворный певчий, внезапно (без христианского приготовления) умер[10]10
Некоторые тиражируют доныне ложь, что Андрей Федорович умер от пьянства.
[Закрыть]. Этот удар так повлиял на Ксению, что она всю оставшуюся жизнь посвятила спасению его души и избрала для себя тяжелый путь юродства Христа ради. Ксения раздала все свое имущество и, надев на себя одежду мужа, стала всех уверять, что умер не Андрей Федорович, а его супруга Ксения Григорьевна, и отзывалась, только если ее называли именем мужа»…
Утверждение, что блаженная Ксения свою жизнь положила на молитву о спасении души любимого мужа, опровергается в этом же тексте. «Нет, Андрей Федорович не умер. Умерла Ксения Григорьевна, а Андрей Федорович… он жив и будет жить еще долго, будет жить вечно», – такое часто говорила прозорливая блаженная. На ее языке это означало одно: Андрей Федорович не мертв у Бога, то есть не отошел в Вечность нераскаянным грешником, он «жив», значит, спасен, а вот она сама – «умерла» для мира… Сама Ксения многократно утверждала, что не было причины для беспокойства о посмертной судьбе мужа. Хотелось найти тому еще какое-нибудь документальное подтверждение.
И вот милая женщина-библиограф нашла в спецзале заветный ящичек, обозначенный «русские праведники». Там-то, куда, кажется, давно никто не залезал, нашлись библиографические ссылки на жизнеописания Ксении Петербургской сороковых годов восемнадцатого века. В старых книгах обнаружились важные сведения о кончине Андрея Федоровича: «На четвертом году счастливого супружества Андрей Федорович смертельно заболел «жаром», он «горел»[11]11
С 1755 года в Петербурге свирепствовали эпидемии оспы, кори и лопухи (скарлатины).
[Закрыть]. Дни и ночи Ксения проводила у постели больного, отказываясь от сна и пищи. Совершенно забыв себя, не чувствуя утомления и не зная отдыха, она ухаживала за мужем и молилась об исцелении, однако его состояние с каждым днем ухудшалось. Он потерял сознание и ночью скончался. Но за час до смерти Андрей Федорович очнулся и в полном сознании велел позвать священника. Он исповедовался, причастился Святых Тайн и, подозвав жену, благословил ее. При этом умирающий сказал: «Служи Господу Богу нашему, славь Всеблагое имя Его». Несостоятельным оказалось предположение, что муж Ксении умер без христианского напутствия. Значит, действительно Ксении незачем было всю оставшуюся жизнь посвящать «спасению его души». Не ради этого она избрала путь юродства…
Не сохранилось сведений о том, кем была Ксения по своему происхождению, кто были ее родители, где она получила воспитание и образование. Скорее всего, она принадлежала к дворянскому званию, так как мужем ее был Андрей Федорович Петров, состоящий в чине полковника и при этом служивший певчим в придворном хоре императрицы Елизаветы Петровны. Во всяком случае, Ксения была хорошо воспитана, не занималась черной работой, вела знакомства с аристократическими семействами и купцами – не иначе как из-за своего благородного происхождения. Ксения прожила в бездетном супружестве три с половиной года. Нашлось старинное описание семейной жизни Ксении и Андрея Петровича, в котором ясно видно, что муж и жена не были обычными людьми. «Жизнь супругов текла мирно и тихо в небольшом домике на Петербургской стороне, купленном Андреем Федоровичем на приданое своей жены, которая заведовала хозяйством и помогала бедным. Сам он был часто занят во дворце: придворные хористы пели не только на церковных службах, но и на театральных представлениях и концертах, в операх. Очень любили супруги читать вместе духовные книги. Окружающие сходились на том, что любовь мужа и жены была какая-то необыкновенная, исключительная. Это было родство душ, и родство такое, что один не мог жить без другого. Ксения любила своего «глаголемого» супруга так же, как и он ее, истинно христианской любовью». «Есть сведения, – писал Н.Н. Животов, – что отношения супругов были чистыми, братскими», иными словами, Андрей Федорович и Ксения Григорьевна оставались супругами-девственниками. Неудивительно тогда, что у них не было детей. И нетрудно объяснить, почему так поздно – на 23-м году жизни – вышла замуж Ксения Григорьевна. Видимо, искала такого спутника жизни, который мог бы понять ее устремления и духовные запросы… Ксения с молодости отвергла все обычные сладости мира, они ее не прельщали. Это была мощная увертюра[12]12
«Увертюра» – от французского ouverture, означающего открытие, начало, вступление.
[Закрыть] к подвигу юродства.
Пришлось писать целую главу о юродивых во Христе, чтобы и самой уяснить, и убедить читателя в том, что никогда подвиг юродства человек не избирал самовольно, но решался на него по ясному указанию Промысла Божия, иногда – по чрезвычайному откровению. Смерть Андрея Петрова, мужа Ксении, никак не могла стать причиной того, что она в одно мгновение решилась на юродство во Христе. В те времена благочестивые жены по смерти мужа бывало даже уходили в монастырь или основывали новую обитель… Но не становились святыми юродивыми.
Подвиг юродства во Христе – труднейший, это высшее выражение православного подвижничества. Святые юродивые – это те идеальные христиане, которые истинно и самим делом исполнили заповедь Спасителя: «если кто хочет идти за Мною, отвергнись себя, и возьми крест свой, и следуй за Мною»[13]13
Мф. 16:24.
[Закрыть]. Образ жизни юродивых всегда казался миру непонятным и странным. Добровольно они отказывались от всех удовольствий и удобств жизни, от выгод общественного положения или звания, от родства, дружества, семьи. Святых юродивых современники считали безумными, с расстроенной психикой, ибо руководствовались в своих суждениях внешним взглядом на них, а юродивые сами старались казаться безумными, лишенными разума. Однако жития блаженных убеждают, что они были людьми мудрейшими, имели разум христианский, правый и истинный, который как величайшее сокровище скрывали за личиной мнимого безумия.
Пища, одежда, жилище не составляли для них необходимой жизненной потребности. По нескольку дней, даже недель юродивые могли обходиться без пищи. Одеждой служило им ветхое рубище. Редко входили они в человеческое жилище, проводя большую часть жизни под открытым небом, на городских площадях, близ церковной паперти или ограды, на кладбищах, иногда на куче мусора или в грязи, страдая от голода, холода или зноя, подвергаясь всякого рода невзгодам и испытывая неразлучные со скитальческой жизнью лишения. Многие русские юродивые ходили полунагими в наши лютые зимы. Василий Блаженный, которого на иконах так и изображают – полунагим, говаривал: «Если люта зима, то сладок рай». Юродивые своим жизненным примером самоотречения назидали людей, чтобы не увлекались земным, заботились о высших целях жизни, напоминая о едином на потребу – спасительной для человека преданности Евангелию. На этот подвиг Господь воздвигает самых мужественных, крепким духом и телом, дерзновенных, верных Ему людей.
Для обычного человеческого разума непостижимо, как Ксения Петербургская, отказавшись от своего дома, едва одетая и почти босая, в течение 45 лет выдерживала проливные дожди и морозы, зной и ветер. Как могла жить, нигде не имея покоя для своего тела, «не имея, где главу преклонить»[14]14
Мф. 8:20.
[Закрыть]. И при этом по виду всегда была весела и всем довольна, никогда не роптала, тем самым преподавая уроки христианского отношения к событиям жизни. «Несчастной сумасшедшей» всего за пару десятков лет удалось исправить нравы огромного района столицы. По воспоминаниям современников, во время пребывания блаженной на Петербургской стороне эта часть славилась нравственностью жителей и заселялась бедняками, которым легче жилось «около Ксении». Меняет представление о личности святой и тот факт, что около нее образовался целый кружок друзей, то есть последователей, старавшихся, по возможности, подражать ей. Их было «почти сто» – ближайших подруг Ксении, посвятивших себя, подобно ей, подвигам человеколюбия.
Считать причиной такого невероятно самоотверженного образа жизни Ксении внезапную смерть мужа, значит, совсем не понимать смысла юродства во Христе и принижать сей христианский подвиг.
Намеки на то, что были ей откровения свыше, встречались в ранних рассказах о Ксении, которые я нашла в Ленинке.