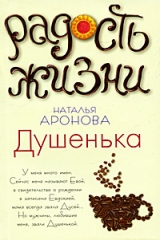
Текст книги "Душенька"
Автор книги: Наталья Аронова
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 14 страниц) [доступный отрывок для чтения: 6 страниц]
В этот момент в дверь позвонили. Говорят, предупрежден – значит, вооружен. Олег предупредил меня, правда, в довольно смутных выражениях, о какой-то грозящей мне опасности, но была ли я вооружена? И да, и нет. Во всяком случае, вместо того, чтобы распахнуть дверь, я проблеяла:
– Кто там?
Прямо как послушная девочка, которую родители научили не открывать дверь первому встречному, честное слово. Впрочем, я была уверена, что это мама вернулась. Но ответ оказался неожиданным:
– Звонарева, открой, пожалуйста. Это твоя учительница, Светлана Валерьевна.
Стоило, ох и стоило мне призадуматься в эту минуту – с чего это вздумала меня навестить моя теперь уже бывшая учительница? Да и час для визитов был уже малоподходящий. Но так велика власть учителей над нашими душами, что порой подчиняет их даже и без видимых на то оснований. Кто знает, что могло случиться? Вдруг Светлана Валерьевна нечаянно взорвала школу и прибежала ко мне просить политического убежища?
В общем, я открыла.
Светлана Валерьевна стояла на пороге с пивной бутылкой в руке.
Композиция выглядела, в общем, довольно маргинально, но привычно. Я видела таких девах возле собственного подъезда, и возле соседних подъездов тоже, и на детской площадке. Девахи сосали пиво из горлышка, лузгали семечки, бесперебойно курили. Ноги у них всегда были запыленные, волосы грязные, и в лице наблюдался какой-то недостаток – то зияющая щель вместо переднего зуба, то здоровенный бланш под глазом. Девицы, впрочем, не унывали. Вот и Светлана Валерьевна выглядела потрепанной, но вполне бодрой и воодушевленной. Прическа у нее была в беспорядке, косметика размазана по лицу, одно ухо отчего-то здорово отличалось цветом и размерами от другого. Зато глаза у моей химички блестели, как огни приближающегося поезда. И сказала она мне:
– Привет, Звонарева. Давно не виделись. Скучала по мне?
Неизвестно, что мне следовало ответить на этот вопрос, правдивое «нет» или вежливое «да» – это был классический пример дилеммы, но Светлана Валерьевна не дала мне основательно подумать над этим – она неловко размахнулась и плеснула из своей бутылки мне в лицо. Правду сказать, я даже не увернулась, она сама оказалась косорукая какая-то – плеснула сильно мимо, в основном на дверь, а на меня попало всего несколько капель. Дверь, обитая еще в прошлом веке дерматином, задымилась. Гадостно завоняло. И я вдруг поняла, что в бутылке, скорее всего, не «Старорусское темное», как гласила этикетка. И вообще не пиво.
Я захлопнула дверь, которая продолжала дымиться и чернеть на глазах, в прыжке сорвала с плеч многострадальный халат, бросилась под душ. Вода так и не нагрелась, но хотя бы напор был нормальный. Я стояла под душем, пока зубы не застучали. Они стучали очень громко и совершенно незаметно для меня самой. Я сначала даже решила, что это неугомонная Светлана Валерьевна колотится в дверь. Но зачем? Кислоты у нее больше не оставалось, имевшимися припасами она распорядилась не самым удачным образом, а в рукопашной у нее не было ни малейшего шанса, весовые категории-то – ха-ха! – разные! Что она там выкрикнула в тот момент, когда бесцветная маслянистая жидкость с химической формулой H 2SO 4, а в просторечии серная кислота, уничтожила нашу дверь?
«Это тебе за Олега!»
И тут же я поняла, что серная кислота могла уничтожить не только дверь, не только старенький халат, но и нечто более важное. Мою кожу, например. Мое лицо. Глаза. Губы. Шею. Грудь. Мое тело, доставлявшее мне столько неприятностей и столько радостей.
Колени у меня подогнулись, и я заплакала, как будто мне было пять лет.
В таком прискорбном положении меня и нашла мама – голую, зареванную, сидящую на голом кафельном полу в ванной комнате. При выключенном свете.
– Дуся, ты видела? Какие-то хулиганы подожгли нашу дверь. Да где ты? Дуся, что ты здесь делаешь? Почему ты плачешь? Тебя обидели? Господи, да что случилось-то? Маленькая моя, доченька, да ответь же мне!
Она завернула меня в махровую простыню, отвела в кухню, налила валерьянки и чаю с лимоном. Всхлипывая и икая от долгих рыданий, я рассказала ей все. Про Олега и его бегство. Про Светлану Валерьевну и бутылку «Старорусского темного». Про то, как мне страшно, стыдно и больно. Впрочем, кислота мне не причинила какого-либо серьезного вреда – после тщательного осмотра мы обнаружили на шее, щеке и плече несколько маленьких волдырей, которые вскоре зажили, даже следа не осталось. Но мама, разумеется, все равно была почти в обмороке.
– Дусенька, может, милицию вызовем? И бригаду «Скорой помощи»?
– И пожарных еще. Не надо, мам. Все прошло уже.
– Дуся… А ты не беременна?
– Нет.
– Точно?
– Точно.
Мы помолчали.
– Тебе надо уехать, – вдруг решительно сказала мать.
Я не ожидала от нее такого и посмотрела, должно быть, с удивлением.
– А что? – спросила мать. – Поедешь к бабушке. Там поступишь. Будешь учиться и работать. Все устроится.
Я была благодарна ей за эту мысль и за то, что она больше ни о чем не стала спрашивать. Хотя бабушку, мать отца, давно уехавшего от нас и бесследно пропавшего где-то на российских просторах, я себе не представляла. Меня возили к ней в подмосковную деревню один раз, когда мне было лет пять. Я помнила длинный темный коридор, который я боялась проходить одна и всегда бежала во весь дух, словно кто-то дышал мне в затылок. Боялась я и бабушкиной иконы в тусклом золотом окладе, строгого Спасителя с поднятой рукой – мне все казалось, что он вот-вот погрозит мне пальцем. Помнила ужасный привкус парного молока, которое мне приходилось пить два раза в день. Помнила, как скучала по маме, брату и по своим игрушкам. Как потеряла на берегу пруда куклу Арину, подаренную мне бабушкой…
– …она, конечно, своеобразный человек, – продолжала мать. – Я с ней никогда не могла найти общего языка. Но тебя она всегда любила, всегда спрашивала в письмах, звала к себе. Писала она, правда, один раз в год, отвечала на поздравление с днем рождения – я ей посылала от нас всех открытку… У нее большой дом, хозяйство, тебе там будет хорошо. Давай позвоним ей прямо сейчас? Спросим, можно ли тебе приехать. Да я уверена, что можно. Я звоню?
Мать говорила быстро, заговаривая не то меня, не то себя. Ей, видимо, было очень страшно. И я согласилась уехать тотчас же, тем более что бабушка была согласна. Мне даже упаковывать было нечего – из вещей на меня ничего не налезало, кроме спортивного костюма. Мы напихали в сумку кое-какое бельишко, уложили документы. Цепочка с бриллиантиком, которую подарил мне Олег, была на мне. А большого плюшевого кота пришлось бросить. Он остался сидеть на моей кровати, глядя перед собой огромными голубыми глазами, исполненными бессмысленной печали. Зато я взяла с собой зайца Плюшу – он был меньше размерами и вполне уместился в кармане дорожной сумки. Мы позвонили бабушке, несказанно удивившейся, но выразившей только радость по поводу моего приезда.
Мы купили билет в плацкартный вагон, и всю ночь я проворочалась под чужой храп, а наутро приехала в Перловку – так смешно называлась бабушкина деревенька. Поезд там стоял всего одну минуту.
Глава 4
ИДИЛЛИИ И ПАСТОРАЛИ
́Мать условилась с бабушкой, что та меня встретит, и я старательно оглядывалась по сторонам. Мне казалось, что бабушка должна быть сухонькая, сгорбленная, низко покрытая платочком. Должно быть, от работы на свежем воздухе ее лицо и руки черны, а глаза выцвели до белизны. Повторюсь, я ее совсем не помнила.
– Ева!
Я сначала даже не поняла, что это окликают меня. А когда поняла, окаменела, как Лотова жена.
Бабушка? Вот это моя бабушка? Ну, скажу я вам…
Она оказалась крупной и высокой, одного со мной роста, с прекрасной осанкой. На ней было длинное легкое платье, по бежевому полю расписанное огромными красными маками. Пучком маков же была украшена широкополая соломенная шляпа. Точеные ноги с сухими щиколотками обуты в мягкие красные башмачки. Ярко-синие глаза прикрывают дымчатые очки, губы подкрашены, волосы – седые, отливающие голубым, – уложены в тяжелый пучок на шее.
В общем, рядом с этой прекрасной пожилой леди я казалась сама себе гадким утенком – толстая, в пропахшем плацкартным вагоном спортивном костюме, с гладко зализанными волосами и измятым лицом. Но бабушка словно не заметила, как ужасно я выгляжу, и раскрыла мне объятия.
– Ева, девочка, ну иди же сюда! Как ты выросла! Как ты похорошела!
И она прижала меня к груди. «Да уж, похорошела несказанно», – думала я, вдыхая ее свежие духи.
– Бабушка, бабушка, – бормотала я.
– Идем, девочка моя, нас за углом ждет возница.
– Кто?
– Увидишь…
Возницей оказался неопределенных лет мужичок в джинсовом костюме, похожий на бородатого школьника. А восседал он на самой настоящей тележке, веселой и нарядной тележке, выкрашенной в зеленый цвет. Небольшая пегая лошадка прядала ушами и мотала головой.
– Ну, садись. Опля! Смотри, Арчи, это моя внучка.
– Красавица, – неожиданно густым басом сказал щуплый Арчи. – Н-но, Лентяйка, давай!
Лошадка зацокала копытами по гладкому асфальту.
Я знала деревню в основном по разговорам посторонних людей и твердо усвоила, что деревня – плохо. В деревне пьют, в деревне грязь, молодежь оттуда бежит, а старики прозябают. Там закрываются школы и больницы, а дома все разрушены.
Но это была какая-то совсем другая деревня. Дома там стояли каменные, и почти у каждого была припаркована машина. Неторопливо мы проехали мимо школы – во дворе гомонили дети, там, видимо, работал летний лагерь. Пересекли широкую улицу, обсаженную липами. Липы цвели, разливался волшебный запах.
«Липа, – вспомнились чьи-то слова, – самое мягкое дерево…» И теперь же захотелось узнать: почему? Перегнувшись с возка, я провела ладонью по стволу, и действительно, он оказался мягким, теплым и податливым, как человеческое тело.
Возле амбулатории наперерез повозке кинулась молодая женщина с огромным животом. На лице у нее была написана комическая решимость. Бабушка, очевидно, знала ее, потому что легко спрыгнула с повозки и вскрикнула:
– Нина! Что? Началось?
Нина, испуганно озираясь, что-то зашептала бабушке на ухо.
– Ясно. Извини, девочка моя, я тебя покину. Арчибальд отвезет тебя домой. Устраивайся в комнате наверху, прими душ. Я приеду – будем завтракать. Или обедать, как получится.
– Завтракать, завтракать, – успокоил меня Арчи, едва бабушка с беременной Ниной скрылись в дверях амбулатории. – Это у Нины третий. Справляется шустро. Как кошка, ей-богу!
– Да-да, конечно, – пробормотала я. Я совсем забыла, что бабушка – доктор. И уж конечно, не могла подозревать, что она до сих пор работает.
Но дом, в который меня привез Арчи, поразил мое воображение. Дом, в котором жил Олег и который казался мне верхом совершенства, рядом с этим особняком выглядел бы так же, как я рядом с бабушкой. Вроде бы и поновее, и побольше, но все не то – нет в нем шарма, не чувствуется приложенного старания и любви.
Арчибальд остался распрягать Лентяйку, а я поднялась на крыльцо.
Крыльцо резное, на просторной веранде – круглый стол, оранжевый абажур, самовар. Как уютно, должно быть, будет сидеть в этом кресле-качалке по вечерам! На диванчике книжка корешком вверх. Ну-ка, что читает бабушка? «Акушерский травматизм мягких тканей родовых путей». Брр-р!
Я осторожно положила книгу обратно и прошла в дом. Он был велик и прохладен, обставлен случайной мебелью. В столовой спокойно соседствовали грубый, кустарно сколоченный обеденный стол, весьма кокетливый розовый диванчик и старинный буфет с вырезанными из дерева украшениями – виноградными гроздьями, битыми фазанами и прочим. Буфет стоял на ужасающих когтистых лапах. В целом все выглядело очень забавно.
Моя комната оказалась светлой и милой. Обои с наивными васильками, белые доски пола, вязаное кружевное покрывало на широкой кровати с никелированными шишками – старинной или сделанной под старину, я не разобрала. Бамбуковая этажерка с книгами, и на ней – моя Ариша, моя потерянная кукла. Только вот я не помню, чтобы на ней было такое чудесное платьице, все в оборочках.
В обнимку со своей старой куклой я заснула на мягкой, как облако, постели и проснулась только к обеду.
Крупно, по-деревенски нарезанные огурцы и помидоры в миске. Отваренная молодая картошка в перышках укропа, с медленно тающим маслом. Мясо на сковороде, зажаренное попросту, но такое аппетитное! Ледяная простокваша! Большая миска рубиновой клубники!
А за столом сидели трое – бабушка, выглядевшая немного усталой, Арчибальд и плечистый пожилой мужчина со смуглым, словно вырубленным из дерева лицом.
– Это Иван Федорович. Иван Федорович, это моя внучка, Евдокия.
– Молодец, что приехала. Садись, наваливайся. Мы уж подзакусили. Толковали между собой, куда тебя пристроить, что и как. Сейчас мы тебе все расскажем.
Да уж, я нуждалась в объяснениях!
Впрочем, большой загадки тут не было.
Иван Федорович когда-то был председателем совхоза.
– Помнишь, что такое совхоз-то? Да нет, где тебе, молодая еще.
Дело свое он любил, хозяйство было в числе преуспевающих. В свое время ему удалось выгодно приватизировать землю, и по нынешний день он глава большого, хорошо отлаженного хозяйства. Поля, парники, пасека, пруд с карасями… И тепличное хозяйство, самое лучшее в области.
– В общем, живем, не жалуемся. И ты с нами не пропадешь. Главное, к делу пристроить человека, а там уж, если он без червоточины, он сам дорожку найдет. Вон Арчибальд, сначала был актер, а потом спился. На вокзале жил, под платформой. Совсем пропал бы, да к нам прибился. Самый нужный человек оказался, к любой скотине подход знает! Даже пчела при нем больше меда давать стала. Водочку-то пришлось бросить, конечно… Пчелы даже запаха ее не переносят, сразу жалят.
– Да брось, Федорыч, – вмешался Арчибальд, до того налегавший на простоквашу с черным хлебом. – Больше меду стало, потому что кипрей посадили. С кипрея это, значит…
– Так и кипрей посадить ты придумал. Ладно, ты кушай, никого не слушай. Я сейчас с девушкой Ларисиной говорю. Так вот, Лариса, бабушка твоя, говорит, ты в колледж хочешь поступать. Дело это хорошее, мы тебе поможем. С какого перепугу ты так быстро к бабушке своей нагрянула, если до этого столько лет носа не показывала – об этом мы тебя спрашивать не станем. Меня не касается. Но здесь – смотри! Ни алкоголя, ни другой какой дури у нас не полагается, если только шипучка на праздники. Куришь?
– Нет-нет, – испуганно отказалась я. Пробовала курить пару раз – девчонки в классе говорили, что курение помогает сбросить вес. Но меня так мутило от табачного дыма, что я не решилась на такое средство.
– Курить можно. Мы ж не секта какая. Просто рабочие люди. Бабушка твоя, вон, балуется. Похвалить не могу, но и препятствовать не стану. И вот еще что… Я тебе, дочка, не только что в отцы, а и в деды гожусь, поэтому скажу начистоту. Это насчет всяких там шашней. Дело, конечно, молодое. Девки всегда к парням тянулись, как и парни к девкам. Это так с Адама и Евы повелось, когда еще секса не выдумали, а только любовь одна была. Только уговор: женатика не замай, семью не ломай! Поняла?
– Поняла, – кивнула я и почувствовала, что краснею.
– То-то! Извини, коль что неладно сказалось. А ты налегай, налегай. Еда у нас вся свежая, хорошая. Так вот. Поступить мы тебе поможем. Если деньги за обучение платить надо будет – заплатим. Жилье, еда, проезд – все бесплатно тебе будет. Но уж и ты поработай для нас. Делать-то что-нибудь умеешь? Или совсем ничего?
– Я готовить умею, – обиделась я. – Я ж в кулинарный колледж поступать хочу!
– Во-от оно что. Так это всего лучше! У нас сейчас самая страда, день год кормит. Все на работе, готовить некому. У кого старики дома, те настряпают. А у кого нет, те сухомяткой питаются. Разве это годится? С сухомятки какой работник? Ну что, берешься? Обед на всех готовить?
Разумеется, мне было не по себе. Одно дело – стряпать дома, на своей кухне, где единственными ценителями и дегустаторами станут твои родственники. Усовершенствовать рецепты, изменять ингредиенты, экспериментировать… А тут целая столовая голодных селян, и всех надо накормить, и чтобы всем по вкусу пришлось!
От ужаса у меня даже фантазия разыгралась, хотя я вообще-то не отличаюсь развитым воображением. Мне привиделось, что я пересолила борщ и триста человек как один стучат мисками по столу и кричат в один голос:
– Люди добрые, бейте ее, толстомясую!
Должно быть, выражение лица у меня стало соответствующее, потому что Иван Федорович раскатисто захохотал и поспешил меня успокоить:
– Да ты не шугайся, не шугайся! Глаза боятся, а руки делают, так, что ли? Есть у нас повариха, бабушка Настасья. Да вот только беда – слепнет она, и врачи ей помочь ничем не могут. Голова-то у нее хорошо варит, и вся сноровка при ней, а вот видеть – не видит… Был уже грех, посудное полотенце в куриной лапше сварила, сослепу-то. Вот она тебя и научит, сколько мяса в котел закладывать, чтоб никого не обидеть, ну и прочие премудрости. Полегчало?
Разумеется, полегчало, у меня даже аппетит появился!
После обеда мы с бабушкой пошли гулять и говорили, говорили…
– А ты ведь жила тогда в другом доме, да? Когда я маленькой приезжала? Помню, там коридор был темный и икона страшная.
– Да, икона до сих пор у меня. А дом снесли. Он уже плохой был, жучок его источил. Новый надо было строить. Иван Федорович предложил мне в его дом переехать. Вроде как хозяйство вести.
– А вы с ним…
– Нет, что ты! – Бабушка засмеялась, так легко и молодо запрокинув голову, что мне показалось – мое предположение не так уж беспочвенно. – Просто он очень одинокий человек.
– Почему? Был весь в делах и так и не женился?
Бабушка стала очень серьезной. Сорвала, наклонившись, какой-то стебелек – мне показалось затем, чтобы скрыть лицо.
– У него была жена, очень хорошая, добрая женщина. И сын. Но сын непутевый оказался. Сначала-то все хорошо было, мальчишка учился отлично, в университет поступил. А потом зачудил, научили, видно, в университете хорошему… У меня из больнички воровал лекарства, коноплю собирал, маковую соломку. Иван Федорович приказал тогда мака не сажать, но это уже было как мертвому припарка, извини мой профессиональный цинизм. Сбежал сыночек его и подался в Москву. Пару раз его находили, возвращали… Лечить пытались. Сначала я за ним ходила, потом в клинику возили. Ломка, девочка моя, это страшно, я ничего в жизни страшнее не видела. Хотя многое повидала, можешь мне поверить. Пока его лечили, мать, видно, решила еще разок счастья попытать, ребеночка родить. Но возраст у нее был уже солидный, да и здоровье не очень-то. Умерла она. И ребенок умер.
– Кошмар какой.
– Да. Но не будем о грустном. Ты в самом деле умеешь готовить?
– А как же! – даже немного обиделась я.
– Вот оно как. Ну, тут ты не в меня пошла. Яичница – вот что всегда было верхом моего кулинарного мастерства. А так ты похожа на меня немного, видна порода. Только ты будешь еще красивее меня, вот увидишь.
– Хотелось бы верить, – пробормотала я себе под нос, наблюдая за тем, как легки и грациозны движения моей бабушки, какие у нее женственные, мягкие жесты, как красив овал лица.
– Ну конечно! И мужчины буду сходить по тебе с ума. Уже, должно быть, сходят, а?
Мне захотелось переменить тему разговора.
– А почему ваша деревня так смешно называется – Перло́вка? Тут, что ли, перловку сажали?
– Глупенькая! – бабушка даже взвизгнула от смеха. – Во-первых, перловка – это ячмень. Пора бы знать. Ячмень, конечно, сажали, да только деревня не Перло́вка называется, а Пе́рловка. Поняла? От перла – жемчуга, значит. О-о, с этим тут целая легенда связана.
– Расскажи, – попросила я. Эта тема мне нравилась больше.
– Потом, вечером, – согласилась бабушка. – А как Семен поживает? Мама твоя говорила, готовится на роль отца? Значит, быть мне прабабушкой.
Я стала рассказывать о житье-бытье брата. Мы шли мимо поля, где густо стояла какая-то ярко-зеленая трава с крупными лиловыми цветами. Над ней, согласно гудя, вились пчелы. Было жарко, но жара ощущалась иначе, чем в городе – там она наваливалась удушливым ватным одеялом, липла к лицу человеческими испарениями и выхлопами автомобилей, а здесь ласкала так нежно, так душисто пахла сеном, дубами, землей… Мы гуляли долго, солнце уже перевалило к закату. Откуда-то послышался мерный, гулкий и мелодичный звук.
– Это в церкви звонят? – спросила я.
– Это в рельсу бьют. Шабаш, значит, рабочий день закончился. А церкви с колоколами у нас нет пока, часовня только.
А потом я побежала смотреть тот самый пруд, о котором говорил Иван Федорович и который оказался на самом деле участком бывшей реки, пересеченной системой плотин и плотинок. Это был целый каскад водоемов: берега небольших прудиков выглядели ухоженными, но меня потянуло к самому широкому, дикому пруду, замыкавшему всю эту водную стихию и находившемуся чуть дальше.
Послеобеденное солнце лениво смотрелось в густую, чуть зеленоватую воду, над которой устало склонялись огромные ивы. Мне всегда чудилось, что у ив есть длинные, тонкие руки и можно было даже поздороваться с ивами за руку. Бронзоватая рыбина с ярко-красными плавниками медленно выплыла из таинственной глубины, тронула жесткими губами краешек ивового листа-лодочки и, сделав изящный разворот, исчезла. «Здоровая, – подумала я, вспоминая почти машинально свои кулинарные поединки с рыбой. – На сковородке была бы хороша, в томленой сметане!»
Ближе к берегу, у высоких камышей, наполненных стрекотанием и какими-то коротенькими, таинственными пересвистами (позже я узнала, что это выпь), царила изумрудная ряска. Я с трудом пробралась к самой воде, зачерпнула ее полные пригоршни, подула на ряску и удивилась: под живым ковриком из крошечных кругленьких листочков оказалась чистая-чистая вода, не зеленоватая, как мне сначала увиделось, а совершенно прозрачная.
Я прошла вдоль камышей, спугнув парочку быстреньких трясогузок, сорвала несколько странных цветов с жесткими стеблями и длинными розоватыми соцветиями («Водяной перец, – пожурила меня после бабушка, – нестойкий, как и кувшинка, уже сомлел!»), больно обрезала палец безжалостным лезвием осоки, и передо мной открылся вид всего огромного пруда – я очутилась на песчаной косе, что выдвигалась уступом к его середине.
Тут не было ни ряски, ни камыша, ни другой водной растительности. И людей, конечно, тоже не было. От полного безветрия и напоенного травами, пьянящего жара мне захотелось искупаться. Обязательно искупаться! Я стремительно выпуталась из тесной одежды, всем телом почувствовав необыкновенную тягу к воде. Купальника у меня нет, но вокруг ведь ни души, так? Значит, можно раздеться, вряд ли кто-то не в меру любопытный прячется в зарослях осоки. Шаг по золотому песочку, другой – и вот уже теплые, нежные струи воды обвивают мои бедра, щекочут живот. Я смеюсь, сама не знаю, почему, смеюсь и с удивлением и благодарностью чувствую, что вода тут живая, что она, все еще не забыв о своем стремительном прошлом, хочет струиться и играть. Играть со мной, с моим телом. И я тоже хочу играть, и ощущать водные ласки, и чувствовать себя юной, обновленной… живой.
Так началась моя жизнь в Перловке, название которой, показавшееся мне смешным, оказалось благозвучным и связанным с романтической историей любви. Историю мне рассказала бабушка сразу после ужина. Мы остались сидеть на террасе вдвоем, мужчины ушли спать. Бабушка покуривала тонкие сигареты, покачивалась в кресле-качалке в такт стрекотанию цикад, и ее голос доносился до меня словно бы издалека, из прошлого…
* * *
После смерти старой барыни Звонаревой три подмосковные деревеньки – Звонаревка, Дубки и Залесная – погрузились в ожидание, которое нельзя было назвать тягостным. Анна Петровна в последнее десятилетие мало занималась хозяйством, ее соображения хватало только на то, чтобы вдоволь было посолено грибов и заготовлено малинового варенья, до которого ее сын Петруша был большой охотник. Между тем молодого барина в деревнях уж и не помнили, он как уехал в Москву за наукой, так по сей день и не показывался. Всей вотчиной распоряжался управляющий, прохиндей и вор. Мужика он разорял форменным образом, а деньги прятал в свой карман. Да что с него спросить, бессовестного, – он не то что крестьян, он и барыню обирал. Крыша на господском доме прохудилась, по комнатам гулял сквозняк, в запущенных кладовых развелись полчища наглых крыс. Даже самовар барыне, и тот не каждый день раздували, вот как ее ограничил управитель! Чай и сахар в хозяйстве не водятся, их покупать надобно, а денежка-то и самому сгодится.
Так что какой ни на есть молодой барин, а все лучше управляющего – по крайней мере, будет соблюдать свой, господский интерес, в который не входит мужика по миру пускать! Ждали три деревни и дождались – барин приехал, честь по чести схоронил матушку, вступил в наследство и прогнал управляющего взашей. Сам зажил помещиком. Молодой Звонарев был хорош собой, только очень уж субтильный. На него заглядывались девушки, но барин лишнего себе не позволял и вел себя очень аккуратно. Стали наезжать окрестные помещики с невестами-дочерьми, сватали барину даже соседку, Сонечку Плаксину, такую же малешотную, как и он сам. Но сватовство не заладилось.
Имение понемногу устраивалось, Звонарев добился урожая, а за ними пришли и барыши. На мужицких хатах то тут, то там стали появляться новые крыши. Барин сбивался с ног, поспевал всюду, не ленился самолично объезжать деревни, чтобы посмотреть, как живут крестьяне, честно ли работают и не имеют ли какой нужды. Сам в страдное время спал, не раздеваясь, питался тем, что на бегу ухватит.
И вот в Дубках пришла к нему на поклон Арина, солдатская жена. Ее молодого мужа забрали в прошлый рекрутский набор, и с тех пор бабенка мыкала горе. По тогдашним правилам, поступала на иждивение общины. Но община, не нагулявшая еще жирок после вора-управляющего, не очень-то горела желанием кормить солдатку от своих щедрот.
– Возьми меня, барин, в услужение. Ребятишек у меня нет, сама я сирота, житьишко мое захудалое… Я для тебя стараться буду, а так мне пропадать ни за что.
И поклонилась в ноги барину, махнула русой косой по земле. Звонарев посмотрел на нее – кожа белая, глаза кроткие, грудь высокая – и согласился взять солдатку к себе экономкой. Через четверть часа Арина уже сидела на запятках возка, как была, в ветхом сарафанишке, босая и едва покрытая, только с толстой полосатой кошкой на руках. В первую же ночь кошка задушила в кладовой двенадцать крыс, а уж какой Арина навела порядок, так это не сказать! Скоро и дом господский похорошел, засиял на пригорке новыми рамами, чисто вымытыми окошками. Самовар не сходил со стола, толстая кошка на крыльце намывала гостей, подняв лапку. Из города пошли подводы – везли новые машины, сеялки да веялки для хозяйства, ковры и книги для дома. Стали замечать между прочим, что и Арина прихорошилась. Не та была уже замарашка, что приехала в Звонаревку с пустыми руками, всего и добра было в кошке.
Повезло Арине, именно что повезло! Звонарев не то что не обижал ее, а втюрился в экономку по уши, заласкал и задарил ее. Домотканый сарафан сменился нарядным покупным, а потом и шелковым платьем. Завелись у нее тонкие шали и пуховые косыночки, красные башмачки и часики на цепочке, серьги и кольца. Что и говорить, все это ей шло – лиловые шелка к глазам цвета расплавленного золота, кружевные косынки – к русым волосам, белой коже… Стала Арина причесываться по-господски, а там, глядишь, и с барином за одним столом посиживать. Дело-то было ясное, о них даже не судачили особо. О чем тут говорить? Солдатки, они ж для того и есть, чтобы с ними баловать, это не то что девок портить или мужних жен позорить.
Сожительство барина с экономкой стало практически узаконено снисходительностью приходского священника, молодого и либерального отца Михаила, который не брезговал гащивать у Звонарева, вел с ним заумные беседы во время прогулок, а за столом галантно шутил с Ариной, величая ее Ариной Сергеевной и «хозяйкой сего богоспасаемого дома». Истины ради стоит сказать, что солдатка не зазнавалась, не строила из себя столбовую дворянку, осталась проста, приветлива. В ней обнаружились манеры – она с кем угодно могла поговорить и лицом в грязь не ударить, особенно после того, как стала с барином книжки читать и разбирать. Любила наряжаться, да кто ж не любит? Могла у печи закатать рукава шелкового платья и начать ворочать ухваты, а руки-то белые, круглые! Ходила со своими подругами за грибами и ягодами, мастерски солила соленья и варила варенья. Хозяйства не оставляла, за всем приглядывала сама. Через год родился у Арины мальчишечка, и в тот же месяц пришла весточка о законном ее муже. Страдал, мол, животом и помер в госпитале.
Была Арина солдатка – стала вдова, да только недолго вдовство это длилось. Звонарев удивил всю округу, женился на своей любовнице и мальчонку признал законным.
Преподнес жених невесте бриллиантовое ожерелье баснословной цены, с тремя розовыми жемчужинами посередине. Такого крупного жемчуга в тех краях и не видел никто – самой царице бы под стать это ожерелье, а не то что простой крестьянке, чудом удостоившейся такой чести! Правда, жемчуг – к горю и плачу великому, и дарить бы его не следовало невесте, тем более что и жемчужины имели каплевидную форму, словно три бледно-кровавые слезы… Но новобрачные, казалось, решили не смотреть на приметы и радовались жизни в свое удовольствие. Построили новый дом в деревне Дубки, записанной теперь на имя молодой жены и переименованной в Перловку, разбили парк, стали приглашать гостей. Не стыдясь, делали балы и приемы, и всем, кто соглашался слушать, толковали, что Арина Сергеевна, мол, непростого роду, что произошла она от французского офицера, взятого в полон еще аж в двенадцатом году, и офицер тот был знатной французской фамилии. Брехня вроде, а проверить нельзя никак – Аринина мать приведенка была, никто не знал, откуда она и кто ее родня. А глядя по тому, как сама барская экономка скоренько французскому языку выучилась, может, и правду барин рассказал… И на фортепьянах бойко играть стала, словом, барыня барыней, как тут и была всегда!
За четыре года у новоявленной дворянки еще двое ребятишек народилось. Звонарев надышаться не мог на детей и на жену – брал ее с собой повсюду, куда ни ехал, и вверял ей полностью всю свою казну, все свое имущество, как и душу свою, и сердце. Разве правильно он поступал? Разве можно доверять кому-то, кроме самого себя? Но слишком сильно любящий слеп, и это очень дурно – быть может, Звонарев смог бы предотвратить крушение жизни своей, будь он чуть внимательней, чуть проницательней, чуть меньше доверяй он своей жене!








