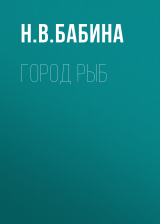
Текст книги "Город рыб"
Автор книги: Наталья Бабина
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 5 страниц)
Наталья Васильевна Бабина
Город рыб
Вите Панасюку, Генке Озимуку, Наде Тетерук,
Марии Корнелюк (Калёнихе), Василию Кравчуку, Ксене Кравчук и всем, кто не дожил.
© Бабина Н. В., 2013
© Подготовка, оформление. ООО «Харвест», 2013
История с лысым чертом
Ох, было времечко, когда меня ужасно мучил лысый черт. Может, даже лучше сказать – чорт. Он таскался ко мне ежедневно и упорно. Поначалу у меня доставало храбрости турнуть его к его чертовой маме, но этот без меры настырный экземпляр – даже существом черта не назовешь – возвращался снова и снова, выскакивал из-под пола в самое неожиданное время, в самых неожиданных местах. Отвратный, смердючий, облезлый… Омерзительный лысый чорт. Поскольку на кону стояла не более и не менее как моя бессмертная душа, я жила тогда в постоянном напряжении. Ежеминутно озираться в страхе, что за дверью шкафа или под крышкой кастрюльки, или в зеркале разверзнутся раскаленные врата ада, – это ужасно. Кто имел дело с чертом, тот поймет, о чем я. Я была парализована страхом. Но однажды, совершенно неожиданно для самой себя, расправилась с чертом раз и навсегда. Открыла средство, могу рекомендовать каждому. Вернее, каждой.
Помню, был вечер после тяжелого душного дня. Совсем измотанная и запаренная я приволоклась домой из города. Стянула с себя платье, содрала влажные на ступнях чулки. Духота усталости смешивалась с духотой грузного тела, я ощущала это и, вытащив из-под себя кровавый подклад, направилась в ванную, чтобы залезть под душ. И тут, в темноватом коридоре, из-за угла на меня набросился черт. Он, наверное, рассчитывал, что, опешив от неожиданности, я не стану сопротивляться. Но его расчет не оправдался. Именно от неожиданности, совсем не думая, инстинктивно, я хлестнула его окровавленной тряпицей – а текло из меня тогда, как из рукава, – по лысому черепу так, что на светлые стены коридора брызнули темно-вишневые капли. И еще раз, и еще, и еще. Ударив первый раз непроизвольно, я уже не могла остановиться и лупила по мерзкой лысине изо всей силы, быстро-быстро, со всей ненавистью, что так долго копилась в моей душе: «Сгинь, сгинь, сгинь, нечистая сила!» И он сгинул. Испуганно заверещал и сгинул. И больше никогда не приходил.
Не знаю, что на него подействовало. То ли кровь месячных обладает магическим свойством, способным отвадить любого черта, то ли черту попросту стало стыдно, что спасовал перед смертной, – так или иначе, но только больше его никогда не приносило. Хотя я долго опасалась, что он вернется, поэтому никогда не пользовалась прокладками, не покупала их, пока этот вопрос был для меня актуальным. Никакая прокладка не помогла бы мне прогнать черта так, как помог пропитанный кровью кусок старой изношенной простыни.
Так что есть прямая польза и от физиологии, даже и от физиологии такой ненормальной бабы, как я.
А запах крови невесть откуда я и до сих пор иногда ощущаю в воздухе.
Катилась торба
После всего, что произошло, я снова приехала сюда. Ненадолго. Прежде чем уехать и больше не возвращаться.
Тут красиво. Красивенно. Седые завесы мелкого дождя делят дали на ярусы: поближе – зелено-серый, дальше – серо-зеленый. Дождинки стекают по лицу, по долгополому брезентовому плащу. Плащ старый, лицо тоже не первой молодости. В этом их схожесть: брезент с годами утратил глянец, лицо – румянец. А душа – прозрачность.
Я стою у самой границы. С противоположного берега Буга, по правую руку от меня, доносятся громкие голоса: какие-то чудаки купаются, несмотря на дождь, окликают друг друга. Слева слышна русская речь. Дачники, чьи скособоченные дворцы еще не купил Толик-алкоголик, даже в ливень на страже своих огородов.
В брезентовом плаще и резиновых сапожищах, с двумя шрамами на теле – один на животе, другой на спине, пальцы рук недавно срослись после переломов, а мозоли еще не сошли – я стою на узкой полосе приграничного луга. Дождь льет и льет, луговая трава полегла под слоем воды. У самых моих ног медленно проплывает в дождевом потоке ящерица (яшчорка, как говорят у нас), ярко-зеленая, с изящным желтым узором на спинке. Это редкая яшчорка. В детстве, поймав такую, мы радовались гораздо больше, чем когда удавалось добыть блеклую серенькую – сереньких было много.
Растопыренные лапки ящерицы удивительно похожи на крохотные ручки ребенка.
Луг. Нескончаемый дождь. Рифленая поверхность дождевого потока. Ящерица с ладошками младенца. С одной стороны – Польша, с другой – Россия. А я стою и стою на узкой зеленой полосе пограничья. Или приграничья, которое с обеих сторон. В шелесте дождя (не знаю точно, с какой стороны) отчетливый шепот:
В этом шепоте то ли укор, то ли насмешка, то ли грустное снисхождение. А может, все вместе. Это шепчет земля, насыщенный влагой черный ил, за века нанесенный сюда Бугом. Затаенный, но внятный, вездесущий голос земли.
Скатилась торба, да прямо мне в руки.
Торба ценою в жизнь.
Подставляешь руки, чтобы поймать торбу, а ловишь смерть.
А потом стоишь одна под проливным дождем, и дождинки струятся по увядшему лицу, по брезентовому плащу цвета хаки, по зеленым резиновым сапогам.
Вот вытру морду, посмотрю еще раз на ярусы, какими дождь поделил пространство, и пойду домой (там сохранился уголочек непорушенный, где можно спокойно сидеть и писать), да и задокументирую все по порядку. А когда закончу – уеду, и больше сюда не вернусь.
Наверное, это будет повесть, должна сказать, что не все в ней – вымысел, не все совпадения с реальными людьми и событиями случайны. Однако если из-за этого ко мне явятся литературоведы в штатском, я от всего отопрусь. Сумею.
Норы во времени
Любимейшее мое занятие – рыть норы во времени. Когда врезаюсь в прозрачные пласты четвертого измерения, то в свисте и звоне, вне каких-либо временных рамок, тоже иногда слышу шепот земли. Но редко.
Страдче, Любче и Добратиче
Все в моей жизни пошло наперекосяк буквально с момента рождения.
Вопреки советам своей матери, а моей бабушки, рожать мама отправилась в недавно открытую в соседней деревне больничку. Баба Мокрина, не видя в этом никакого резона, с палкой в руке отговаривала дочку от решения рожать в больничке. Но бить беременную на сносях все же не осмелилась. Поэтому мама настояла на своем. Все-таки она была учительница, образованная молодая женщина, верила в прогресс и научную медицину с ее правилами гигиены. В прогресс и научную медицину верил и фельдшер, который принимал роды у мамы. Но то ли из-за того, что опыта ему недоставало, то ли из-за того, что помимо прогресса он еще и водочке поклонялся и постоянно был под хмельком, приключилась с ним незадача. Как только он принял у мамы ребенка (а это была моя сестра Ульянка – Влянця, как говорят у нас), тут же принялся зашивать разорванную мамину промежность, сосредоточившись на том, чтобы накладывать швы ровно.
– Ну, как же, нельзя не зашивать, – отвечал он на просьбы роженицы не мучить ее. – Матка будет между колен болтаться. Некрасиво!
И продолжал шить. Мама, само собой, кричала, орала от боли, потому что, когда твои мышцы пронзают толстой иглой, да по свежей ране, да без анестезии, боль становится адской. Мама ничего не чувствовала, кроме боли, поэтому для нее, как и для фельдшера (фельчара, как говорят у нас), было полной неожиданностью продолжение родов: разрывая только что наложенные швы, на свет божий устремилась я.
– Что за холера?! – оторопел фельдшер. – Еще что-то лезет!
В педучилище, которое окончила мама, рожать не учили, поэтому мама не знала, что это за «холера». Да что она могла сказать растерянному эскулапу? Она сама не понимала, что происходит, да и слова произнести была не в силах: во время схваток тело сводила судорога, а когда отпускала, все равно было не до разговоров. Отдышаться бы хоть немного. Эскулап же бессмысленно таращился на то, что медики именуют родовыми путями и что в обычной жизни мы, не медики, стараемся никак не называть: обрамленные темной щетинкой, поскольку волосы перед родами сбривают, темные пульсары путей раскрывались все больше, полные пунцовой крови и маминой боли. На мое счастье, в это время в палату вошла санитарка. Она и подхватила меня из-под рук остолбеневшего работника народного здравоохранения, благодаря чему я не грохнулась на пол, она же удержала его от повторного наложения швов, пока не отошла плацента (мисцэ, как говорят у нас).
Через час в Добратичах уже знали, что дочка Мокрины Ева родила двойню. Двух девочек.
Когда санитарка обмыла нас с Ульянкой и запеленала, мы, рассказывала мама, сразу перестали кричать, лежали тихонько и с любопытством (так она утверждала) таращились на стены и окна одинаковыми темными глазенками. Не только глазенки были у нас одинаковые, мы были похожи одна на другую точь-в-точь, всеми черточками, что сразу увидели и мама, и санитарка, и даже осоловелый фельдшер, который к тому времени успел снова приложиться к чарочке. Он удивился, что мы лежим тихо, и сказал, что, коль скоро мы лежим тихо, значит, нам хорошо. А мы, думаю, не кричали лишь потому, что не представляли дальнейшего. Не знали, что нас ждет. Не знали, что люди рождаются не для того, чтобы им было хорошо. В лучшем случае они приходят в этот мир, чтобы стало хорошо кому-то другому.
Хотя мы с Ульянкой абсолютно похожи, нас различали легко: я хромаю. Врачиха в Бресте, куда мама повезла меня, с ужасом обнаружив мою хромоту, сказала, что это последствие родовой травмы: дитё, то есть я, шло из маминого чрева ножками вперед. Она успокоила маму, уверяя, что хромота пройдет. Но я так и осталась хромоножкой. Правда, это почти незаметно. Даже не скажешь, что я хромаю, так, чуть прихрамываю.
Когда мы с Ульянкой родились, стояла поздняя, уже уверенная весна. Таких весен в наших краях сейчас уже не бывает, но я хорошо ее помню: порывы ветра еще холодные, на песчаных, поросших исландским мхом пригорках качаются ивы с пушистыми кремово-белыми котиками на плакучих ветвях; на откосах железной дороги цветут занесенные сюда со щебнем молочаи; белые крохотные пятилепестковые цветочки какой-то разновидности мокрицы колеблются на фоне коричневого мха лесных прогалин. Желтые головы калужниц над разливами стариц. Мягкие краски земли. А людей почти не видно.
А еще той весной деревянные столбы на границе заменяли бетонными, которые простояли лет тридцать. Только колючую проволоку на них обновляли регулярно.
Ни о маме Еве, ни о папе, которого звали не Адамом, а Анатолием, – мама звала его Толиком, – речи в дальнейшем не будет, но я не могу не сказать о их судьбе: они погибли, когда нам с Ульянкой было по девять годочков. Сейчас я не помню даже их лиц (у меня вообще слабая память), не помню, чем они жили духовно, что они были за люди. Не представляю их образов. Но, кажется, стержнем маминой жизни (после боязни голода – вечной фобии всего нашего края, которая не раз в разные времена становилась явью) была боязнь «машинерии»: мама боялась автомобилей, железной дороги, электрического тока, всяческих бытовых приборов и даже лекарств – всего того, что приносил прогресс. А ведь как учительница младших классов она должна была все это пропагандировать детям. Но она боялась не только «машинерии», всевозможные страхи преследовали ее на каждом шагу. Стоило отцу задержаться где-нибудь дольше, чем на десять минут, мама темнела лицом, становилась хмурой, а потом начинались стенания типа: «Ну все, нет больше нашего папки. Дорога от станции безлюдная, темень. Шандарахнул его какой-нибудь бандит по голове, лежит наш папка под кустом мертвый!..» Стенания эти наводили на нас с Ульянкой ужас.
Благодаря Толику, нашему папке, я и Ульянка говорим по-русски почти без акцента – с самого нашего раннего детства он общался с нами только по-русски. А он выучил русский язык самостоятельно, поскольку дед с бабкой, естественно, его не знали.
Отец, что называется, вышел в люди. Причем настолько, что завод, на котором он работал в Бресте, дал ему квартиру, а через год подошла его очередь на машину, за которой он отправился в город Тольятти, на Волжский автозавод, вместе с мамой. Мама, несмотря на свой панический страх перед «машинерией», до такой степени возжелала «Жигули», что ради них стала беречь каждую копейку, экономила на всем абсолютно: кормила семью впроголодь, одевалась сама и одевала нас с Ульянкой в собственноручно сшитые платья из самой дешевой ткани и в пальто из дрянного уцененного драпа. И платья и пальто надтачивала по несколько раз, от чего они становились еще уродливее.
Долгожданные «Жигули» цвета морской волны, на которых родители возвращались с ВАЗа, кувыркнулись в кювет где-то под Минском. Домой родителей привезли в гробах.
Я давно уже не разглядывала, не брала в руки те несколько фотографий, на которых запечатлены мама Ева и папа Толик. Они хранятся у бабы Мокрины, захватанные на обороте пальцами, – эти порыжелые отражения давным-давно минувших мгновений жизни.
Фамилия папы была Годун, как и девичья фамилия мамы. Поэтому маме не пришлось менять паспорт, когда она вышла за отца. Мне не раз говорили, что я очень похожа на бабушку Ульяну, мать отца, а Ульянке почему-то никогда этого не говорили, хотя имя ей дали в честь той бабушки. Бабу Ульяну я помню смутно, вижу ее как в тумане, и вижу даже не черты, а общее выражение – выражение бесконечной доброты и беззащитности в глазах, в морщинах. По определению бабы Мокрины, баба Ульяна была нэдолэнга – этим словом баба Мокрина характеризует многих женщин, тех, к примеру, кто позволяет себя бить. А баба Ульяна в молодости, пока не подросли сыновья, частенько бывала бита мужем, который, кстати, был на голову ниже ее ростом.
Фельдшера и санитарку я потом несколько раз видела. Ее – в церкви в Страдичах: худощавая женщина с коричневым лицом, с большими разбитыми работой руками, одетая по извечной здешней моде – каптанчик, сподныця, шалянивка[2]2
Кофточка, юбка, платок (местный говор).
[Закрыть]. Его – когда приезжал по вызову к соседям. У фельдшера лицо было круглое, раскормленное, в красных тоненьких прожилках, пальцы толстые, негрязные. Одевался он в брестском магазине «Одежда» и постоянно избирался депутатом местного совета. Как представитель местной интеллигенции. И он, и санитарка уже на том свете. Нет больше и Дурицкой сельской больнички, где произошло наше с Ульянкой первое знакомство с этим миром. Ибо Дуричи переименовали в Знаменку. И больничка, соответственно, стала Знаменской. И это изменило, надо полагать, ее сущность.
Дорога из Дуричей (или правильнее – из Дуричего, поскольку в то время село еще называли Дуриче), по которой нас везли из больнички, вьется по ровному полю вдоль границы; вшивые хуторки еще маячат под теплым солнцем, по левую руку – гадючья дубрава, болото; дальше – мимо Горы, с которой видны дома Страдчего, мимо кладбища, затем снова болото – белые, как хлопок, пуховки ситника, камыши над рыжей водой, желтые ирисы. В одном месте у самой границы, у колючей проволоки, если стать на цыпочки или подпрыгнуть, можно рассмотреть в отдалении яблони и кусты сирени – особенно заметны они весной, в цвету. Там, где сирень, стояло село Добратиче. Раньше. До тридцать девятого года. До тех, первых, советов. До прогресса и гигиены. В тридцать девятом здесь протянули границу, а людей переселили далеко на восток – чтоб не мешали ее, границу, охранять.
Страдче, Любче, Добратиче, Дуриче – я еще застала такое произношение, с мягким ч – названия окрестных сел. Я нашла их в инвентаре за 1566 год. Мол, чьи это сельца? Некоего Страды, некой Любы, некоего Доброты да какой-то Дуры… Замирая, я вчитывалась в ветхий древний документ в Луцком архиве, будучи студенткой на практике. Про Любче никто у нас и не слышал, и следа не осталось от этого сельца в сорок домов. Оно пропало. Не стало села некой Любы. А остальные дожили да наших дней, хотя и перебрались на новые места и названия их изменились. Стали звучать так: Страдичи, Добратичи, Дуричи. В Дуричах родились, а в Добратичах жили мы с сестрой.
Тут, в Страдичах, Добратичах, Дуричах, несколько веков маялись без толку и ладу мои земляки – существа без лиц, холодные, в чешуе и слизи. В норах. Несознательные такие и грязные. Низшей наценочной категории. К счастью, их больше нет. Прогресс, гигиена и советы победили. Теперь тут все в полной норме. Колышутся под теплым солнцем в потоках воздуха призраки вшивых хуторков, призраки гадючьих дубрав.
Неподалеку отсюда, в Комаровке, родился первый, так сказать, белорусский космонавт Петр Климук[3]3
Придуманное автором лицо.
[Закрыть]. В Заказанке (Заказани) – Андрей Дынько[4]4
Придуманное автором лицо.
[Закрыть], героический главный редактор «Нашей нивы»[5]5
Старейшая белорусская независимая газета, которую власти то и дело стараются закрыть.
[Закрыть]. Из Гершонов – композитор Игорь Корнелюк[6]6
Придуманное автором лицо.
[Закрыть]. А в наших Добратичах живет, как вы, наверное, знаете, Михась Ярош[7]7
Придуманное автором лицо.
[Закрыть].
Не пригласи я нашего знаменитого поэта Михася Яроша в дом, не произошли бы два убийства.
Протестанты не построили бы себе новый молитвенный дом, высокий – аж до неба.
Не летал бы тут туристический прогулочный дирижабль последней модели, блестящий, медленный и одновременно быстрый, насквозь прозрачный.
Много чего не случилось бы, вынеси я свой ноутбук во двор. Но мой старенький ноутбук, когда работает не от сети, всячески брыкается и откалывает разные неконтролируемые номера, поэтому я пригласила Михася в дом, и вскоре после этого зазвонил телефон.
Велком в Добратичи
Добро пожаловать в Добратичи. Вся эта история (опасная, как сама литература; даже трудно поверить, что все это случилось со мной) произошла именно тут, в деревушке, прославленной, но, видимо, все-таки и приукрашенной в стихах Михася Яроша – человека, талантливого настолько, что о нем слышал каждый двадцатый из опрошенных не только в Европе, но и в Беларуси. И это несмотря на то, что он пишет по-белорусски! А впрочем, он пишет и по-украински.
Деревня стоит в светлом сосновом лесу, и сосны, которые у нас называют барьяки, тут действительно похожи на людей; тут на самом деле кругом пески, но, конечно же, не «дюны невидимого моря»; поблизости нет ни видимого, ни невидимого моря, нет и реки, есть только несколько родничков, один – с соленой водой. Сейчас, когда можно пройти к Бугу, дорога занимает пятнадцать минут, но тогда к Бугу было не добраться – граница, холера, колючая проволока, контрольно-следовая полоса, сигнализация… Да, с купанием в наших местах тогда были проблемы. Поэтому популярностью пользовалась небольшая бухточка у шлюза мелиоративного канала – туда часто приезжали поплавать и отдохнуть у воды даже из Бреста.
Не соглашусь и с тезисом о «безмерном безлюдье, безграничном одиночестве» в Добратичах, о которых пишет Михась. Конечно, во времена моего – да и Михасева тоже – детства любой человек среди старых сосен и осин воспринимался как событие; чаще здесь носились хорьки, беленькие ласки и полосатые дикие поросята, но потом вокруг леса разрослись раковые опухоли дачных поселков, у деревни построили железнодорожную станцию, звери отступили, зато насели дачники.
Может быть, Михась имел в виду, что их нельзя назвать людьми?
Напрасно. Это сливки общества. Лучшие из лучших. Садовые товарищества в округе называются «Ветеран», «Защитник Отечества» и «Радуга». Моя бабушка, последняя могиканша старого Добратыче, всегда разговаривает с дачниками особенно почтительно – как с людьми, которые руководят миром. Бабе девяносто семь, и когда какой-нибудь очередной майор или подполковник в отставке в полинялых, обвислых на заднице и с пузырями на коленях синих штанах подходит к нашему забору, она каждый раз предлагает ему попить водочки и подает кружку, декоративно запачканную куриным пометом.
Бабушка моя нищая духом. Из тех, кому уготовано царствие небесное. Если б она не преодолела греховное искушение и покончила с собой, что намеревалась сделать лет двадцать тому назад, то, безусловно, этого царствия она не увидела бы, а так – нет проблем. Увидит.
В эпоху дач в Добратичах появились заборы и ограды. Раньше ничего подобного не наблюдалось. Обходились веткой на ручке двери или веником у порога – знак того, что дома никого нет и хозяева просят без них в дом не входить. А сейчас тут обносят высоченными заборами и закрывают на замок все, что легче тонны и не раскалено добела. Вместо Горы, болот, поля – халупистые дворцы дачников. Гадюки из уничтоженной дубравы расползлись по парникам и теплицам. Раньше здесь опасались только цыган, а теперь – один одного.
Однако пора вернуться в тот июньский вечер, когда вооруженный парень открыл нашу калитку и вошел во двор.








