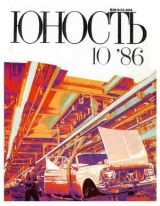
Текст книги "Свидание с другом"
Автор книги: Надежда Вольпин
сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 8 страниц)
И не забыла я те слова, сказанные дедом Титовым зятю: «Не тот отец, кто породил, а тот, кто вырастил» Однако же за все годы дружбы и близости моей с Есениным я не слышала от него ни слова осуждения об оскорбленном его отце. Напротив, он даже уверял меня, что как раз отцу обязан своим поэтическим даром: тот любил стихи и сам сочинял частушки. Однажды Есенин прочел мне две-три из них. Как я потом жалела, что не постаралась их запомнить!
Ну, а мать по его словам любила народные песни, знала их множество, распевала. И знала наговоры от всех бед, какие только могут выпасть человеку.
В ЗАЛЕ ЛАССАЛЯ
Я сижу за столом, гоню заказ Сметанича (Валентина Стенича: перевод Честертона – «Жив Человек»). Выйдет под его именем, получу половину гонорара. Да, таковы были тогда литературно-издательские нравы! Я «с чистой совестью» позволяю себе оставить заказчику хоть четверть работы – а по неопытности оставляю чуть что не три четверти! Зато совместный просмотр и правка начальных глав оказались для меня первой и очень много мне давшей школой перевода! Срок поджимает, но дальше я перевожу и смелей и лучше – так расценит заказчик успехи своего «негра».
Мою работу прерывает Есенин. Входит, приглашает поехать «со всеми» (то есть с группой ленинградских «воинствующих имажинистов») на его вечер в Зале Лассаля.
Мне и самой хочется. А уж это его «непременно, непременно!» – прозвучало для меня приказом.
«Воинствующие» сидят не в президиуме на сцене, а где-то в ложе. С ними и я. Сергей не сразу приступает к чтению стихов. Сперва – разговор с аудиторией. Сказать по правде, довольно бессвязный. Поэт на взводе. Говорит он, если все увязать, примерно следующее: страна на новом пути, вершится большое и небывалое, а вот он, Сергей Есенин, на распутье, не знает, чего требует от него поэтический долг, чего ждет Родина от своего поэта. «Понимаете, я растерян, вот именно, растерян». Слова о растерянности прозвучали не раз и не два. Оратор топчется на месте. То встанет, то снова сядет на эстраде к столу, боком к слушателям: те в нетерпении. Да уж ладно, кричат ему, все понятно, прочитайте лучше стихи.
Это было то, что М. Ройзман назвал в своей последней книге неудачной первой половиной вечера. Но, возможно, именно неудачное начало определило тем больший успех выступления: стихи Есенина прослушаны были с жадным вниманием, с восторгом. Хмель, казалось, рассеялся, поэт читал с подъемом и при огромном ответном жаре аудитории. К сожалению, не помню, что именно было им прочтено – для меня все уже знакомое, верно, потому и не запомнилось. Я хотела в тот час понять, почему он так настойчиво звал меня. Просто ли заговорила все та же «неизжитая нежность»? Или так уж дорого казалось присутствие каждого благосклонного слушателя? Он опасался холодного приема – ленинградцы слывут в Москве поборниками классицизма... Но «недоброжелатели», если они ему чудились, предпочли отсиживаться дома. Так или иначе, это была большая победа поэта. Он сошел с эстрады с сознанием, что город – Петербург его юности – покорен.
Возвращались всей дружной поэтической семьей. Подрядили двух «центавров», как любили здесь называть извозчиков, и уже собирались рассеяться, когда к Сергею пробилась женщина с просьбой об автографе – невысокая, с виду лет сорока, черненькая, невзрачная... Назвалась по фамилии: Брокгауз.
– А... словарь? – начал Есенин.
– Да-да! – прерывает любительница поэзии (или автографов),– это мой дядя!
– Здесь неудобно. Едем с нами! – решает Есенин и втаскивает «Брокгаузиху» в пролетку, и без того уже переполненную. Чуя щедрые чаевые, «центавр» не спорит.
Мы давно на Гагаринской, в просторной кухне Сахаровых. Подав чай, хозяйка, Анна Ивановна, удалилась к себе. Идет сбивчивый и счастливый разговор о вечере. Кто-то – не Семен ли Полоцкий? – читает стихи. Без всякого внимания к молодому имажинисту, наша гостья подходит ко мне, к единственной женщине. Просьба о гребенке. Я даю. Приведя прическу в порядок, она словно бы из вежливости спрашивает:
– А вы тоже пишете стихи?
Что-то в ее тоне не понравилось Есенину. Не дав мне ответить, он вдруг прикрикнул на гостью:
– Вы ее не задевайте! Она очень умная! Она слово скажет, как ярлык приклеит!
Никогда раньше я не слышала, как Есенин расценивает меня с этой стороны. Считает очень умной? И меткой в оценках? Заслуженно ли?
...Гостья распрощалась. Никто не вызвался ее проводить. Видно, «воинствующие» ленинградцы не лучше воспитаны, чем москвичи, всегда толкующие женское равноправие в мужскую пользу. Вольф Эрлих спрашивает Есенина, с чего ему вздумалось прихватить «эту дуреху».
Ответ несколько неожиданный:
– Знаешь, все-таки... племянница словаря!
ТЫ В УМЕ, СЕРГЕЙ?
Май двадцать четвертого. Квартира Сахаровых. Я все еще связана с этим жильем. Сижу у себя, гоню – надо бы кончить до родов – свой «негритянский» перевод. Меня перебивают на полуфразе: входит Есенин с Александром Михайловичем.
Я встаю. Сергей развалился в кресле. И бросает мне несколько злобных слов. Я молчу. У Сахарова перекосилось лицо.
– Ты в уме, Сергей? – и уволакивает его.
А через несколько часов Есенин подкараулил меня, когда я собиралась выходить.
– Пойдем вместе,– роняет он.
Точно и не было давеча его грубой выходки. Я говорю о пустяках.
– Какая у вас, и сейчас легкая поступь,– замечает Сергей.
Я думаю о своем. И через минуту слышу:
– Все-таки вы удивительная женщина!
Промолчала. Думаю про себя: чем же «удивительная»? Что ничего от тебя не требую, ничем не корю? Но ведь я с самого начала так поставила: ребенок будет не твой, не наш, а мой.
Вспыхнуло в уме: а всю ли ты правду сказал, что стихи о бабушке? Они и о ней, о родной твоей матери тоже!
НУ, ЕСЕНИН!
Лето двадцать пятого года. Я на даче. Под Ленинградом, в Вырице. Это чуть не в шестидесяти километрах от города. Зато здесь хоть сухо. Дачу сняли вместе с Сахаровой – она заняла верх, я внизу. Анну Ивановну соблазнило, что я держу «живущую» няню – можно будет, уезжая в город, оставлять на нас детей. А ездить ей часто – у нее что-то вроде волчанки, лечится. И странное дело: без этой огромной язвы на лице она воображается просто красавицей! Так во всяком случае кажется моей маме (она гостит у меня на даче). Лицо у Анны Ивановны очень милое, но вряд ли даже в первой молодости была она впрямь красива.
Где-то во второй половине лета приехал навестить семью и сам Александр Михайлович. Привез новую песню Есенина. Все напевает неожиданно приятным голосом:
Есть одна хорошая песня у соловушки,
Песня панихидная по моей головушке
Как-то подошел к моему малышу, поднял высоко в воздух.
– Ну, Есенин, покажись, какой ты есть!
Мой годовалый Александр Сергеевич очень ко всем приветлив. Вот и сейчас с готовностью пошел на руки к «чужому дяде». Тот мурлычет:
…Как гитара старая и как песня новая
С теми же улыбками, радостью и муками,
Что певалось дедами, то поется внуками
Ставит мальчика наземь. Отворотив лицо, говорит:
– Сергей все спрашивает, каков он, черный или беленький. А я ему: не только что беленький, а просто, вот каким ты был мальчонкой, таков и есть. Карточки не нужно.
– А что Сергей на это?
– Сергей, сказал: «Так и должно быть – эта женщина очень меня любила».
Не знаю, что больше меня удивило – самая ли мысль Есенина, что любящая непременно родит ребенка, похожего на отца? Или то, что он отозвался обо мне «эта женщина»? Не «она», не «эта девушка», как в те годы стали у нас называть всякую молодую женщину. Знаю, он теперь пишет мой вымышленный портрет: очень взрослая женщина, которая «сама за себя отвечает». Ведь и при второй нашей встрече в больнице (в тот раз, при Гале) он вдруг заспорил, что я старше, чем была на деле. Или и впрямь понимает, что со стороны (а может, я в собственных глазах) его поведение со мною выглядит не слишком красиво? Что и говорить, многие его осуждали, считали передо мною виноватым, но только не я сама. Меня, напротив, тяготило сознание собственной вины перед Есениным. Навязалась ему с четвертым! Более того: отступилась от него, променяв на этого нежеланного четвертого. В глазах Сергея это было с моей стороны предательством.
Да и то сказать: в те годы согласие женщины на аборт подразумевалось как нечто само собою ясное. Я шутила: аборт сейчас у нас главное противозачаточное средство.
ПОСЛЕДНЯЯ ВСТРЕЧА
Поздняя осень двадцать пятого. Вскоре после недавнего приезда Есенина в Ленинград (предпоследнего) «воинствующие» передали мне, что Анна Ивановна Сахарова просит меня зайти к ней: есть деловой разговор.
Я на Гагаринской. Анна Ивановна сообщает:
– У нас тут гостил Есенин. Просил меня дать ему ваш адрес. Я не дала. Сказала: сперва спрошу у нее, разрешит ли... Придете, а она вас с лестницы спустит. Уж я б на ее месте спустила!
Я еле сдержала крик досады и боли.
Сергей не только принял как должное, что я «спущу его с лестницы», но даже стал утверждать, будто я так именно и поступила. И сам поверил в свою выдумку. Поверил тем легче, что еще в августе двадцать четвертого года, когда моему сынку было всего три месяца, случилось так: я шла с няней и с ним по Гагаринской – няне надо было навестить свою семью (все в том же сахаровском дворе), а я должна была покормить грудью ребенка да заодно зайти по делу к Анне Марковне, соседке и давней подруге Анны Ивановны. Издали вижу – навстречу идет Есенин. Делаю няне знак, чтоб она с малышом на руках перешла на другую сторону. Няня подчинилась крайне неохотно, а у Сергея пробежала судорога по лицу. Затем я, как ни в чем не бывало, перекинулась с ним двумя словами – знала, что он собирается на Кавказ, даже думала, что уже уехал из Ленинграда... Отсюда и родилась сплетня, будто я «не позволила Есенину даже посмотреть на ребенка», за что младший брат Сахарова сильно меня осуждал. Нет, прямого запрета не было: когда бы сам пришел ко мне домой, с лестницы не спустила бы. Но я не захотела показывать сына при случайной встрече, да еще на этой улице, где встреча не могла показаться Сергею случайной: подумал бы, конечно, что я сама ищу встречи. Я же, напротив, дала ему знать через друзей, что прошу не приходить, пока не отлучу маленького от груди.
Я, понятно, разрешила Анне Ивановне дать мой адрес Есенину. Но в его последний приезд в Ленинград мы разминулись: о рождестве я поехала с сыном на две недели в Москву.
И еще мне рассказали тогда у Сахаровых, будто в тот свой приезд Есенин ходил на Мойку с мыслью утопиться. Но хмурая, осенняя река посмотрела на него холодной, неприютной,– не упокоит такая могила! И отказался от замысла, отложил...
– Сами знаете,– сказал мне Александр Михайлович,– он уже раз пробовал такое, вену вскрывал...
– Тогда, в двадцать четвертом году? Та черная повязка на руке?
– Ну, да! А вы что, поверили, будто он стекло подвальное продавил? Ясно же было: аккуратненько вену перерезал. Нигде, ни на руке, ни на одном пальце ни царапины. Да как вы могли поверить?
Я тогда гнала от себя страшную догадку. Ведь черную повязку на руке Сергея я увидела в канун родов.
Та встреча на Гагаринской обернулась моим последним свиданием с Есениным.
ПО ТУ СТОРОНУ
Известие о гибели Есенина настигло меня в Москве. Как удар в грудь.
Двадцать шестой год. Первые дни января. Со всех сторон люди считают нужным рассказать мне, что знают, что слышали о последних неделях и днях Есенина... И здесь, в Москве, и в Ленинграде, когда вернусь...
Я у Анны Марковны. Она отличная портниха и близкая подруга Анны Ивановны Сахаровой. Крупная, броско красивая зрелая женщина с восточными огненными глазами и мощной грудью. Ее молодой муж, записной бело-розовый красавчик Коля (полного имени его я никогда не знала, для всех вокруг он просто Коля), напустив на себя многозначительный вид, рассказывает мне:
– Очень Сергей расстроился, когда Анна Ивановна отказалась дать ему ваш адрес. Они потом, пил со мной весь день, вместе и заночевали. Все повторял:
– Как же я низко пал, если Надя Вольпин… Надя… она любила меня больше всех... И Надя спустила меня с лестницы!
Не «должна спустить», а «спустила»! Это больше всего поразило меня (и это кое-что сказало бы психиатру). Отметив про себя в рассказе Коли это слишком торжественное «низко пал», я переспросила:
– «Спустила»? Он так и сказал?
– Да, именно так. Но я-то понимал, что не ходил он к вам, ведь и адреса не знал.
И Коля с похвальбой в голосе добавил:
– Ну, я как мог утешил его. Дело, говорю, поправимое. Вы к ней не пустой придите, с хорошим подарком, купите что-нибудь этакое... подороже... уж как положено! А он все повторяет свое: «Как я низко пал!». Так всю ночь и проплакал.
Больно было слушать. Коля с его «мудрым», житейским советом... Вот какими людьми был окружен в последние свои недели Сергей Есенин – верней, окружал себя... И вспомнилась мне зима с двадцать третьего, на двадцать четвертый: как истинные друзья Сергея Есенина – в первую голову Иван Васильевич Грузинов —стараются выслеживать ночами Есенина по московским кабакам, приводить на место надежного ночлега, привлекая к этому делу даже меня... И вдруг пронзила мысль: а первый-то друг, Анатолий Мариенгоф? Он полностью снял с себя эту заботу!
Был в те первые послереволюционные годы в Камерном театре актер– не на ведущих ролях – Оленин. Полного имени его не помню, а звали его в нашему кругу Аликом Олениным. Он дал себе тяжелый труд выучить наизусть раннюю есенинскую поэму «Товарищ», первый отклик поэта на февральскую революцию. Поэма была напечатана в мае семнадцатого год и рисуется мне предвестницей блоковских «Двенадцати». Поэзия Есенина давно оставила позади этот ранний опыт. Прозвучал «Небесный барабанщик», «Сорокоуст», «Пугачев». Прочтены друзьям и «Страна негодяев», и «Черный человек». А наш Алик Оленин, знай, читает с эстрады «Товарища». Эффектно читает. Особенно заключительный выкрик:
Железное
Слово
«Рре-эс-пу-у-ублика»
Над чтецом уже давно посмеиваются. Есенин несколько раз просил его добром больше «Товарища» не читать. Как горох об стену! Поэт наконец пустил в ход сильное средство: официально – от Ордена имажинистов – актера предупредили, что если он еще раз позволит себе прочесть с эстрады «Товарища», то «в уплату получит по морде». Подействовало.
Не прошло однако и недели со дня смерти Сергея Есенина. В московском Доме печати вечер памяти погибшего поэта. Одним из первых выходит на эстраду Алик Оленин и читает... ну, конечно же, «Товарища»! Ох, и хотелось мне, чтобы кто из друзей в память ушедшего выдал чтецу обусловленную плату.
Нет, никто не счел нужным «расплатиться»...
Я шла с вечера домой, думая о том, как теперь в памяти людской беззащитен поэт: от зависти тайной и злобы открытой, от ядовитой клеветы друзей.
Год двадцать шестой. Январь или февраль?
Приехал в Ленинград мой двоюродный брат Валентин Иванович Вольпин. Привез подарок: недавно вышедшие из печати три тома «Собрания сочинений» Есенина (напомню: четвертый том первоначальным планом не был предусмотрен, и самая мысль о нем возникла лишь после смерти поэта).
Печальный дар! Но очень желанный.
Время шло. Я давно снова живу постоянно в Москве, на Самотеке. Год тридцать девятый (или сороковой?).
Как-то иду по Самотечному бульвару, и навстречу мне Анатолий Борисович Мариенгоф. Он горячо жмет мне руку, как дорогой родственнице. Точно в прошлом вовсе не старался, как только мог, оттягивать от меня Есенина. Говорит:
– Мне очень хотелось бы познакомить наших сыновей. Пусть они растут друзьями. Такими, как мы с Сергеем! Пусть возродят нашу молодость!
Я не возражаю, хоть и не верю в искусственное возрождение молодости, ни в дружбу по заказу. Уговариваемся, когда ему прийти ко мне со своим Кириллом...
Однако, ни дружбе, ни даже знакомству сыновей не суждено было завязаться... Через несколько дней я узнала, что Кирилл – ему тогда было лет шестнадцать – покончил с собой. Тем же способом, что и Есенин.
И мне представилось: сын Мариенгофа через долгие годы завершил своею смертью ту длинную череду самоубийств, которой якобы отозвалась Москва на гибель Сергея Есенина. То была переломная полоса. Многие, многие тогда свели счеты с жизнью. И чуть не каждый, в чем бы ни была причина его самоубийства, считал нужным оставить рядом с предсмертной запиской раскрытый томик Есенина. «Никого не винить». Или скажете, «некого винить»? Ан есть кого: вините поэта!
На этом я позволю себе – без послесловий – оборвать мои записи. Как самочинно оборвал свою жизнь Сергей Есенин.
1984
ВМЕСТО ЗАКЛЮЧЕНИЯ
Южный ветер
Февральский ветер южный,
Ты саднишь сердце мне,
Как память прежней дружбы,
Как свет в чужом окне.
Скрипел под килем гравий,
Горели три огня.
Закат лениво грабил
Руду слепого дня.
«Прощай, Надия,– кормчий
Неласково сказал,—
В солончаковой почве
Не прорастет лоза»
И он ушел – по ветру
То имя расплескать,
Что мне дала в примету,
Любя и веря, мать.
Бывают страшны штормы
Бывает зыбь страшна,
Но пыткой самой черной
Измает тишина.
Тот искус был иль не был?
Простор два года пуст
Два года пусто небо,
А воздух сух и густ
Ты все ж вернулся, блудный!
Что счастьем назовут?
...На дальнем рейде судно
Тонуло, сев на ют.
И я сквозь сумрак древний
Успела прочитать
То имя на форштевне,
Что нарекла мне мать.
Не взмах руки горячей.
Не лоб высокий твой:
Как великан незрячий,
На берег шел прибой.
Пришел. Чужой, недужный,
Залег меж серых скал.
Он шею гнул натужно
Он плечи разминал.
С набухшей гривы молча
Он пену отжинал...
А ночь над миром волчьим
Склонилась, как жена.
И память прежней дружбы
Томила сердце мне,
Как в стужу ветер южный,
Как свет в чужом окне.
Надежда Давыдовна Вольпин (р. 1900) – поэт и переводчик, посчитала своим долгом воссоздать образ Есенина, отличающийся «от привычного канона», придуманного современными литературоведами. «Передать в будущее ценителям поэзии Сергея Есенина его живые слова, пронесенные памятью сквозь всю мою долгую жизнь,– такова была моя задача при осуществлении этих записей»,– подчеркивает автор в предисловии.
Воспоминания Н. Вольпин – не погоня за призраком былого, давно минувшего и забытого, а сама ее жизнь, продолжившаяся во времени от далеких 20-х до близких нам 90-х годов. Ее вольный рассказ о былом строго документален реальными фактами есенинской эпохи, облагорожен личными переживаниями, чувствами, мыслями, когда опускается все второстепенное, лишнее, но усиливается дорогое и близкое... Как это выражено в ее стихах, относящихся к 1921 – 1922 годам:
Ночь, когда звенел над нами
Разлучающий гудок,
Подарила мне на намять
В звезды вышитый платок.
Я его в те дни на клочья
Разорвала,– что ж теперь
Перематываю ночью
В песни звездную кудель?
Может, дождь стучал по кровле —
Постучит и замолчит?
Песня, раз на полуслове
Оборвавшись, отзвучит.
Повествование Н. Вольпин и есть продолжающееся «свидание с другом», где по-прежнему преобладают эмоции, не утратившие подлинности больших чувств. «Я все о том же. Все в котомке воспоминаний горький хлеб»,– восклицает она. И котомка та полна всего, что сохранила память, ее содержимого вполне хватает на долгую дорогу-тропу воспоминаний, следуя по которой, вновь обретается ушедший когда-то друг. Из трех частей состоят те воспоминания, где каждая часть как очередной привал перед последующим странствием в прошлое, к Есенину. И по всему пути – масса действующих лиц-современников: друзей и неприятелей, покровителей поэтического искусства и случайных, окололитературных лиц. А в центре всего этого пестрого окружения – Сергей Есенин, его бесконечно «новое лицо», предстающее то в образе «Праксителева Гермеса», то «безлюбого Нарцисса». Не случайно, отдельные страницы мемуаров Надежды Вольпин напоминают страницы интимного дневника... Страницы, требующие нашего этического читательского понимания, того понимания, что создает особый настрой душевной доверительности. Надо уметь ценить подобное состояние души:
Август. Рельсы спицами,
Пар в пыли клубится.
К югу лист исписанный
Развернули птицы.
К полдню златокудрому
Обернусь я круто:
Ты в путях, возлюбленный.
Жизнь мою запутал!
И как лес безлиственный
Все по лету дрогнет,
Так тобой исписано
Полотно дороги.
И как злыми рельсами
Узел жизни стянут,
Так тобой истерзана
Глупенькая память!
Август. Дни ущербные
Режет ночь сернами.
Злак волос серебряный
Сбереги на память.
Ведь недолго мне в лицо
День любезен будет:
Через шею колесо,
И разрезан узел.
Н.Д. Вольпин с сыном Александром. Май 1928 г.
И главное достоинство записок Н. Вольпин в том, что она не объясняет нам поэта, а описывает факты, ситуации реального бытия Есенина, то есть отвечает на тот же вопрос: КАК ЖИЛ ЕСЕНИН? И отвечает на тот сложный вопрос исповедью любящей поэта женщины, которая нашла в себе силы дать жизнь сыну Сергея Есенина и воспитать его – Александра Сергеевича, ныне известного ученого в области математики. (А. С. Вольпин-Есенин родился при жизни отца – 12 мая 1924 года. Он автор единственного сборника стихов «Зеленый лист» (опубликован на Западе). В нашей стране Вольпин-Есенин известен как один из организаторов правозащитного движения, за что подвергался многочисленным преследованиям. В 1972 году был вынужден эмигрировать. В настоящее время живет и работает в Бостоне (США)).
Так ритмы большой поэзии складывались в высокую мелодию продолжающейся жизни!
КОГДА ДРУГ ДАЛЕКО
День плетется, время льется,
Звон: минувшего в висках.
Тучи, пойманной в колодце,
Журавлиная тоска...
Что еще осталось в мире?
Научись, как в ясный день
Греет кости после бури
Завалившийся плетень.
Ах, от хаты и до хаты
Над уездом с помелом
Пролетал – и все ребята
Звали красным петухом.
А сегодня чернорожий,
С белым блеском глаз пустых,
Каждый час встает похожий
На вчерашние часы.
И за то, что больше в мире
Нет ни песен, ни тревог,
Полдень в долгой трубке курит
Память пыльную дорог.
Н. Д. Вольпин прошла в литературе большой путь от юношеских стихов, сочиненных в гимназические годы, штудий на занятиях молодежной группы при «Союзе поэтов» в 20-е годы, в так называемой «Зеленой мастерской», до крупных работ писателя-переводчика. По ее переводам советские читатели узнали лучшие образцы мировой поэзии (Овидий, Гораций, Гёте, Гюго, Байрон) и прозы (Вальтер Скотт, Генри Филдинг, Проспер Мериме, Дж. Голсуорси). Но в мемуарном жанре Надежда Вольпин выступает впервые, сумев и здесь сохранить романтический отсвет своего времени 20-х годов, времени поэтических вечеров на подмостках в легендарном Политехническом музее Москвы, времени своей молодости...
Алексей КАЗАКОВ. «Как жил Есенин»: Мемуарная проза. Челябинск, Южно-Уральское кн. изд-во, 1992.








