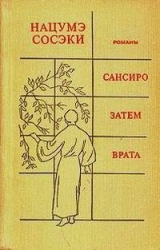
Текст книги "Затем"
Автор книги: Нацумэ Сосэки
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 14 страниц)
13
Дня четыре спустя Дайскэ пришлось провожать на вокзале Симбаси Такаги с племянницей. Такова была воля отца. В то утро Дайскэ не выспался, его разбудили раньше обычного, и, возможно, поэтому, когда он приехал на станцию, у него было ощущение, будто его продуло и он застудил голову. Умэко заметила, что он не в себе, и сказала ему об этом. Дайскэ, словно не слыша, снял шляпу и то и дело ерошил аккуратно причёсанные ещё влажные волосы, отчего они в конце концов растрепались.
На перроне Такаги вдруг предложил Дайскэ:
– Поедемте с нами, сойдёте в Кобэ, развлечётесь немного:
– Благодарю, – коротко ответил Дайскэ.
Перед самым отправлением поезда Умэко подошла к окну вагона и обратилась к племяннице Такаги:
– Непременно приезжайте к нам поскорее.
Девушка вежливо поклонилась и что-то сказала, но сквозь стекло ничего не было слышно. Проводив гостей, все четверо покинули станцию. Умэко приглашала Дайскэ к ним, но он отказался, сославшись на головную боль.
Наняв рикшу, Дайскэ вернулся к себе на Усигомэ, прошёл прямо в кабинет и бросился на постель. Кадоно заглянул было осведомиться, как дела, но, зная хозяйский нрав, ничего не сказал, увидев Дайскэ, лишь забрал брошенное на стул хаори и ушёл.
Дайскэ лежал, размышляя о будущем. Если отдаться на волю судьбы, его непременно заставят жениться. Он и так отверг многих невест. Дальше упорствовать невозможно: он либо потеряет расположение близких, либо, что того хуже, навлечёт на себя гнев. Пусть он потеряет расположение, только бы его оставили в покое и не заставляли жениться. А вот родительский гнев может повлечь за собой крупные неприятности. Но как можно жениться против собственной воли? В нынешний век это просто нелепо. Словом, Дайскэ зашёл в тупик.
В отличие от людей старомодных, таких, как отец, Дайскэ считал, что в определённых делах нельзя действовать по заранее придуманному плану, втискивая в его рамки самоё природу человека. Человеческая природа величественнее любого созданного человеком плана. И насиловать её так же бессмысленно, как с помощью свидетельства о разводе удостоверять супружеские отношения. Но Дайскэ и в голову не пришло бы идти с этими аргументами к отцу. Ничего не могло быть труднее, нежели в чём-либо его переубедить. Любая попытка неизбежно окончилась бы неудачей, рассердила бы отца не меньше, чем прямой отказ жениться.
С невесткой и братом ещё можно сладить. Куда опаснее, отец. Вряд ли за этой женитьбой не кроется ещё что-то, чего Дайскэ не знает. Но до сих пор у него не было случая выяснить, каковы подлинные намерения отца. В том, что он подозревает отца, Дайскэ не видел ничего безнравственного и потому совсем не считал, что такие отношения с отцом делают его самым несчастным из сыновей. Просто он опасался, как бы из-за всех этих дел они с отцом ещё больше не отдалились друг от друга.
Допустим, такое отчуждение окончится полным разрывом. Приятного в этом мало, но стерпеть можно. Гораздо страшнее последствия. Дайскэ лишится средств к существованию.
Того, кто пришёл к мысли, что картошка важнее алмазов, можно считать погибшим, – так всегда думал Дайскэ. Допустим, что отец лишит его помощи. Волей-неволей придётся забыть об алмазах и грызть картошку. А вознаграждение каково? Любовь. И не к кому-нибудь, а к чужой жене.
Сколько Дайскэ ни думал, ничего придумать не мог. Его будущее не подвластно ему, как жизнь и смерть, и, как жизнь и смерть, туманно. Лишь какие-то тени мелькают в сознании, и Дайскэ тщетно старается их поймать.
Сменяя друг друга, рождаются и исчезают смутные видения – летучие мыши, вспугнувшие темноту. Он видит, как трепещут их крылья. И вот уже он сам взмыл в высоту и парит в воздухе, гоняясь за видениями-мышами. Постепенно Дайскэ погрузился в сон.
Вдруг над самым его ухом ударили в колокол. Дайскэ проснулся, и первой мыслью была мысль о пожаре, но Дайскэ продолжал лежать. Во сне ему часто мерещились удары колокола. Одно время они преследовали его и после пробуждения. Несколько дней назад Дайскэ проснулся от ощущения, будто качается дом. Каждой частицей тела он явственно ощущал, как ходит под ним циновка. Случалось, что во сне у него начиналось сильное сердцебиение, которое не проходило, даже когда он просыпался. Тогда Дайскэ клал руку на грудь, устремлял взор в потолок и в такие минуты походил на святого.
Вот и нынче он лежал до тех пор, пока звон колокола не стих. Затем пошёл в столовую, где возле хибати стоял обеденный столик, а на нём что-то, накрытое салфеткой. Стенные часы показывали первый час. Служанка, видимо, уже поела и сейчас дремала у себя в комнате, облокотившись на кадушку для варёного риса. Кадоно нигде не было, наверно, куда-то ушёл.
Дайскэ отправился в ванную, смочил голову, вернулся и в одиночестве сел за столик. Покончив с трапезой, он снова пошёл в кабинет с намерением хоть немного почитать после долгого перерыва. Открыл европейский роман на странице с закладкой, но обнаружил, что совершенно забыл, о чём шла речь впереди. Такое редко случалось с Дайскэ, обладавшим прекрасной памятью. Со школьных времён он слыл книголюбом. И по окончании учёбы необычайно гордился тем, что в состоянии выписать любую книгу, не отказывая себе в остальном. Стоило ему день не почитать, и возникало ощущение пустоты. Поэтому, если ничто не мешало, он ежедневно наслаждался чтением. Порой ему казалось, что это истинное и единственное его призвание.
Дымя сигаретой, Дайскэ полистал уже прочитанные страницы, постарался восстановить в памяти, как развивался сюжет, и у него вдруг возникло неприятное чувство, словно ему надо было чересчур быстро перепрыгнуть из шлюпки на берег. Тем не менее Дайскэ заставил себя почитать часа два. Но больше не выдержал. Печатные знаки, разумеется, слагались в его сознании в слова и фразы, обретали смысл, но нисколько его не волновали. От такого чтения Дайскэ не получал никакого удовольствия, как если бы, изнывая от жары, стал вместо льда сосать пузырь со льдом.
Чтение сейчас не шло на ум. Он решил не заставлять себя и захлопнул книгу. Но ему надо было чем-нибудь заняться, ибо нынешнее его состояние не определялось просто скукой.
Дайскэ прошёл в столовую, накинул хаори, который Кадоно аккуратно сложил, сунул ноги в гэта, сброшенные у входа, и чуть не бегом устремился к воротам. Было около четырёх часов. Дайскэ сел в первый попавшийся трамвай. На вопрос кондуктора, куда он едет, ответил первое, что пришло в голову. Раскрыл бумажник. Там ещё оставалось кое-что из тех денег, которые он собирался истратить на своё путешествие и большую часть которых отдал Митиё. Купив билет, он тщательно пересчитал оставшиеся бумажки.
Этот вечер он провёл в одном из чайных домиков Акасака, где ему довелось услышать занятную историю. Красивая молодая женщина сошлась с одним мужчиной и зачала от него, но, когда пришло время рожать, печалилась необычайно и проливала слёзы. Все удивлялись, спрашивали о причине грусти, она же отвечала, что ей, такой юной, очень обидно рожать. Видимо, всем существом своим женщина вдруг ощутила быстротечность жизни, мимолётность истинной любви, которая исчезнет с появлением ребёнка, когда она станет матерью. Женщина эта, судя по всему, не была воспитана в строгих правилах. Дайскэ слушал с огромным интересом. Вот он, внутренний мир женщины, для которой ничего нет важнее собственной красоты и радостей любви.
Дайскэ решил на следующий день непременно увидеться с Митиё и придумал предлог. Он должен знать, сказала ли она мужу о деньгах, которые ей принёс Дайскэ, и как это отразилось на их отношениях. Он убедил себя, что именно это главная причина тревоги и он не успокоится, пока не поговорит с Митиё.
Дайскэ переоделся, отбросив в сторону всё, что надевал накануне, и почувствовал себя обновлённым. С каждым днём солнце припекало всё сильнее, и люди с нетерпением ждали дождей, которые принесут влагу. После вчерашних развлечений Дайскэ ощущал себя мрачной тенью на фоне весёлого солнечного пейзажа, и это сильно его угнетало. «Скорее бы сезон дождей», – надевая летнюю широкополую шляпу, думал Дайскэ, у которого мысли были такими же пасмурными и тяжёлыми, как грозовое небо.
Пока он добирался до Хираоки, вся голова его, до самых корней волос, покрылась испариной. Дайскэ снял шляпу и хотел войти, но дверь была заперта, лишь какая-то возня слышалась за домом. Дайскэ обошёл его с другой стороны и увидел возле кладовой Митиё. Склонившись и слегка вытянув свою тонкую шею, она вместе со служанкой натягивала на доску выстиранный и накрахмаленный кусок ткани, измятой и бесформенной. Заметив Дайскэ, она оторвалась от дела и так стояла, не произнося ни слова. Дайскэ тоже несколько секунд молчал, а потом проговорил:
– Не ждали?
Митиё отряхнула воду с рук, вбежала в дом с чёрного хода, сделав Дайскэ знак глазами, чтобы он шёл с парадного. «Приходится запирать от воров», – объяснила она, отпирая решётчатую дверь. Митиё вся раскраснелась от солнца, бледный лоб покрылся мелкими каплями пота. Глядя сквозь дверную решётку на удивительно тонкую, почти прозрачную кожу Митиё, Дайскэ терпеливо ждал, пока она откроет.
– Простате, что заставила вас ждать, – сказала Митиё, отступив на шаг и пропуская Дайскэ в дом. Дайскэ протиснулся в узкую дверь, едва не задев Митиё, и прошёл в гостиную. У столика Хираоки был заботливо положен лиловый дзабутон. Дайскэ это слегка задело. Удручающее впечатление производил бурьян на сухой, неухоженной земле в саду.
Дайскэ с грустью смотрел на запущенный сад, бормоча обычные извинения, что, дескать, помешал, простите, и искренне жалея Митиё, которой приходится жить в таком убогом доме. Положив на колени руки с чуть припухшими от воды пальцами, Митиё рассказала, что сейчас крахмалила во дворе материю – надо же как-то убить время. Хираока, видимо, постоянно не бывал дома, и Митиё в одиночестве томилась от скуки.
– Завидная у вас доля, – сказал Дайскэ нарочно, чтобы вызвать Митиё на откровенность, но она, видно, не собиралась делиться с ним своими переживаниями и молча вышла в соседнюю комнату. Зазвенели металлические ручки комода, и Митиё вскоре вернулась с красной бархатной коробочкой в руках. Там оказалось аккуратно вложенное кольцо, некогда подаренное ей Дайскэ.
– Вы одобряете мой поступок? – спросила Митиё виноватым голосом и снова вышла в соседнюю комнату. Там она торопливо, словно опасаясь, как бы кто не увидел, спрятала драгоценную коробочку в комод и вернулась. Дайскэ продолжал хранить молчание. Потом, глядя в сад, заметил:
– Отчего бы вам не выполоть траву в саду, раз у вас столько свободного времени?
На сей раз промолчала Митиё.
– Хираока знает о тех деньгах? – после недолгой паузы спросил Дайскэ.
– Нет, – тихо ответила Митиё.
– Значит, вы ему не сказали?
Митиё, как выяснилось из её слов, до сих пор так и не удалось поговорить об этом с мужем, потому что он почти не бывал дома. Дайскэ верил ей и всё же никак не мог себе представить, что это единственная причина. Ведь на такой разговор ушло бы не более пяти минут. Что-то другое ей помешало, какая-то тяжесть, камнем лежавшая на сердце. И Дайскэ вдруг пришло в голову, что это из-за него Митиё чувствует себя виноватой перед мужем. Однако он не испытывал угрызений совести. Доля ответственности за положение, в котором очутились Митиё и Хираока, лежит на самом Хираоке, и он должен понести заслуженную кару, уготованную ему пусть не законом, так жизнью.
Дайскэ поинтересовался делами Хираоки, но Митиё, как обычно, говорила мало и очень неохотно. Единственное было ясно, что отношение мужа к ней резко изменилось. Об этом Дайскэ догадывался с самого начала, ещё когда они только приехали в Токио, но истинной причины не знал – супруги её тщательно скрывали. Отношения их между тем день ото дня ухудшались, в этом не могло, быть никаких сомнений. Но Дайскэ не допускал мысли, что он – третий лишний, тому виной, иначе не вёл бы себя столь неосмотрительно. Разум ему подсказывал, что не в нём дело. Были другие причины: болезнь Митиё, отразившаяся на их интимных отношениях: смерть ребёнка, склонность Хираоки к распутству, его неудачи по службе и, наконец, денежные затруднения, возникшие из-за распутства. Все эти размышления привели Дайскэ к выводу, что Митиё не пара Хираоке и им не следовало вступать в брак. Как он теперь раскаивался, вспоминая роль посредника, которую взял на себя по просьбе Хираоки. И всё же не из-за него произошло отчуждение между супругами. В то же время Дайскэ не мог отрицать, что это отчуждение разбудило в нём любовь к Митиё, которая росла с каждым днём.
Не во имя прошлого, а во имя настоящего Дайскэ не мог оставаться равнодушным к Митиё. Не к прежней Митиё, а к той, что страдала от тяжкого недуга. К той, что утратила ребёнка. К той, что потеряла любовь мужа. К той, что несла бремя жизненных тягот. Но пока ещё любовь не настолько вскружила ему голову, чтобы он действовал открыто и навсегда разлучил Митиё с Хираокой.
Из рассказов Митиё Дайскэ понял, что Хираока придерживает деньги, даже когда они у него заводятся, и отдаёт на расходы лишь мизерную часть. Это больше остального мучило Митиё, и Дайскэ решил хоть как-нибудь ей помочь.
– Я постараюсь встретиться с Хираокой и серьёзно с ним поговорить.
Митиё печально на него взглянула. А вдруг это ничего не принесёт ей, кроме неприятностей? Дайскэ тоже это понимал и не настаивал. Митиё принесла голубоватый конверт, вынула из него письмо и показала Дайскэ. Это было весьма пространное послание от отца Митиё с Хоккайдо. Отец сообщал, что дела у него идут неважно, цены небывало высокие и он едва сводит концы с концами, чувствует себя совсем одиноким, хочет приехать в Токио и просит прислать ему денег. В общем, ничего весёлого. Дайскэ аккуратно сложил и вернул письмо Митиё. В глазах у неё стояли слёзы.
Некогда отец Митиё владел небольшим участком земли. Но во время русско-японской войны кто-то посоветовал ему играть на бирже. Он проигрался, не задумываясь, продал землю, на которой жили его предки, и поселился на Хоккайдо. Это было всё, что Дайскэ знал о его жизни, пока не прочёл вышеупомянутое письмо. «Есть родня, нет родни – одно и то же», – так часто говорил Дайскэ старший брат Митиё, когда ещё был жив! Словом, Митиё не на кого было рассчитывать, кроме отца и Хираоки.
– Завидую я вам, – сказала Митиё, при этом ресницы её дрогнули.
И у Дайскэ не хватило духу возразить ей.
Немного помолчав, она спросила: – А отчего вы всё не женитесь?
Дайскэ продолжал молчать, лишь пристально смотрел на Митиё. Он заметил, как под его взглядом кровь постепенно отливала от щёк Митиё и она стала бледнее обычного. Тут Дайскэ впервые подумал о том, что рискованно подолгу оставаться наедине с Митиё. Ещё немного, и чувства, облечённые в слова, заставят их преступить границы дозволенного. Однако Дайскэ умел повернуть разговор в противоположную сторону, причём с самым невинным видом. Читая европейские романы, он часто удивлялся откровенности и прямоте любовных диалогов, от которых так и веяло чувственностью. В оригинале эти романы ещё можно было читать, но весь тон и манера изложения, с точки зрения Дайскэ, делали их совершенно непереводимыми на японский. Поэтому у него не было ни малейшего желания прибегать в разговоре с Митиё к словам из романов, очень напоминавшим актёрскую речь, чтобы выразить свои чувства. Им бы вполне хватило самых обыкновенных слов. Была другая опасность, незаметно для самих себя перейти запретную черту. И Дайскэ едва удержался от последнего шага. Митиё проводила его до дверей и сказала на прощанье:
– Мне так тоскливо, так одиноко! Приходите, пожалуйста.
Служанка всё ещё работала на заднем дворике. Дайскэ, словно во сне, прошёл почти квартал. Он не знал, радоваться ему, что он вовремя остановился, преодолев естественное побуждение высказать Митиё всё до конца, или жалеть об этом. Впрочем, посиди он ещё пять, десять минут, ничего бы не изменилось. Всё это началось не сегодня, а очень давно. Даже трудно сказать, когда именно. Перебирая мысленно события прошлого, Дайскэ не помнил, чтобы хоть на день или на миг погасло пламя их любви. Митиё была женой Дайскэ. Была ею всегда. Даже когда выходила за Хираоку. Эта мысль камнем легла Дайскэ на душу, и он зашатался под её тяжестью.
– Что-нибудь случилось? – спросил Кадоно, – Вы вроде бы не совсем здоровы.
Дайскэ прошёл в ванную, старательно отёр пот с бледного лба, полил холодной водой голову.
Два дня Дайскэ совсем не выходил из дому. Лишь на третий день после обеда сел на трамвай и поехал в редакцию газеты, где служил Хираока, намереваясь обстоятельно поговорить с ним и хоть немного облегчить участь Митиё. Он отдал курьеру свою визитную карточку и, пока ждал возле покрытого пылью стола дежурного, то и дело доставал платок и прикладывал его к носу. Затем его провели в приёмную на втором этаже, душную, мрачную и тесную комнату. Дайскэ успел выкурить сигарету, пока наконец появился Хираока. Он вышел из двери с табличкой «Редакция», которая то и дело открывалась, впуская и выпуская людей. На Хираоке был уже знакомый Дайскэ летний костюм, как всегда, белоснежный воротничок и манжеты. С видом чрезвычайно занятого человека он бросил Дайскэ небрежно: «А, привет!» Дайскэ невольно поднялся. Так, стоя, они обменялись несколькими фразами. В редакции перед выпуском очередного номера как раз была горячка, и поговорить с Хираокой не удалось. На вопрос Дайскэ, когда удобно зайти, Хираока, поглядев на часы, которые вынул из кармана, ответил:
– Извини, но лучше всего через часок.
Дайскэ взял шляпу, спустился по тёмной пыльной лестнице, вышел на улицу, и его сразу обдало прохладным ветром.
Деваться было некуда, и он решил побродить где-нибудь поблизости, а заодно обдумать, с чего начать разговор с Хираокой. Единственно, чего хотел Дайскэ добиться, это хоть немного покоя для Митиё, который был ей так нужен. Допустим, Хираока почувствует себя оскорблённым, Дайскэ даже готов на разрыв с ним. Правда, он не знает, как в этом случае сможет выручить Митиё. Встречаться с ней наедине у Дайскэ пока не хватало смелости, но он уже не мог оставаться равнодушным к её нынешнему положению. Поэтому свидание с Хираокой было скорее рискованным шагом, предпринятым под влиянием чувств, нежели актом, продиктованным разумом. Такого рода поступки не были свойственны Дайскэ, но сам он этого не замечал. Ровно через час он снова стоял у двери с табличкой «Редакция» и через некоторое время вместе с Хираокой вышел за ворота.
Когда они миновали несколько кварталов, Хираока вдруг вошёл в какой-то дом. Под крышей висели пучки папоротника для защиты от жары, небольшой двор был полит водой. Хираока снял пиджак и сел в небрежной позе. Дайскэ, не ощущая особой жары, ограничился тем, что взял веер.
Разговор начался с положения дел в газете. Хираока сказал, что, несмотря на загруженность, доволен работой, и прозвучало это вполне искренне, без тени сожаления о прошлом. Дайскэ иронически заметил, что Хираока, видимо, не очень-то усердствует. Хираока с самым серьёзным видом защищался, ссылаясь на то, что в газете из-за огромной конкуренции не обойтись без особой сметливости и умения лавировать.
– В самом деле, – согласился Дайскэ, не выразив должного восторга, – бойко владеть пером теперь, видно, недостаточно.
– Я веду экономический отдел, – заявил Хираока, – но представь, сколько интереснейших фактов всплывает на поверхность! Хочешь, напишу о тайных операциях вашей фирмы?
Этот вопрос не застал Дайскэ врасплох, поскольку у него были свои наблюдения, и потому его не испугал.
– Что ж, – ответил он спокойно. – Это может оказаться интересным, но лишь при условии полной объективности с твоей стороны.
– Разумеется! Клеветой я не намерен заниматься.
– Нет, я не это имел в виду. Я хотел сказать, что если ты выступишь в печати с нападками на нашу фирму, критикуй тогда и остальные.
Хираока зло рассмеялся.
– Думаешь, мы удовлетворимся одним делом «Нитто»? – сказал он со скрытой угрозой в голосе. Дайскэ молча слушал, потягивая сакэ. Разговор в таком духе мог в любой момент оборваться. Но тут Хираока вдруг неизвестно зачем рассказал Дайскэ анекдотический случай с компанией Окура во время японо-китайской войны, видимо, связывая его с закулисными сторонами делового мира. Компании Окура надлежало поставить воинским частям в Хиросиме определённое количество голов рогатого скота. И вот сдадут они, к примеру, несколько голов, а ночью сами же их и выкрадут. А на другой день, как ни в чём не бывало, сдают тех же самых коров. Так продолжалось до тех пор, покуда армейские чиновники не спохватились и не поставили в один из дней на принятом скоте клеймо. А когда ничего не подозревавшие дельцы вновь проделали эту операцию, они были пойманы с поличным и разоблачены. Этот анекдот Дайскэ расценил как типичный образец сатиры на современное общество. Затем Хираока рассказал про Котоку Сюсуй, социалиста, весьма опасного для правительства. Возле дома Котоку день и ночь дежурят полицейские. Одно время они даже вели наблюдение из палатки, которую там специально поставили. Сюсуй выйдет из дому – полицейские следом за ним. Не дай бог выпустить его из виду – это было бы чрезвычайным происшествием. Вот он появился в Хонго, а сейчас пришёл в Канда, из пункта в пункт передают по телефону, во всём Токио переполох. Только полицейский участок Синдзюку тратит на Сюсуя не менее ста иен в месяц. Когда один из его приверженцев, допустим, торговец леденцами, прямо на улице готовит свои фигурки на продажу, полицейский в белой форме тут как тут – стоит над душой и ничего не даёт делать. Дайскэ и это сообщение не принял всерьёз.
– Тоже, по-твоему, образец современной сатиры? – с вызовом произнёс Хираока.
– Вот именно, – рассмеялся Дайскэ. Все эти вопросы мало его интересовали, а уж сегодня он меньше, чем когда-либо, был склонен обсуждать события политического порядка, впрочем, так же как и общаться с гейшами, которых Хираоке очень хотелось пригласить.
– Мне надо с тобой поговорить, – сказал наконец Дайскэ, переходя к интересующей его теме. Хираока вдруг переменился в лице, во взгляде появилась тревога. Его ответ явился полной неожиданностью для Дайскэ:
– Я сам давно собираюсь с тобой потолковать, как-то решить вопрос, но сейчас это совершенно невозможно. Повремени немного. Я же обещаю пока не публиковать в газете ничего такого, что касалось бы твоего отца или брата.
Дайскэ понял, что попал в дурацкое положение, однако ненависть вытеснила все остальные чувства.
– Ты сильно изменился, – холодно сказал Дайскэ.
– И ты тоже. Но что поделаешь! Жизнь нас к тому вынуждает. Вот я и говорю, повремени немного, – с деланным смехом ответил Хираока.
Слова Хираоки Дайскэ пропустил мимо ушей и решил высказать до конца всё то, ради чего он сюда шёл. В спешке не объяснишь, что он явился вовсе не за долгом, потому что Хираока, большой охотник во всём искать скрытый смысл, опять истолкует его слова как-нибудь не так. А это будет досадно. И Дайскэ решил перейти к главному, уже не заботясь о том, как поймёт его Хираока. Одно его смущало. Если он скажет, что ему известно, как ведёт себя Хираока дома, это может навлечь неприятности на Митиё. А не скажет, тогда окажутся бесполезными все его предупреждения и советы. Волей-неволей пришлось начать издалека.
– Ты, я смотрю, часто бываешь в таких местах, слишком хорошо тебя здесь знают.
– Кутить, как ты, я, разумеется, не могу, откуда у меня такие деньги, но изредка в компании приходится, особенно если это нужно для работы. – Хираока привычным жестом поднёс ко рту чашечку сакэ.
– Не моё это дело, только я не понимаю, как ты при этом сводишь концы с концами? – ринулся в атаку Дайскэ.
– Кое-как свожу, – очень неохотно ответил Хираока и как-то сразу сник. Дайскэ зашёл в тупик и уже не знал, что говорить дальше.
– Обычно в это время ты всегда бывал дома, – выдавил он из себя. – А вот в прошлый раз я тебя не застал, ты, наверно, задержался допоздна?
– Я прихожу по-разному, то раньше, то позже. Такая работа, что поделаешь, – уклончиво ответил Хираока, словно оправдываясь.
– Наверно, Митиё-сан скучает в одиночестве?
– Да нет, не очень. Она ведь тоже сильно изменилась, – сказал Хираока, и Дайскэ уловил в его взгляде сомнение и страх. Может случиться, что отчуждение между супругами никогда не пройдёт. И если сама природа разрубит соединяющие их узы, судьба Дайскэ решена. Он неизбежно будет сближаться с Митиё по мере того, как она будет отдаляться от Хираоки. И вдруг, будто движимый какой-то неведомой силой, Дайскэ сказал:
– Она не могла сильно измениться. Просто стала старше. Постарайся больше бывать дома, и Митиё-сан успокоится.
– Ты так думаешь? – проговорил Хираока, залпом допив своё вино.
– Думаю? – словно эхо, повторил Дайскэ. – У кого хочешь спроси, тебе скажут то же самое.
– В твоём представлении Митиё, видно, всё та же, какой ты знал её три года назад. А она очень переменилась. Да, да, очень. – Хираока осушил ещё чашечку. Дайскэ почувствовал, как учащённо забилось у него сердце, и ответил:
– Ты не прав. Она всё та же. Ничуть не переменилась.
– А что делать, если дома мне неинтересно?
– Ты не вправе так говорить.
Хираока даже глаза раскрыл от удивления. У Дайскэ перехватило дух. Однако у него ни на йоту не возникло ощущения, что пущенная им стрела попала в цель. Нынче в его речах не было, как обычно, логики, был импульс, и только. Однако он ни на минуту не сомневался в том, что желает Хираоке добра. Каждым своим словом, каждым поступком он пытался вернуть супругам их былое благополучие и таким образом вырваться из плена Митиё. Ему и в голову не приходило, что его благие намерения всего лишь хитрость, с помощью которой он пытался скрыть от Хираоки своё истинное отношение к Митиё. Как человек вполне порядочный и светский, он никогда не позволил бы себе вероломства по отношению к другу. Постепенно Дайскэ вернулся к своему обычному состоянию.
– Пойми, – сказал он, – если всё время ты где-то будешь пропадать и транжирить деньги, вы никогда не сможете жить по-человечески. И, согласись, совсем невесело будет в семье.
– Семья? – скептически воскликнул Хираока, засучивая рукава белоснежной рубашки. – Эка важность! Только холостяки, вроде тебя, придают ей серьёзное значение.
В Дайскэ шевельнулась неприязнь к Хираоке. Можешь не любить семью, если тебе угодно, хотелось сказать Дайскэ, только знай, я уведу от тебя жену. Но до такого разговора было ещё далеко. Дайскэ попробовал затронуть ещё одну струну души Хираоки.
– Помнишь, когда мы впервые встретились после твоего приезда в Токио, ты советовал мне чем-нибудь заняться и даже прочёл мораль на эту тему?
– Ага, помню. Зато ты удивил меня своей философией ничегонеделания.
Только сейчас Дайскэ пришло в голову, что он, видно, и в самом деле удивил тогда Хираоку, который в то время лихорадочно жаждал деятельности. Чего Хираока добивался? Богатства? Славы? Или же власти? А может быть, ему просто надо было найти применение своей энергии?
– Люди, такие, как я, духовно надломленные, вынуждены придерживаться подобного мнения. Никто не следует раз навсегда принятым взглядам, у каждого своя точка зрения, и годится она лишь для него одного. Так же обстоит дело и с моей философией. Для меня она приемлема, для тебя – нет. И ты не можешь, опираясь на неё, строить свою жизнь. Твои тогдашние воззрения достойны самого глубокого почитания. Ты – человек действия, я пользуюсь твоими же словами, так оставайся им навсегда.
– Энергии у меня, разумеется, хоть отбавляй, – решительно заявил Хираока.
Дайскэ насторожился.
– И ты намерен применить её в газете?
Хираока замялся было, но тут же отчеканил:
– Да, именно в газете.
– Всё ясно. Ты дал исчерпывающий ответ, и лезть к тебе в душу я не намерен. Но есть ли у тебя к этой работе вкус?
– Полагаю, что есть, – снова отчеканил Хираока.
Разговор носил весьма абстрактный характер, и хотя Дайскэ сказал «всё ясно», истинные намерения Хираоки оставались для него туманными, словно перед ним был не Хираока, а полномочный член правительства или, на худой конец, адвокат. Тут Дайскэ из соображений чисто тактических решил польстить самолюбию Хираоки, для чего ему понадобилось вернуться к временам русско-японской войны и вспомнить её героя, именовавшегося «богом войны» – капитана второго ранга Хиросэ. Он командовал отрядом кораблей, блокировавшим с моря Порт-Артур, погиб и стал всеобщим кумиром, а спустя некоторое время был обожествлён. Но война кончилась, и сейчас мало кто о нём вспоминает. Мода на героев быстро проходит. Для своего времени они люди чрезвычайно ценные, но великими только кажутся, ибо задачи выполняют сугубо практические. Задача выполнена, и в глазах общества герой уже не герой. Именно это и случилось с капитаном Хиросэ. Когда шла война с Россией, его отряд, вероятно, имея, очень важное значение, но наступил мир, и Хиросэ, будь он хоть сто раз героем, из бога превратился в простого смертного. Основа человеческих отношений – корысть, это распространяется и на героев. Герои сменяют друг друга, так же как и остальные ведут борьбу за существование. Поэтому он, Дайскэ, вовсе не склонен становиться героем. Но, допустим, живёт на свете отличный парень, честолюбивый, волевой, полный энергии. Он добивается славы не мечом, а пером, славы более прочной. Где же её добиться, как не в газете?
Эту тираду Дайскэ произнёс без малейшего энтузиазма, в душе потешаясь над тем, что ему приходится льстить, да к тому же делает он это как-то по-детски прямолинейно. Выслушав, Хираока бросил: «Благодарю», – не выразив при этой никаких чувств.
Дайскэ устыдился, он недооценил Хираоку. Не сумел тронуть его душу, сказать нужные слова, уговорить его восстановить мир в семье. Дайскэ потерпел поражение в самом начале, поскольку для осуществления своего плана избрал окольный путь, самый трудный.
Так, ни до чего не договорившись, Дайскэ распрощался с Хираокой, не понимая, зачем ходил к нему в редакцию. Хираока это, вероятно, ещё меньше понимал, тем более что ни о чём не спросил Дайскэ.
Весь следующий день Дайскэ провёл у себя в кабинете, вновь и вновь вспоминая вчерашнее. За два часа встречи он был искренен с Хираокой, лишь когда пробовал защищать Митиё. И то искренним не в речах, а в побуждениях. Говорил он неопределённо, малоубедительно, первое, что приходило в голову. Если судить строго, все его слова были фальшью. Да и сами побуждения, в серьёзности которых он не сомневался, по существу, возникли из тревоги за собственное будущее. Естественно поэтому, что Хираока не мог поверить в его чистосердечность. Более того, весь разговор Дайскэ вёл с целью сбить Хираоку с его нынешней позиции и заставить мыслить так, как мыслит сам он. Вот почему он ничего не добился.








