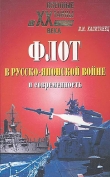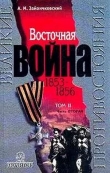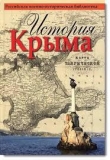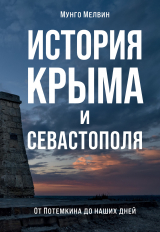
Текст книги "История Крыма и Севастополя. От Потемкина до наших дней"
Автор книги: Мунго Мелвин
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 7 страниц)
С самого основания города Екатерина II внимательно следила, как продвигается строительство новой военно-морской базы. В письме от 13 июня 1783 г. (ст. ст.), когда не прошло еще шести недель после прибытия в Ахтиар адмиралов Клокачева и Маккензи с их скромным флотом, Потемкин делился с Екатериной впечатлениями от бухты. Он почти не скрывал своего восхищения:
«Не описываю о красоте Крыма, сие бы заняло много время, оставляя до другого случая, а скажу только, что Ахтияр лутчая гавань в свете. Петербург, поставленный у Балтики, – северная столица России, средняя – Москва, а Херсон Ахтиярский да будет столица полуденная моей Государыни. Пусть посмотрят, который Государь сделал лутчий выбор»[163]163
Екатерина Вторая и Г. А. Потемкин. Личная переписка (1769–1791), письмо 662.
[Закрыть].
История удивительным образом совершила круг, когда 18 марта 2014 г. президент В. В. Путин присвоил Севастополю статус города федерального значения и субъекта Российской Федерации; два других ее города с таким же статусом – Москва и Санкт-Петербург[164]164
Текст речи президента В. В. Путина в Государственной думе 18 марта 2014 г. доступен на сайте: www.kremlin.ru/events/president/news/20603.
[Закрыть].
Возможно, красочное описание Потемкина побудило Екатерину в апреле 1784 г. переименовать Ахтиар в Херсон, связав его с древними руинами Херсонеса рядом с новым городом. Однако некоторые историки утверждают, что она уже решила дать имя Севастополь другому городу – тому, который строился вблизи устья Днепра, где несколькими годами раньше Потемкин разместил русский гарнизон, военно-морскую базу и верфь. Но конверты с указами Екатерины случайно перепутали. Поэтому город, который императрица хотела назвать Севастополем, стал Херсоном, а предполагаемый Херсон – Севастополем[165]165
Добрый, Борисова. С. 16–17.
[Закрыть].
В конечном счете Потемкин и Екатерина остались довольны новым названием крымского города, и оно осталось в истории. Название происходит от греческих слов «севастос», что означает «священный», и «полис», то есть «город». Таким образом, Севастополь – «высокочтимый или святой город»[166]166
Там же. С. 7. Другой возможный перевод греческих слов себастос (σεβαστός) и полис (πόλις) – «город, достойный поклонения».
[Закрыть]. После смерти императрицы ее преемник Павел I 12 декабря 1796 г. (ст. ст.) приказал вернуть городу название Ахтиар, поскольку хотел избавиться от любых следов деятельности Потемкина, которого он ненавидел. Но Екатерина все же победила, потому что в 1801 г. ее внук Александр I снова переименовал Ахтиар в Севастополь. Тем не менее в официальной переписке какое-то время сохранялось старое название. Только по указу императора Николая I, изданному в марте 1826 г., русским было предписано город «не именовать впредь Ахтиаром, но всегда Севастополем», и название, данное Екатериной и Потемкиным, осталось для потомков[167]167
Ванеев Г. И. Севастополь: Страницы истории 1783–1983. Справочник. Симферополь: Таврия, 1983. С. 13.
[Закрыть].
Официальное решение построить крепость в Севастополе последовало за началом работ по возведению поселка для моряков и портовой инфраструктуры. Название «Севастополь» впервые появилось в императорском указе от 10 февраля 1784 г. (ст. ст.), в котором Екатерина приказала основать «крепость большую Севастополь, где ныне Ахтияр, и где должно быть адмиралтейство, верфь для первого ранга кораблей»[168]168
Макареев, Рыжонок. С. 20.
[Закрыть]. В честь основания Черноморского флота была выпущена медаль с надписью «Слава России» – слова, которые стали пророческими[169]169
Комоедов. С. 38.
[Закрыть]. В дальнейшем выпустили другую медаль «В память торжественного путешествия императрицы Екатерины II в Крым» в 1787 г., с надписью на оборотной стороне «Путь на пользу». Желая получить профессиональный совет, Потемкин обратился к инженер-полковнику Николаю Ивановичу Корсакову. Он был подающим надежды офицером, который в 1776–1777 гг. посетил Великобританию, чтобы завершить образование и изучить искусство прокладки каналов[170]170
Anthony Cross. A Russian Engineer in Eighteenth-Century Britain: The Journal of N. I. Korsakov, 1776–7 // The Slavonic and East European Review. Vol. 55, No. 1 (January 1977). P. 1–20.
[Закрыть]. В письме Екатерине в июле 1783 г. Потемкин лестно отзывался о нем: «Корсаков, матушка, такой инженер, что у нас не бывало. Как он Кинбурн отделал, истинно дорого смотреть. Сего человека нужно беречь»[171]171
Екатерина Вторая и Г. А. Потемкин. Личная переписка (1769–1791), письмо 672.
[Закрыть]. Вскоре Потемкин поручил ему усовершенствование доков и береговых укреплений в Херсоне. Но талантливый инженер не ограничился этими обязанностями – он обследовал Севастополь и разработал долговременную программу его развития.
В рапорте Потемкину, датированном 14 февраля 1786 г. (ст. ст.), Корсаков изложил десятилетний план строительства города, оборонительных сооружений и военно-морской инфраструктуры. Главной задачей первого года было улучшение снабжения инструментами и материалами, «чтоб сим же летом заготовить довольное количество кирпича и извести». Инженер предсказывал, что через пять лет Севастополь будет приведен «в оборонительное состояние», а «бруствера и гласис» будут одеты дерном. Кроме того, в этом же году планировалось построить постоянные казармы для солдат гарнизона и экипажей кораблей, склады, пороховые погреба, пристань и маяк. В течение следующих пяти лет строительства предполагалось построить форты, охраняющие подходы к бухте, а также доки и другие сооружения, необходимые адмиралтейству. И наконец, должны быть возведены «остальное публичное строение, как то: церкви, гостиные дворы, камендантский дом и прочее»[172]172
Болотина Н. Ю. Главная крепость «должна быть Севастополь»: Документы о создании базы Черноморского флота. 1784–1793 гг. Документ 5: РГВИА. Ф. 52, оп. 1. Ч. 1. Д. 160 (Ч. З). Л. 57–58об. Подлинник. См.: http://www.vostlit.info/Texts/Dokumenty/Russ/XVIII/1780–1800/Osnov_Sevastopol/text.htm.
[Закрыть].
К сожалению, Корсаков трагически погиб во время осады Очакова в начале октября 1788 г., когда во время осмотра русских батарей случайно оступился и упал в глубокий ров, прямо на собственную шпагу[173]173
Smith. P. 147.
[Закрыть]. «Для России, – отметил современный историк, – это была почти невосполнимая потеря – просвещенный и опытный офицер, чрезвычайно искусный и изобретательный инженер»[174]174
Cross. A Russian Engineer. P. 20.
[Закрыть]. Если бы Корсаков не поскользнулся, он не только увидел бы капитуляцию турецкой крепости 17 декабря 1788 г., но и, скорее всего, руководил бы претворением в жизнь своего грандиозного плана строительства оборонительных сооружений в Севастополе. Корсакова похоронили на кладбище у собора Св. Екатерины в Херсоне, куда в 1791 г. перенесли прах Потемкина. Тем временем в Севастополе строительные работы шли гораздо медленнее, чем планировалось.
В течение года после основания Севастополя, в 1783–1784 гг., нехватка материалов и плохая погода усугублялись отсутствием денег в казне, а также полномочий напрямую взаимодействовать с местным населением. Например, Маккензи был вынужден спрашивать разрешения у Адмиралтейства в Санкт-Петербурге, чтобы попросить у татар «годных деревьев» и заплатить за них «сходную цену». Он жаловался начальству: «Но без позволения коллегии к заготовке сам собою приступить не осмеливаюсь. При всем же оном при вверенной мне эскадре денежной казны по наличию ничего нет»[175]175
Ogle MS. P. 10. Материалы, документ 46, 20 ноября 1783 г. (ст. ст.).
[Закрыть]. Но изобретательный Маккензи, похоже, нашел другой источник пополнения казны. Например, семью месяцами позже, 12 (23) июня 1784 г., он докладывал графу Чернышеву о недавнем визите Потемкина в Крым:
«Я встречал Его Светлость (кн. Потемкина) в Севастополе, где изволил пробыть два дня, рассматривая береговое строение и расположение эскадры; изволил с великим удовольствием отсюда отбыть. Будучи здесь, я осмелился ему доложить о издержанных мною деньгах на разное цивильное строение и прочия надобности, который изволил обещать заплатить, то уповаю В. С. и вы меня також и коллегия простите за дерзость, которую я сделал»[176]176
Ogle MS. P. 11. Материалы, документ 53, 12 июня 1784 г. (ст. ст.).
[Закрыть].
Вероятно, разрешение от русской Адмиралтейств-коллегии так и не пришло. Причин такого печального положения дел могло быть несколько – по крайней мере, с точки зрения Маккензи. Во-первых, Потемкин находился в плохих отношениях с Чернышевым, поскольку последний был недоволен тем, что князь основал Черноморский флот, который находился вне сферы влияния Адмиралтейства в Санкт-Петербурге[177]177
Sebag Montefore. P. 287.
[Закрыть]. Во-вторых, по всей видимости, не был забыт инцидент в Портсмуте, и у начальства, похоже, имелись основания подозревать мошенничество в Севастополе. Русский биограф Маккензи придерживается такого же мнения, отмечая: «Те, кто обладает большой властью и распоряжается большими материальными, трудовыми и финансовыми ресурсами, часто путают казенный карман со своим. Не минуло это и Мекензи»[178]178
Усольцев. С. 26.
[Закрыть]. В 1785 г. против него завели дело за недозволенное использование казенных средств. Однако разбирательству помешала преждевременная смерть Маккензи (скорее всего, от чумы) 10 января 1786 г. (ст. ст.).
Оглядываясь назад, следует признать, что достижения Маккензи за первые два с половиной года строительства Севастополя весьма впечатляют – несмотря на «свободное» обращение с казенными деньгами. Отношение адмирала к средствам, выделяемым государством, было обычным для того времени. Но под его непосредственным руководством экипажи кораблей и торговые люди основали город и построили военно-морской порт, который со временем стал таким же важным для России, как Кронштадт на Балтике. Энтузиазм, решительность и энергия адмирала были примером для всех. Маккензи сохранил свой независимый, добросердечный и веселый нрав, благодаря которому он завоевал восхищение и верность своих подчиненных, в том числе Сенявина. Маккензи был очень общителен и никогда не упускал возможности повеселиться.
Рассказывая о событиях 31 декабря 1785 г. (ст. ст.), Сенявин описывает последнюю пирушку Маккензи. Обычная сцена праздничного застолья внезапно окрасилась в мрачные тона:
«…весь день было веселье у адмирала Макензи. После роскошного обеда – прямо за карты и за танцы; все были действующие, зрителей никого, и кто как желал, тот так и забавлялся. За полчаса пред полночью позвали к ужину; в последнюю минуту, пред новым годом, рюмки все налиты шампанским, бьет двенадцать часов; все встали, поздравляют адмирала и друг друга с новым годом; но адмирал наш – ни слова; тихо спустился на стул, поставил рюмку, потупил глаза в тарелку и крепко задумался»[179]179
«Сенявин». С. 135–136.
[Закрыть].
Что-то явно произошло. Обычно веселый и жизнерадостный Маккензи выглядел подавленным. «Все начали его спрашивать: “Что вам сделалось, что вам случилось?” Адмирал серьезно ответил: “Мне нынешний год умереть, тринадцать нас сидит за столом”». Моряки очень суеверны, но товарищи постарались развеять его мрачные мысли. Маккензи попытался сделать вид, что все в порядке и даже «не оставил между тем, чтобы не нарядить себя в женское платье и представить старую англичанку, танцующую менуэт; это была любимая его забава, когда бывал он весел». Но хорошее расположение духа продлилось недолго. Его верный флаг-адъютант вспоминал: «Как вдруг, 7-го числа, на вечере, адмирал занемог, а 10-го, поутру, скончался; мне сердечно было его жаль»[180]180
Там же. С. 137
[Закрыть].
Не подлежит сомнению, что Сенявин и другие офицеры и моряки российского Черноморского флота любили и уважали своего адмирала, глубоко скорбели о нем. В начале своей карьеры Томас Маккензи проявил себя храбрым и отважным офицером, помогая уничтожить турецкий флот в Чесменском сражении, а в последние годы своей службы на российском флоте руководил строительством города и порта. Он многого достиг благодаря профессиональным знаниям, энергии и, не в последнюю очередь, природному очарованию и силе характера.
Маккензи похоронили с воинскими почестями на холме над Южной бухтой. Внизу раскинулось его создание – Севастополь, новая военно-морская база, построенная трудами экипажей российских кораблей. Как пишет В. С. Усольцев, холм, на котором похоронили адмирала, «назывался длительное время Мекензиев курган, но после Крымской войны это название изменили на Зеленый холм, а затем на Красную горку»[181]181
Усольцев. С. 26.
[Закрыть]. Сегодня на этом месте стоит постамент со старым танком Т-34 – памятник боям, которые шли здесь во время Второй мировой войны. Точное место захоронения Маккензи неизвестно; более того, в Севастополе нет даже мемориальной доски в честь основателя города. Вероятно, это объясняется его иностранной, шотландской фамилией. Советские историки (и даже некоторые современные местные источники) ошибочно приписывали роль и достижения Маккензи его подчиненному Сенявину[182]182
Например, Добрый и Борисова в своей книге (см. с. 16) утверждают, что строительством военно-морской базы руководил лейтенант Сенявин, впоследствии знаменитый русский флотоводец.
[Закрыть]. Дом Маккензи, превратившийся в резиденцию губернатора, пережил Крымскую войну, но был снесен в начале 1900-х гг. при реконструкции участка вокруг площади Нахимова.
Единственное напоминание о Маккензи сегодня – это гряда лесистых холмов, Мекензиевы горы, к востоку от города, а также бульвар Томаса Маккензи в жилом районе в северной части Севастополя, около железнодорожной станции Мекензиевы горы недалеко от Инкермана. Возможно, когда-нибудь Севастополь восстановит историческую справедливость – если возродится кампания по увековечению памяти основателя города, начатая Владимиром Усольцевым[183]183
Но надежд на это мало. Примечательно, что в 2014 г. был снесен современный украинский мемориал на проспекте Нахимова, и вместо него установили памятник Сенявину, а не Маккензи.
[Закрыть].
Опись имущества покойного Маккензи в Севастополе дает представление об образе жизни этого необычного русского шотландца. Как отмечает один русский историк, у него был «барский вкус и привычка к комфорту, что граничило с роскошью в убогих условиях первых лет существования Севастополя». Можно лишь догадываться, откуда взялась эта роскошь в таком нищенском окружении, не стоит исключать и растрату. Вероятно, Маккензи ни в чем себе не отказывал. Ему принадлежали: «…Несколько имений с множеством скота и птицы, голубятня, конюшня с двенадцатью лошадьми и семь разных экипажей для путешествий. Его дом, несомненно самый большой в городе, с золочеными перилами, изразцовыми печами и шелковыми занавесками, изобиловал красивой мебелью, хрусталем, фарфором, столовым серебром и картинами, и впоследствии послужил резиденцией императрицы [Екатерины II]. Адмирал оставил после себя восемь перстней с драгоценными камнями и 2213 рублей наличных денег, а также шестнадцать колод карт и 56 книг»[184]184
Dmitry Fedosov. Under the Saltire: Scots and the Russian Navy, 1690s-1910s // Murray Frame & Mark Cornwall (eds). Scotland and the Slavs: Cultures in Contact 1500–2000. Newtonville, Massachusetts and St Petersburg: Oriental Research Publishers, 2001. P. 38.
[Закрыть].
Тем временем многострадальная жена Маккензи Анна, давно оставленная в Кронштадте, обратилась к Потемкину за помощью в получении сведений о имуществе ее покойного мужа. Она попросила, чтобы его душеприказчиком назначили капитана первого ранга Тисдейла, живущего в Севастополе сослуживца Маккензи, которого она, вероятно, хорошо знала. Потемкин, в свою очередь, 18 апреля 1786 г. (ст. ст.) написал генералу Михаилу Васильевичу Каховскому, командующему войсками в Крыму, приказав разобраться и доложить. На это потребовалось почти три месяца. 15 июля (ст. ст.) Каховский направил капитану первого ранга графу Войновичу, который принял командование Черноморским флотом после смерти Маккензи, документ за подписью членов комиссии, специально созданной для оценки имущества Маккензи. К своему глубокому огорчению, Анна выяснила, что ее расточительный муж оставил огромную кучу долгов, значительно превышавшую стоимость его движимого и недвижимого имущества.
Длинный список кредиторов, составленный Каховским, включал не меньше пятидесяти отдельных счетов на общую сумму 2919 рублей 10 копеек, значительные деньги для того времени. Большая часть неоплаченных счетов от торговцев (греков, итальянцев, русских, татар и турок) относилась к строительным материалам, одежде, еде и напиткам. Один из них, в сумме 107 рублей и двадцати копеек за 8310 пластин черепицы, был выписан местным татарином. Маккензи также задолжал 230 рублей и 13 копеек херсонскому мяснику. Еще один крупный долг в 500 рублей касался суммы, уплаченной бригадиром Тищевым за серебряный сервиз, который Маккензи ему так и не привез; вероятно, контр-адмирал просто прикарманил эти деньги. Самый большой и самый странный долг был у Маккензи перед некой «Сарой Александровной, дочерью Марии», которая ссужала ему 150 рублей в год. Поскольку период, о котором шла речь, составлял «четыре года, восемь месяцев и одиннадцать дней», то адмирал задолжал женщине как минимум 600 рублей, а скорее больше 700. Но и это еще не все. Под отдельным номером в документах Маккензи, хранящихся в Государственном архиве Симферополя, числится любопытный счет, выставленный неким британцем Р. Робинсоном, который утверждал, что Маккензи должен ему 467 рублей 95 копеек. Эта сумма состояла из нескольких более мелких долгов за фейерверки, а также за обучение Маккензи их изготовлению и использованию. Еще один крупный счет был выставлен за ремонт потолка в доме Маккензи.
Все эти неоплаченные счета означали, что продажа собственности Маккензи не принесет Анне никаких или почти никаких денег. Пытаясь хоть как-то обеспечить вдову, Екатерина II (по всей видимости, по совету Потемкина) приказала устроить аукцион по продаже движимого и недвижимого имущества Маккензи. Насколько известно автору, история не сохранила сведений, кто получил выгоду от аукциона, Анна или кредиторы Маккензи. В целом создается впечатление, что Фома Фомич Маккензи был яркой личностью, много сделал для Севастополя в первые годы существования города, но в то же время был мотом, который жил на широкую ногу и тратил гораздо больше, чем позволяли его скромные доходы.
Не подлежит сомнению, что Томас Маккензи был дамским угодником. После него осталась бездетная вдова в Кронштадте и пятилетний сын (Томас Генри Маккензи) от миссис Марии Брайн из Портсмута, вероятно зачатый во время его пребывания в городе зимой 1780/81 г. Была еще и безымянная «бедная английская девушка», которая якобы жила с ним в Севастополе и, вероятно, пережила его, но осталась «в бедности» – предположительно, та самая «мисс Салли», о которой упоминал Сенявин[185]185
Письмо от Уильяма Гленна, душеприказчика контр-адмирала Маккензи, из Петербурга в Бристоль миссис Марии Брайн [sic], датированное 17 июля 1786 г. (ст. ст.) – из неопубликованных семейных документов и писем Альберта Маккензи (1980), цит. в: Ogle MS. P. 14–15.
[Закрыть]. Жена Маккензи тоже жила в бедности. После того как она обратилась за помощью к адмиралу Грейгу, «указом Екатерины II дом в Кронштадте был передан ей в пожизненное пользование»[186]186
Ibid.
[Закрыть]. До своей преждевременной смерти в возрасте 45 лет Маккензи любил поесть, выпить и, как и многие его соотечественники на чужбине, нарядиться в национальный костюм. Вероятно, личность адмирала наилучшим образом характеризует «содержимое его погреба и гардероба». Например:
«[Маккензи] явно был любителем сладкого: 60 фунтов патоки, 45 сахара, 45 меда, семь изюма и девятнадцать разных кондитерских изделий. И спиртного тоже: 554 пустых и 374 полных бутылок разнообразных вин плюс шесть мер водки и три бочонка французского бренди. И наконец, среди тридцати его камзолов и мундиров присутствует килт в зеленых и синих тонах, клетчатый плед, бархатная шапочка, шотландский палаш, длинный кинжал с прямым лезвием и другие предметы из облачения шотландских горцев»[187]187
Fedosov. Under the Saltire. P. 38.
[Закрыть].
Имя Маккензи помнили вплоть до Крымской войны. Как мы увидим ниже, британские войска проходили Мекензиеву ферму в сентябре 1854 г. во время марша к Балаклаве от поля боя на реке Альма. Гости, приезжавшие в Севастополь до Крымской войны, вне всякого сомнения, знали о роли адмирала. Это место как будто привлекало необычных персонажей вроде Сэмпла Лайла. Пройдет совсем немного времени, и за ним последует еще один.
Вскоре после смерти Маккензи новую базу российского флота посетила некая Элизабет, леди Крейвен, «обольстительная и бесцеремонная» красавица, скандализировавшая Лондон нескромными платьями и дерзкими выходками[188]188
Первым ее мужем (1783–1791) был многострадальный барон Уильям Крейвен, который построил давно не существующий дом у реки Темзы, Крейвен-коттедж, на месте которого с 1896 г. располагается лондонский футбольный клуб «Фулхэм».
[Закрыть]. Она получила благословение Потемкина на эту поездку и поэтому удостоилась в Севастополе самого теплого приема[189]189
Sebag Montefore. P. 320.
[Закрыть]. В письме от 12 апреля 1786 г. своему любовнику и будущему мужу маркграфу Бранденбургскому автор путевых заметок сообщала:
«…здесь мне одной определен целый дом. Архитектура и все мебели его Английские. Он принадлежал адмиралу Макензи, который недавно умер. Сюда я приехала по морскому рукаву в шлюпке… Вышедши из нее и прошедши несколько шагов, к величайшей радости и приятнейшему удивлению, я услышала два или три голоса мужчин, которые, поклонясь мне учтиво, сказали: Миледи! Мы ваши соотечественники. В действительности здесь очень много англичан, которые служат морскими поручиками в русском флоте. Дома покойного адмирала подле самого того места, где я вышла на берег. Снаружи он представляет весьма прекрасный вид»[190]190
Здесь и далее цит. в пер. Д. Рунича.
[Закрыть][191]191
Путешествие в Крым и Константинополь в 1786 году милади Кравен. М.: Унив. тип., 1795. С. 300.
[Закрыть].
Рассказ леди Крейвен напоминает нам, почему база в Крыму была так важна для российского флота, и ее значение не уменьшилось и сегодня:
«Удивительные и странные берега представляют гавань совсем не похожую на те, какие прежде сего видала. Пристань вдоль по берегу моря между двумя такими высочайшими горами простирается, что Слава Екатерины[192]192
Корабль «Слава Екатерины» был первым из класса 66-пушечных линейных кораблей, построенных в Херсоне для Черноморского флота. В годы советской власти в Херсоне на месте бывшей верфи на берегу реки Днепр был установлен большой памятник из металла и бетона в честь спуска судна на воду в 1783 г. Корабль «Слава Екатерины» базировался в Севастополе и нес службу на Черном море с 1785 г. до списания в 1791 г. Екатерина II поднималась на борт корабля в Севастополе в 1787 г. В 1788 г. линейный корабль переименовали в «Преображение Господне».
[Закрыть][193]193
См.: Tredea & Sozaev. P. 268–269.
[Закрыть], самой большой корабль в российском флоте, который стоит здесь на якоре, за нею не виден; потому что берег выше флюгера[194]194
То есть вымпела.
[Закрыть], привязанного на конце главной мачты. Место это так глубоко, что корабль едва достает до дна. Все европейские флоты могут быть в безопасности в гаванях и в таких натуральных пристанях, которых здесь очень много. Довольно бы было двух батарей, которыми можно укрепить устье с одной стороны, чтобы потопить те корабли, которые осмелились бы в них пройти, а если бы они находились со стороны моря, то воспрепятствовали бы войти флоту»[195]195
Путешествие в Крым и Константинополь. С. 301.
[Закрыть].
Несмотря на некоторые преувеличения, английская путешественница проявила немалую проницательность в оценке оборонительных возможностей Севастополя. Именно такие сооружения, которые она представляла, будут построены в следующие пятьдесят лет, в частности, Константиновский форт на «северной стороне», который и сегодня охраняет вход в Севастопольскую бухту. Первую проверку эти оборонительные сооружения прошли в ходе Крымской войны. Возможно, в своем анализе леди Крейвен опиралась на мнение Николая Корсакова, с которым познакомилась в Херсоне месяцем раньше. Совершенно очевидно, молодой инженер произвел на нее огромное впечатление; она писала, что он «молодой, весьма учтивый и любезный человек», и предсказывала, что он и его коллега, капитан Мордвинов, будут «представлять отличных людей в воинских Российских летописях»[196]196
Там же. С. 250–252.
[Закрыть]. Описывая его работу по обновлению фортификационных сооружений Херсона, она отмечала: «Кажется, что он всегда имеет на сердце укрепление сего места и славу своих соотечественников… Мне кажется, что нет лучше состояния для молодого офицера, как быть определену к таким местам, где он своими трудами может укреплять новоприобретенныя области»[197]197
Там же. С. 250, 253.
[Закрыть]. Новые империи задумываются, строятся и защищаются именно такими патриотами, преданными своей стране.
ТРИУМФАЛЬНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ ЕКАТЕРИНЫ В СЕВАСТОПОЛЬ
Потемкин так гордился своими достижениями в Новороссии, что желал лично продемонстрировать их Екатерине. Императрице тоже не терпелось своими глазами увидеть, что было сделано и достигнуто по ее повелению и от ее имени. Особый интерес у нее вызвало присоединение Крыма к России и основание Севастополя как главного порта нового южного флота. Обоюдное желание помогло разработать план экспедиции для инспекции недавно завоеванных земель на юге. Год, на который была назначена эта поездка (1787), через четыре года после основания Севастополя, считался символическим – исполнялось двадцать пять лет со дня восшествия Екатерины на трон в 1762 г. Сложность грандиозного предприятия была такова, что на его подготовку ушло три года. Путешествие Екатерины стало «самым длинным в ее жизни и самым захватывающим событием в период ее правления»[198]198
Massie. Catherine the Great. P. 490.
[Закрыть]. Путь от Санкт-Петербурга до Киева она проделала на санях, а затем, весной, после схода льда на реке Днепр, началась «самая длинная, роскошная и дорогая лодочная прогулка в мировой истории»[199]199
Mary Durant. Catherine’s Boat Ride // Horizon – A Magazine for the Arts. Vol. VIII, no. 4 (Autumn 1966). P. 98.
[Закрыть]. Встречать Екатерину в Киеве пригласили иностранных послов. После празднеств, состоявшихся в этом городе, они поднялись на борт галеры и сопровождали императрицу в плавании по Днепру, а затем в путешествии в карете в Крым и Севастополь.
Именно во время этого триумфального путешествия Екатерины II родилась знаменитая легенда о «потемкинских деревнях». Однако вопреки этому и другим мифам, грандиозная поездка, несмотря на беспрецедентные расходы, была не только пышным и тщеславным увеселением[200]200
Durant. Op cit.: «Роскошная поездка Екатерины длилась шесть месяцев, развлекла три тысячи гостей, преодолела три тысячи миль и стоила семь миллионов рублей, или приблизительно восемнадцать миллионов долларов в сегодняшних [1966] ценах».
[Закрыть]. Прежде всего она преследовала серьезную дипломатическую цель. Екатерина и Потемкин желали продемонстрировать коронованным особам Европы, что Российская империя, с ее недавними территориальными приобретениями и растущей военно-морской мощью, превратилась в государство, с которым нельзя не считаться. Более того, это был сигнал всему миру, что они теперь внимательно наблюдают за Османской империей и Стамбулом, до которого из Севастополя всего два дня пути. Такие амбиции отражают «прекрасную мечту о возрождении Греческой империи со столицей в Константинополе и внуком Екатерины Константином в качестве императора»[201]201
Isabel de Madariaga. The Travels of General Francisco de Miranda in Russia. London, 28 March 1950. P. 5.
[Закрыть]. В целом путешествие Екатерины в 1787 г. было чем-то большим, чем увеселительная поездка или государственный визит. Предназначенное для того, чтобы «впечатлить Европу и устрашить турок», оно служило недвусмысленным заявлением о стратегических намерениях России[202]202
Massie. Catherine the Great. P. 491.
[Закрыть]. Севастополь с его недавно созданным Черноморским флотом был конечным пунктом поездки: визит в город стал чрезвычайно уместным и впечатляющим завершением триумфального путешествия.
Потемкин еще в 1783 г. готовился к предстоящему визиту Екатерины. По его мнению, это событие должно было утвердить основание Севастополя, благословить новый город присутствием государыни и гарантировать ему высочайшее покровительство. Поэтому под руководством Потемкина грандиозное путешествие по югу России планировалось с особой тщательностью: нельзя было забывать о важных деталях или впечатляющих видах. Для императрицы и ее свиты наняли специального газетчика, который описал все места, где предстоит побывать. Раздел о Севастополе, предположительно составленный на основе флотских рапортов, подтверждал удобство бухты, включив ее «в число наилучших гаваней в свете»[203]203
Неизвестный автор. Путешествие ее императорского величества в полуденный край России, предприемлемое в 1787 году. Санкт-Петербург: Горный институт, 1786. С. 73.
[Закрыть]. Контр-адмирал Томас Маккензи на протяжении трех зим уже доказал ценность Севастополя как безопасной стоянки Черноморского флота. «Вновь строящийся город Севастополь, – продолжал рассказ автор, – расположен на одном из ея заливов ближайшем к морю, на ровном берега уступе, составляющем подгорие окружающего его горнаго хребта». Вне всякого сомнения, на читателей и гостей должна была произвести впечатление скорость строительства – «судя по краткости времени довольно уже выстроен и снабжен всеми потребностями для судов и морских служителей, пребывание свое тут имеющих»[204]204
Там же. С. 74.
[Закрыть].
Планируя путешествие, Потемкин хотел прославить не только это место, но и сам путь императрицы в Севастополь. Намекая на конечную цель России – Константинополь, князь установил вдоль всего пути ряд триумфальных арок, под которыми проезжал императорский кортеж, с провокационной надписью «Дорога на Византию»[205]205
Orlando Figes. Crimea. P. 14.
[Закрыть]. Послание было абсолютно ясным – и другу, и врагу. К сожалению, ни одна из этих арок не сохранилась. По предложению губернатора Тавриды Василия Каховского Потемкин приказал отметить маршрут императрицы каменными столбами через каждые 10 верст (10,67 километра)[206]206
Маленко А. Ю. «Была пора: Екатеринин век». Екатерина и Крым по страницам документов. Симферополь: Бизнес-Информ, 2013. С. 113. Верстовые столбы были установлены согласно приказу Потемкина от 8 (19) сентября 1787 г. А. Ю. Маленко предполагает, что автором и исполнителем проекта был инженер-полковник Н. И. Корсаков.
[Закрыть]. Однако они простояли не так долго, как хотел бы князь. При советской власти большинство этих нежелательных символов царского режима уничтожили. Четыре столба сохранились в Крыму. Среди них последний столб на императорском маршруте, стоящий на северной стороне Севастополя на краю маленького парка в Учкуевке. До недавнего времени сохранившийся верстовой столб был единственным напоминанием триумфального визита Екатерины Великой в 1787 г. Любопытно, что в 1860-х гг. на нем была вырезана надпись с ошибкой, что императрица посетила город в 1887 г., а не в 1787 г.!
Бывшую Екатерининскую площадь после Крымской войны переименовали в площадь Нахимова в честь знаменитого адмирала, который погиб при героической обороне города, а после Октябрьской революции и Гражданской войны в России Екатерининская улица стала улицей Ленина. Первый современный памятник Екатерине II в Севастополе был открыт только в 2008 г., в честь 225-летия со дня основания города. Деньги на памятник собирались по открытой подписке, и он символически обращен к Офицерскому клубу Черноморского флота Российской Федерации на улице Ленина (примечательно, что ее не переименовали), недалеко от Военно-исторического музея Черноморского флота в центре Севастополя. Это запоздалое признание заслуг Екатерины имеет историческое значение как реабилитация наследия царской России в городе.
Значение визита Екатерины в Севастополь было так велико, что Потемкин не хотел рисковать успехом этого события, предназначенного для того, чтобы порадовать императрицу и поразить иностранных гостей. Соответственно в январе 1787 г. он приехал на новую базу флота с официальной инспекцией. В сопровождении искателя приключений и будущего революционера из Венесуэлы Франсиско де Миранды, с которым он недавно познакомился, Потемкин убедился, что все готово или пребывает в последней стадии подготовки к визиту императрицы. Его южноамериканский гость пишет о посещении бывшего дома Маккензи, который был «продан за четыре тысячи рублей», а затем об ужине в казармах с капитаном корабля «Граф Войнович»[207]207
Archivo del General Miranda: Viajes [&] Diaros 1785–1787 [Архив генерала Миранды: Путешествия и дневники, 1785–1787], Tomo [vol.] II. Caracas: Editorial Sur-America, 1929. P. 229.
[Закрыть]. Этот скромный дом, должным образом украшенный и оборудованный, пятью месяцами позже стал резиденцией Екатерины во время ее визита в город. Несмотря на скромное происхождение, дом Маккензи стал называться дворцом и, соответственно украшенный и расширенный, на протяжении многих десятилетий служил резиденцией губернатора Севастополя.
Вскоре началось долгое путешествие Екатерины. Выехав из Санкт-Петербурга в студеный зимний день 14 (25) января 1787 г., она преодолевала заснеженные равнины в огромной карете на полозьях, «с гостиной, библиотекой и спальней», которую тянули тридцать лошадей. Двор следовал за ней на двух сотнях других саней, больших и маленьких[208]208
Durant. P. 100.
[Закрыть]. Этот огромный караван через двадцать один день прибыл в Киев. Затем последовал продолжительный и несколько суматошный раунд дипломатической активности и развлечений – многолюдные ассамблеи и частные аудиенции, роскошные балы и великолепные банкеты. В узком кругу Екатерины были иностранные гости: принц Шарль-Жозеф де Линь, фельдмаршал, доверенное лицо и посол Иосифа II Австрийского, присоединившегося к ним позже, а также британский дипломат Аллейн Фицгерберт, посланник Британии в России, и барон де Сегюр, посол Франции, поэт и писатель. Фицгерберт не оставил письменных воспоминаний об этом путешествии (увы, все его бумаги были утрачены в 1797 г., когда сгорел его лондонский дом), но, к счастью, сохранились мемуары и де Линя, и де Сегюра. Последний поделился с нами впечатлением, которое на него произвел Потемкин (он называет его могущественным и капризным), а также оставил ценное описание визита в Крым и Севастополь – именно на нем основан наш рассказ.
12 мая 1787 г. императорская флотилия наконец с большой помпой отправилась вниз по Днепру. Мэри Дюрант, повторяя легенду о потемкинских деревнях, так описывает путешествие по реке:
«По обе стороны появлялись чудеса [князя]. Его враги были поражены. Берега Днепра являли собой картину Рая. В степях паслись несметные стада коров и овец, за которым присматривали пастухи, играющие на дудочках. Живописные деревни по обоим берегам были украшены гирляндами роз. В полях маршировали отряды солдат в великолепных новых мундирах. На закате у кромки воды танцевали и пели группы веселых и беззаботных молодых крестьян в праздничном платье. С наступлением темноты на берегу начинались иллюминации и фейерверки»[209]209
Ibid. P. 102.
[Закрыть].
Но важнее развлечений были государственные дела, запланированные по дороге в Крым. Вблизи Кайдака на Днепре к императрице присоединился Иосиф II, путешествовавший инкогнито под именем графа Фалькенштейна. Екатерина стремилась произвести впечатление на австрийского императора, поскольку без его помощи любая попытка России еще больше расширить свои границы за счет Турции была обречена на провал. Два монарха вели тайные переговоры на эту тему с 1781 г.