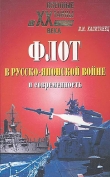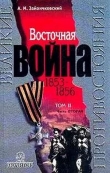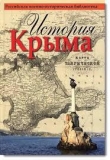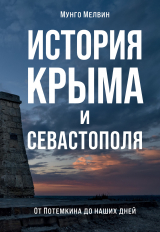
Текст книги "История Крыма и Севастополя. От Потемкина до наших дней"
Автор книги: Мунго Мелвин
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 7 страниц)
2
Основание Севастополя
ОСНОВАТЕЛЬ
В начале 1780-х гг. в Петербурге при императорском дворе появился один ныне забытый шотландский солдат удачи. Джеймс Джордж Сэмпл Лайл, которого назвали «военным авантюристом с сомнительной репутацией» и «северным самозванцем», рассчитывал получить офицерский чин в российской армии[118]118
Первое из этих описаний приводится в: James Grant. The Scottish Soldiers of Fortune; Their Adventures and Achievements in the Armies of Europe. London: Routledge, 1889, republished by Forgotten Books in 2012. P. 39. Грант еще раз нелестно отзывается о Лайле, отмечая (P. 42), что «в России [Сэмпл Лайл] был замечен в недостойных связях со знаменитой герцогиней Кингстон». Вторая характеристика цитируется Себаг-Монтефиоре (P. 219), который упоминает название книги того времени о Сэмпле Лайле: «Северный герой – удивительные приключения, любовные интриги, хитроумные планы, непревзойденное лицемерие, невероятные избавления, ужасные обманы, дерзкие прожекты и злодейские деяния» (The Northern Hero – Surprising Adventures, Amorous Intrigues, Curious Devices, Unparalleled Hypocrisy, Remarkable Escapes, Internal Frauds, Deep-laid Projects and Villainous Projects!). Другая версия этого в высшей степени критического рассказа недавно была повторно издана Eighteenth Century Collections Online Print Editions: The Northern Impostor; Being a faithful Narrative of the Life, Adventures, and Deceptions, of James George Semple, commonly called Major Semple. London: printed for G. Kearsley, 1786.
[Закрыть]. В ожидании аудиенции у князя Григория Потемкина он случайно познакомился с неким Томасом Маккензи. В своих мемуарах Сэмпл Лайл описывает его так: «Капитан русского флота, который пользовался наивысшим уважением всех, кто имел счастье быть с ним знаком»[119]119
J. G. Semple. The Life of Major J. G. Semple Lisle Containing a Faithful Narrative of His Alternate Vicissitudes of Splendor and Misfortune. London: W. Stewart, 1799. P. 10. Неизвестно, заслуживают ли доверия воспоминания Сэмпла Лайла, особенно с учетом сомнительной репутации автора. Он писал книгу в тюрьме, вероятно, с помощью «литературного раба». В этой автобиографической книге ничего не говорится о финансовых операциях самого Лайла, крайне запутанных и в основном незаконных.
[Закрыть]. Незаурядный боевой командир и энергичный организатор, Маккензи вскоре получил звание контр-адмирала и был специально выбран – хотя тут свою лепту внес и счастливый случай – для главной роли основателя Севастополя. Это событие стало венцом достижений Маккензи, и Сэмпл Лайл утверждал, что был его очевидцем.
Маккензи, шотландец по происхождению, родился 18 февраля 1740 г. (ст. ст.) и был единственным сыном контр-адмирала Томаса Маккензи и Энн Янг, внучки адмирала Томаса Гордона, который поступил на службу в российский флот в 1717 г., еще при Петре Великом[120]120
При работе над этой главой книги автору очень помогло подробное исследование Ника Огла, посвятившего несколько лет изучению флотской карьеры контр-адмирала Томаса Маккензи, которому он приходится родственником по материнской линии. Его неопубликованная рукопись (Rear Admiral Tomas Mackenzie: Life and Times with the Black Sea and Azov Sea Command 1783–1786), основанная преимущественно на русских источниках, стала для меня неоценимым справочным пособием. Большую помощь мне также оказал мистер Аллан Маккензи, прямой потомок Томаса Маккензи. Кроме того, материал этой главы в значительной степени опирается на монографию на русском языке: Усольцев В. С. Фома Фомич Мекензи. Севастополь: Арт-Принт, 2001.
[Закрыть]. Считается, что он родился в Архангельске, на севере России. Маккензи-старший был одним из нескольких опытных британских (в большинстве своем шотландских) военных моряков, поступивших на российскую службу; в 1736 г. он, капитан корабля Королевского флота, перешел на службу в российский флот, где прослужил тридцать лет, проявив себя с самой лучшей стороны. Во второй половине XVIII в. Екатерина II задумала усилить российский флот, и еще большее количество британских моряков последовали примеру Маккензи-старшего, соблазненные удвоенным жалованьем[121]121
Следуя примеру Петра I, Екатерина II поощряла прием на службу офицеров Королевского флота. В результате значительная часть офицеров российского флота были британцами, причем несколько человек занимали высокие должности, в том числе Эльфинстон, Грейг и сэр Чарльз Ноулз. Российский военно-морской флот получал и другую помощь от Великобритании: проектирование, постройку и ремонт кораблей, а также обучение российских экипажей на британских военных кораблях. См.: M. S. Anderson. Great Britain and the Growth of the Russian Navy in the Eighteenth Century // Mariner’s Mirror, 42 (1956). P. 132–146; Anthony Cross. By the Banks of the Neva: Chapters from the Lives and Careers of the British in Eighteenth-Century Russia. Cambridge: University Press, 1997. P. 183–218. Кросс полагает (P. 205), что в период правления Екатерины Великой на службу в российский флот было принято не менее ста пятидесяти британских офицеров.
[Закрыть]. Среди них были Джон Эльфинстон и Самуил Грейг, который дослужился до звания адмирала и которого иногда называют «отцом русского флота»[122]122
Grant. P. 43.
[Закрыть]. О детстве и школьных годах Томаса Маккензи до нас не дошло никаких сведений. Известно лишь, что в 1759 г. он, соблюдая семейную традицию, поступил на службу в Королевский флот, уже обладая навыками моряка. Обучившись основам морского дела, гардемарин Маккензи уволился со службы. В том же году он вернулся к родителям и в том же звании поступил в российский флот. Теперь его звали «Фома Фомич Мекензи». На разных судах он ходил по Балтийскому, Норвежскому и Северному морям, совершенствуя навыки навигации и управления. Карьера Маккензи развивалась успешно – по причине личных амбиций, знания морского дела и удивительного таланта не упускать ни одной благоприятной возможности; похоже, все три этих качества у него были наследственными. Тем не менее в профессиональном и личном плане Томас Маккензи иногда вставал на скользкий путь, или, как говорят моряки, «шел в крутой бейдевинд».
Во время войны с Турцией 1768–1774 гг. Россия впервые распространила действия своего усилившегося флота на Средиземное море. В том конфликте основная борьба развернулась за контроль над низовьями Дуная, Валахией и Молдавией; боевые действия в Крыму имели вспомогательное значение. Однако Совет, образованный при Екатерине для войны с Турцией, искал и другие способы ослабления Османской империи. Фаворит и советник императрицы князь Григорий Орлов предложил русскому флоту войти в Средиземное море[123]123
Возможно, инициатива входа российского флота в Средиземное море принадлежит его брату Алексею. – Прим. науч. ред.
[Закрыть]. Удобным предлогом для этой демонстрации силы стало греческое восстание в Морее (Пелопоннес)[124]124
Aksan. Ottoman Wars. P. 153: утверждается, что Морейское восстание «было прелюдией к прибытию русского флота»; в то же время автор признает, что оно «осложнило [османскую] мобилизацию». Эта интерпретация затрагивает спорный исторический момент: поддерживало ли греческое восстание – со стратегической точки зрения русских – развертывание российского флота или, наоборот, российский флот поддерживал его?
[Закрыть]. Греческие повстанцы, которых русские агенты поощряли и снабжали оружием, могли получить поддержку российского флота, который благодаря энергичным мерам Екатерины значительно усилился и количественно, и качественно. Более того, появлялась возможность навязать сражение турецкому флоту и разбить его, тем самым уронив международный престиж Османской империи. Екатерине понравилась эта смелая стратегия косвенного удара. Однако в то время единственный российский морской флот, способный вести наступательные операции, базировался на Балтийском море; небольшая флотилия малых судов на Азове не могла пройти через проливы Босфор и Дарданеллы и выйти в Средиземное море. Поэтому России пришлось направить свои корабли через Северное море, Ла-Манш и Восточную Атлантику. Такой далекий и смелый поход – даже с критически важной логистической помощью Британии – был серьезным вызовом для российского военно-морского флота[125]125
Этот стратегический маневр предвосхищал переброску Балтийского флота на Дальний Восток в 1904–1905 гг. во время Русско-японской войны.
[Закрыть]. А молодой и честолюбивый Маккензи, только что произведенный в лейтенанты, получил в этом походе боевое крещение.
В ноябре 1769 г. передовая эскадра российских кораблей Балтийского флота под командованием адмирала Григория Спиридова вошла в Западное Средиземноморье и встала на зимнюю стоянку на британской базе, в порту Маон на Минорке. Тем временем 20 октября 1769 г. Маккензи вышел из Кронштадта (главная российская военно-морская база на Балтике) со второй эскадрой под командованием контр-адмирала Эльфинстона. 3 мая 1770 г., после 145-дневного перехода (не считая трехмесячной стоянки для ремонта кораблей и зимовки в Спитхеде, рядом с Портсмутом), корабли Эльфинстона миновали Гибралтарский пролив, а 20 мая прибыли к северной оконечности Пелопоннесского полуострова – мысу Матапан. Через неделю эскадра Эльфинстона заметила турецкий флот и вступила с ним в бой, вынудив отойти в Эгейское море.
Затем в боевых действиях наступила короткая пауза. Две русские эскадры соединились, и общее командование перешло к графу Алексею Орлову (брату Григория); главным военным советником у него был коммодор Самуил Грейг. 5 июля 1770 г. русские обнаружили вражеский флот, стоящий на якоре в проливе между островом Хиос и побережьем Малой Азии, в районе современного Измира. На следующий день российский флот, имея всего девять линейных кораблей против турецких шестнадцати, атаковал противника. Флагман Спиридова «Св. Евстафий» вступил в бой с турецким флагманом «Бурдж-у-Зафер», который загорелся и взорвался – вместе с находившимся вплотную «Св. Евстафием». Несмотря на эту потерю, русские смогли вытеснить противника в узкую Чесменскую бухту. Маккензи, служивший на флагмане Эльфинстона, 80-пушечном «Святославе», отличился в следующем бою. В ночь с 6 на 7 июля 1770 г. Маккензи командовал одним из четырех брандеров, которые входили в состав эскадры Грейга и помогли уничтожить турецкий флот[126]126
Выдающийся российский художник-маринист XIX в. Иван Айвазовский изобразил Чесменское сражение на одной из своих самых знаменитых картин.
[Закрыть]. Вот что он сам рассказывал об этом сражении:
«[Когда я оказался] в гуще вражеских судов, крючья на моем четырехфутовом ноке зацепились за ватерштаг одного из самых больших боевых кораблей, и удача позволила мне поджечь мое судно, и через пять минуть турецкий корабль был весь охвачен пламенем. Я сошел в шлюпку, слава Богу, невредимый, и увел всех своих людей, хотя враг гнался за нами по пятам. Как только я взошел на борт корабля, лорд адмирал меня поздравили с произведением в чин капитана»[127]127
Письмо лейтенанта Томаса Маккензи от 29 июля 1770 г. опубликовано в Scots Magazine. Vol. XXXII, September 1770. P. 504. Однако эксперты расходятся относительно роли брандеров в Чесменском сражении. Например, в: John Tredea and Eduard Sozaev. Russian Warships in the Age of Sail 1696–1860. Barnsley: Seaforth Publishing, 2010. P. 85, – авторы утверждают: «Успех русских может быть объяснен успешным применением артиллерийских снарядов взрывного действия в сочетании с брандерами, а также пассивностью и некомпетентностью турецких командиров». Современные российские источники приписывают заслугу победы лейтенанту Ильину, который командовал другим брандером. См.: The History of Russian Navy, Chapter 3, Chesma and Patras (http://www.neva.ru/EXPO96/book/chap3–4.html). Вероятно, наиболее сбалансированная версия приводится Кроссом: «Когда около 2 часов ночи 25 июня (6 июля) в бой вступили брандеры, их задачу отчасти уже выполнили снаряды с “Грома”, которые подожгли один из турецких кораблей. Брандерами командовали четыре добровольца: двое русских, лейтенант Дмитрий Ильин и гардемарин князь Василий Гагарин, и двое британцев, лейтенант Томас Маккензи и капитан-лейтенант Роберт Дагдейл. Брандер Дагдейла был перехвачен турками, но Маккензи смог достичь своей цели, хотя турецкий корабль к тому времени уже был охвачен пламенем. Именно Ильин нанес врагу смертельный удар, когда приблизился к концу турецкого строя и поджег его, так что Гагарину было уже нечего делать».
[Закрыть].
За проявленную храбрость Маккензи был награжден орденом Св. Георгия IV степени.
Стратегически русские одержали решительную победу, понеся незначительные потери, – это было величайшее поражение непобедимого, как казалось, флота Османской империи со времен битвы при Лепанто в 1571 г. В огне Чесмы были уничтожены не менее пятнадцати турецких линейных кораблей; общие потери в сражении составили около девяти тысяч турецких моряков[128]128
Рассказ о походе русского флота и о Чесменском сражении также содержится в: Robert K. Massie. Catherine the Great. P. 376–377. Мэсси подчеркивает масштаб британской поддержки, в том числе «предоставление российскому флоту стоянок для отдыха, пополнения запасов и ремонта на английских военно-морских базах в Халле, Портсмуте, а также на Гибралтаре и Минорке в Средиземном море».
[Закрыть]. Такой невероятный разгром не только продемонстрировал, что российский флот превратился в грозную силу, но и поставил его в первый ряд европейских флотов. Реформы Петра I и усиленное внимание к флоту при Екатерине II окупились с лихвой. Важным элементом успеха русских были профессиональные и отважные действия британских морских офицеров, служивших под российским флагом.
После окончания военных действий против Турции Маккензи вернулся на Балтику, где продолжал достойно служить, командуя различными кораблями. Несмотря на то что в декабре 1775 г. ему пожаловали звание капитана второго ранга (эквивалент коммандера в британском флоте), отношение к нему было неоднозначным, и о нем часто отзывались не слишком лестно. Все началось с его пребывания на посту капитана 66-пушечного линейного корабля «Дерис», который входил в состав русской эскадры, развернутой у берегов Португалии. В Лиссабоне на борт корабля поднялись несколько британцев, освободившихся из испанского плена. По пути в Кронштадт зимой 1780/81 г., попав в жестокий шторм в проливе Ла-Манш, Маккензи без разрешения повернул в Портсмут, чтобы встать на ремонт. Этот инцидент пришелся на период действия Декларации о вооруженном нейтралитете (1780–1783), с помощью которой Екатерина II стремилась защитить суда нейтральных государств (таких, как Россия) от перехвата и обыска Королевским флотом, охотившимся за французской контрабандой. В этой деликатной дипломатической обстановке российское Адмиралтейство категорически запрещало русским кораблям заходить в британские порты. Поэтому действия Маккензи поставили русских в неудобное положение, усугублявшееся репортажами в британских газетах, которые писали, что заход судна «Дерис» в Портсмут был щедро оплачен. Роль Маккензи в этом деле остается неясной. Более того, он все чаще раздражал флотское начальство, не предоставляя регулярные рапорты. Адмиралтейств-коллегия осудила его поступок и постановила: «Содержать Мекензи под подозрением, пока он не искупит свою вину усердною службой, а потому таким надежным, каким он прежде считался, а также отличным и знающим морское дело почитаться уже не может»[129]129
Усольцев. С. 20.
[Закрыть].
В результате этих подозрений Маккензи был вынужден ненадолго оставить службу. К счастью для него и для российского флота, он был реабилитирован по специальному распоряжению Екатерины, которая нуждалась в опытных офицерах, уже проявивших себя в деле. 12 января 1783 г. (ст. ст.) российское Адмиралтейство присвоило ему звание контр-адмирала и направило на Азовское и Черное моря[130]130
Макареев М. В., Рыжонок Г. Н. Черноморский флот в биографиях командующих. Т. 1, 1783–1917. Севастополь: Мир, 2004. С. 18. Звание контр-адмирала было присвоено также Роберту Дагдейлу.
[Закрыть]. Он получил указание присоединиться к вице-адмиралу Федоту Клокачеву, старшему по званию и заслуженному ветерану Чесмы, который недавно был отозван из длительного отпуска по болезни и назначен командующим Азовской флотилией.
БУХТА АХТИАР
В это время князь Потемкин, генерал-губернатор Новороссии, стремился усилить влияние и активность России на юге. Как мы уже видели, всего за месяц до повышения Маккензи, 14 декабря 1782 г. (ст. ст.), Екатерина II издала секретный указ, который предписывал Потемкину захватить Крым и немедленно приступить к приготовлениям. По ее мнению, Россия должна была как можно быстрее обеспечить свое присутствие в Черном море, чтобы отразить любое возможное вторжение турок и при необходимости разгромить их.
Российское Адмиралтейство, следуя совету генерала Суворова, уже определило большую естественную бухту Ахтиар (названную по имени маленького крымско-татарского поселка на берегу моря, Ак-Яр, что означает «белый утес») как потенциальную военно-морскую базу[131]131
Добрый, Борисова. С. 16.
[Закрыть]. Были предприняты меры по рекогносцировке и установлению контроля над бухтой. В этом году Крымское ханство даже собиралось уступить бухту Ахтиар России, вероятно полагая, что это меньшее из двух зол – большим была бы потеря Крыма. Однако цель Потемкина состояла в присоединении всего полуострова, и это «предложение» отклонили. Тем не менее в ноябре 1782 г. Потемкин приказал двум фрегатам из Азовской флотилии, «Храброму» и «Осторожному», под командованием капитана первого ранга И. М. Одинцова перезимовать в бухте Ахтиар. В своем донесении Одинцов писал: «Имею честь представить сделанную Ахтиарской гавани с ее заливами, с промерами глубин и положением берегов карту, в которой как военных кораблей, так и прочих судов без всякой нужды до 50 и более установить можно…»[132]132
Цит. в: Усольцев. С. 21.
[Закрыть]
Дальнейшие события – для России, Потемкина и Маккензи – развивались очень быстро. 22 января 1783 г. Екатерина II назначила Клокачева командующим Азовской флотилией. На следующий день он отправился из Санкт-Петербурга в Кременчуг на Днепре на встречу с Потемкиным, который должен был дать ему дополнительные инструкции. Затем Клокачев поднял свой флаг на флагмане Азовской флотилии в порту Таганрога. В марте он приказал провести вторую рекогносцировку южного побережья Крыма, и особенно бухты Ахтиар, чтобы убедиться, что она подходит для базы военно-морского флота. Задание было поручено капитан-лейтенанту Берсеневу. Прибыв в Ахтиар в апреле, чтобы провести детальное обследование бухты, он увидел, что она большая, глубокая и безопасная. В своем одобрительном рапорте Берсенев писал: «Четыре бухты, закрытые от ветров горами, и пятая рейдовая, простирающаяся в длину на семь, а в ширину на полторы версты[133]133
Старинная русская мера расстояния, верста, равняется 1,067 км. Таким образом, длина главной бухты Севастополя составляет приблизительно 7,5 км, ширина – 1,5 км.
[Закрыть], при глубине десять саженей, с иловатым грунтом»[134]134
Цит. в: Ogle MS. P. 1; цит. «Адмирал Дмитрий Николаевич Сенявин», Морской сборник, т. 15, № 4, Санкт-Петербург, 1885. С. 128–129. Далее цит. как «Сенявин».
[Закрыть]. Берсенев подтвердил рапорт Одинцова о том, что Ахтиар – превосходная гавань для флота, в которой корабли могут безопасно стоять на якоре вблизи берега. Более того, местность вокруг бухты в то время не была заселена, и никто на нее не претендовал. Таким образом, это место выглядело идеальным для основания базы Черноморской эскадры, со всеми необходимыми береговыми сооружениями. Вскоре здесь возник оживленный центр, откуда российский флот смог контролировать воды региона.
8 апреля 1883 г. (ст. ст.), одновременно с рекогносцировкой Берсенева, Екатерина издала указ «взять под державу нашу полуостров Крымский, полуостров Тамань и всю Кубанскую сторону»[135]135
Черноморский флот России (исторический очерк) / под ред. адмирала В. П. Комоедова. Симферополь: Таврида, 2002. С. 37. D. Smith. P. 118.
[Закрыть]. О присоединении планировалось объявить только после того, как Потемкин выполнит свою задачу. К тому времени, когда Османская империя и ведущие европейские державы сообразили, что происходит, войско было уже в пути. К середине месяца по указанию генерал-лейтенанта графа Антона де Бальмена, командующего русскими силами в Крыму, батальон гренадер занял берег бухты Ахтиар. 1 мая 1783 г. батальон был усилен Капорским и Днепровским пехотным полками, а также батареями полевой артиллерии[136]136
Макареев, Рыжонок. С. 18–19.
[Закрыть]. Эти разумные упреждающие меры повторяли своевременные действия Суворова, который в 1778 г. не позволил высадиться в бухте турецкому десанту. По совету Бальмена Клокачев приказал направить две шхуны и фрегат на патрулирование побережья Крыма, чтобы предупредить о возможном нападении турок с моря. Единственный способ прочно удерживать в своих руках Крым, как того желала императрица, – направить сильную эскадру в бухту Ахтиар и построить там порт с соответствующей инфраструктурой; именно этим и занялся Клокачев. Под его началом находились три 44-пушечных фрегата, два 16-пушечных корабля, три шхуны и несколько малых судов.
Небольшая флотилия Клокачева вышла из Керчи 5 мая 1783 г. Несмотря на то что маршрут вокруг восточного и южного берега Крыма был относительно коротким, корабли вошли в бухту Ахтиар только 13 мая. Скорее всего, русскую флотилию задержала плохая погода, поскольку у нас нет никаких свидетельств о столкновениях с турецким флотом. Русские артиллеристы береговых батарей дали залп, приветствуя благополучное прибытие флотилии, которая стала Черноморским флотом. Не теряя времени, моряки приступили к рекогносцировке новой гавани и территории предполагаемой базы. Биограф Маккензи Владимир Усольцев так описывает обход бухты, который совершили адмиралы Клокачев и Маккензи на 12-пушечном боте «Битюг»:
«Они с любопытством рассматривали крутые, поросшие лесом южные берега бухты, развалины Инкермана, пустынные берега северной стороны бухты, побывали на позициях артиллеристов, расположившихся на северном мысу при входе в бухту. Красота, величие и дикость берегов поразили их воображение… Когда адмиралы сошли на плоский мыс, расположенный за первым заливом от входа в бухту, то они сразу же решили здесь закладывать порт»[137]137
Усольцев. С. 23.
[Закрыть].
Адмиралы высадились на южном берегу бухты в том месте, которое находится в самом центре современного Севастополя, недалеко от площади Нахимова и Графской пристани.
17 мая 1783 г. Клокачев отправил Адмиралтейств-коллегии два донесения. В первом подтверждалось, что эскадра благополучно прибыла в бухту Ахриар и что он принял под свою команду два фрегата из Херсона под командованием капитана первого ранга Одинцова, которые уже стояли на якоре в гавани[138]138
Ogle MS. P. 3, цит.: С. И. Елагин, Ф. Ф. Веселаго. Материалы для истории русского флота, Крым 1783–1785, документ 10, 6 мая 1783 (ст. ст.). Далее цит. как Материалы.
[Закрыть]. Русский адмирал с похвалой отозвался о новой бухте:
«При сем непримину я Вашему Сиятельству донести, что при самом входе в Ахтиарскую гавань дивился я хорошею ее с моря положением, вошедши и осмотревши, могу сказать, что во всей Европе нет подобной гавани – положением, величиной, глубиной. Можно в ней иметь флот до 100 военных судов. Ко всему тому же природа такие устроила лиманы, что сами по себе отделены на разные гавани, то есть – военную и купеческую…»[139]139
Усольцев. С. 23.
[Закрыть]
В своем втором рапорте Клокачев сообщал, что получил указание от Потемкина без промедления следовать в Херсон, чтобы принять командование Днепровской флотилией и «адмиралтейством», то есть военно-морской верфью[140]140
Ogle MS. P. 3, цит.: Материалы, документ 11, 6 мая 1783 (ст. ст.).
[Закрыть]. Губернатор города генерал-квартирмейстер Иван Ганнибал, ветеран Чесмы, отвечавший за строительство нового города Херсона, недавно поссорился с Потемкиным по поводу стоимости строительных работ, и его отозвали в Санкт-Петербург. Теперь его сменил Клокачев: одной из главных задач адмирала было возрождение строительства кораблей на верфях Херсона. До отплытия в Херсон 19 мая 1783 г. он в письме своему коллеге описывал достоинства превосходной естественной гавани Ахтиар: «Подобной еще гавани не видал, и в Европе действительно таковой хорошей нет»[141]141
Ibid. Материалы, документ 12, 7 мая 1783 (ст. ст.).
[Закрыть]. И он не был одинок в такой высокой оценке бухты.
После того как Клокачев был направлен в Херсон и назначен главнокомандующим Черноморским и Азовским флотом, ответственным и за корабли, и за инфраструктуру, эскадра в бухте Ахтиар перешла под начало контр-адмирала Томаса Маккензи. Ему поручили построить новую, постоянную морскую базу. Огромную помощь в выполнении этой задачи ему оказал его флаг-адъютант Дмитрий Николаевич Сенявин. Впоследствии Сенявин дослужился до звания адмирала, стал главнокомандующим Черноморским флотом и губернатором Севастополя[142]142
Данные о первом периоде в истории Ахтиара (в 1784 г. его переименовали в Севастополь) основаны на воспоминаниях Сенявина, дополненных исследованиями Усольцева.
[Закрыть].
Вскоре русские моряки начали осваивать бухту Ахтиар и находить самые удобные якорные стоянки и места для швартовки. Для первоначальной ориентировки они использовали местные татарские названия географических объектов, но вскоре заменили их своими. Ахтиар (ныне Севастополь) в буквальном смысле означает «бухта бухт»: тут их около тридцати – отсюда и древнее название «гребень» (см. карту 4). В то первое лето экипажи Клокачева и Маккензи дали названия главным бухтам. Двигаясь на восток вдоль южного берега, они наткнулись на бухту, которую татары назвали «Кади-лиман» («бухта судьи»). Здесь русские выгружали пушки с кораблей и хранили во время ремонта или зимовки, и эта маленькая бухта получила название Артиллерийской. Сегодня оживленная Артиллерийская бухта – один из главных паромных причалов современного Севастополя; здесь громкая сирена предупреждает пассажиров о скором отплытии парома на Северную сторону. Следующая бухта гораздо больше Артиллерийской: она самая большая из всех севастопольских бухт. Татары называли ее «Чабан-лиман» («пастушья бухта»), а русские переименовали в Южную. Именно эту бухту Маккензи выбрал для стоянки своей эскадры; первым на якорь там стал его флагман, фрегат «Крым».
У входа в Южную бухту на восток отходит узкий залив поменьше, где разместились линейные корабли. В результате бухту стали называть Корабельной, и это название сохранилось до наших дней. Но сегодня стоянка современных российских военных кораблей переместилась в более просторную Южную бухту. Еще дальше на восток вдоль побережья главной бухты находится залив, где команда первых двух судов, зимовавших здесь в 1782–1783 гг., оборудовала место для килевания – пристань, где очищают, конопатят и ремонтируют подводную часть судов. Естественно, этот залив стали называть Килен-бухтой. В ней до сих пор ремонтируют корабли. Напротив нее, на северном берегу, находится бухта Голландия. Как объясняет современный путеводитель по Севастополю, ее назвали так вовсе не потому, что в российском Черноморском флоте служили моряки из Нидерландов, а по аналогии с Новой Голландией (основанной голландцами при Петре Великом) в Санкт-Петербурге, где, как и здесь, находился склад леса, канатов и всего остального, что требуется для ремонта парусных судов. Моряки российского Балтийского флота, которые участвовали в строительстве Севастополя, просто воспользовались привычным названием. На северном берегу напротив Южной бухты находятся два больших узких залива, известные сегодня как Северная бухта и Старая Северная бухта[143]143
Описание бухт и истории их названий взяты из: Усольцев. С. 23; Добрый, Борисова. С. 103–107. Перед Второй мировой войной главную бухту (которую в XIX в. называли рейдом) стали также называть Северной.
[Закрыть]. В первой находится причал для паромов, направляющихся в Артиллерийскую бухту на Южной стороне. К западу от Старой Северной бухты расположена Михайловская батарея, а еще дальше на запад – бухта Матюшенко с дебаркадером для парома, перевозящего пассажиров через Севастопольскую бухту[144]144
Бухта Матюшенко названа в честь Афанасия Николаевича Матюшенко, одного из руководителей восстания на броненосце «Потемкин» в 1905 г. (см. главу 9).
[Закрыть].
СТРОИТЕЛЬСТВО ГОРОДА
23 мая 1783 г. Маккензи отправил донесение в Санкт-Петербург, в котором подтвердил отбытие Клокачева и привел подробный перечень судов, которые вице-адмирал препоручил под его флаг, поднятый на фрегате «Крым»[145]145
Ogle MS. P. 4. Материалы, документ 15, 12 мая 1783 (ст. ст.).
[Закрыть]. Главной боевой силой Маккензи была эскадра из пяти фрегатов, базировавшая в бухте Ахтиар и курсировавшая у берегов Крыма[146]146
Фрегаты № 8 «Осторожный», № 9 «Поспешный», № 10 «Крым», № 11 «Храбрый» и № 13 «Победа».
[Закрыть]. Клокачев уже указал на необходимость строительства в этом месте крупного склада и сильной крепости, не уступающей могучему Кронштадту на Балтике. Это предполагало создание с нуля полной военно-морской инфраструктуры с причалами, киленбалкой, пороховым хранилищем, сухарной фабрикой, провиантскими складами, экипажными казармами и жилым городком[147]147
Комоедов. С. 38.
[Закрыть]. Это было непростой задачей: Маккензи пришлось привлекать к работам не только своих моряков, но и солдат гарнизона и немногочисленных торговцев. Недостаток специалистов, провианта, инструментов и строительных материалов стал серьезным препятствием к основанию Севастополя.
Тем не менее под умелым и энергичным руководством Маккензи все препятствия удалось преодолеть, и строительство города началось. На первом этапе работы велись в западной части южного берега бухты. В начале июня 1783 г. после вырубки деревьев и кустарника были заложены фундаменты первых каменных зданий[148]148
Основание Севастополя увековечено в памятнике на площади Нахимова, открытом в 1983 г. и обращенном к Севастопольской бухте. На нем выбиты такие слова: «Здесь 3 (14) июня 1783 года заложен город Севастополь, морская крепость юга России». Сегодня эта дата официально отмечается как день рождения не только Севастополя, но и Черноморского флота.
[Закрыть].
Среди первых каменных построек были дом адмирала, часовня, «кузница» для будущей верфи поблизости от входа в Южную бухту и пристань. Автор биографии Сенявина так описывает скорость и ход строительства:
«Скорость, с какою ведены эти постройки, была необычайна; каждый капитан корабля спешил выстроить дом для себя и казарму для своего экипажа. Конечно, эти дома были незатейливой архитектуры… Вообще эти здания напоминали собою новороссийские хаты; но тем не менее давали возможность офицерам и экипажу укрыться от предстоявшей зимней стужи. Впрочем, не одни постройки из плетня воздвигались в порождавшемся Севастополе; заботливый Макензи стал выжигать известь, делать кирпичи и строить каменные здания»[149]149
«Сенявин». С. 130–131.
[Закрыть].
На самом деле в распоряжении русских имелся очень удобный строительный камень – они могли просто разорять развалины древнего Херсонеса. По словам биографа Сенявина, эти практичные действия (в те времена никто не задумывался об охране древних памятников)«много содействовали к скорейшему построению казарм для морских служителей, портовых мастерских, магазинов и обывательских домов». Все очень спешили, чтобы как можно больше успеть до начала зимних штормов, так что «пристань устроена была с небольшим в месяц, кузница почти в три недели»[150]150
Там же. C. 131.
[Закрыть]. 13 июля 1783 г. Маккензи докладывал президенту Адмиралтейств-коллегии графу Ивану Чернышеву, что он закончил строительство малой верфи и продолжает возведение казарм. Более того, в бухте уже начали ремонтировать корабли. Таким образом, дело продвигалось очень быстро[151]151
Макареев, Рыжонок. С. 19.
[Закрыть].
В первое лето своей службы в Севастополе Сенявин отмечал стиль руководства Маккензи, в котором строгость приказов сочеталась с веселым общением:
«Командиры собрались на обед к адмиралу. “Господа, здесь мы будем зимовать, – объявил он распоряжение Главнокомандующего. – Старайтесь каждый для себя что-нибудь выстроить. Я буду помогать Вам. Идемте кушать”. Сели за стол, обедали хорошо, встали веселы, а ввечеру допили и на шханцах танцевали».
Далее Сенявин пишет загадочную фразу, что мисс Салли очень хорошо играла свою роль, и «около полуночи бал кончился». Кто эта дама, каковы были ее отношения с Маккензи, так и осталось тайной[152]152
Цит. по: Гончаров Г. В. Адмирал Сенявин. Биографический очерк с приложением записок адмирала Д. Н. Сенявина. М.; Л.: НК ВМФ, 1945. С. 22.
[Закрыть].
Не забывал Маккензи и о духовных потребностях гарнизона и флота: 6 (17) июля состоялась первая служба в часовне Св. Николая Чудотворца. Прошло всего восемь недель после прибытия Клокачева и Маккензи в Ахтиар. В том же месяце первого суматошного лета новой военно-морской базы России в Крыму сюда с официальным поручением прибыл «майор» Сэмпл Лайл. К тому времени его приняли на военную службу, и теперь он выступал в роли адъютанта Потемкина[153]153
Себаг-Монтефиоре (Catherine the Great and Potemkin. P. 320) сомневается в том, что Лайл вообще был в Крыму в 1783 г., утверждая, что тот оставил службу в русской армии осенью 1782 г. Эта версия выглядит не слишком убедительно, если принять во внимание, как подробно шотландец описал Ахтиар и Томаса Маккензи; кроме того, Себаг-Монтефиоре не цитирует самого Лайла. Я, со своей стороны, убежден, что Сэмпл Лайл действительно приезжал в Крым и что его рассказ добавляет ценные подробности к картине основания Севастополя. Более того, Сэмпл Лайл мог действовать в интересах британского правительства, поскольку состоял в дружеских отношениях с сэром Джеймсом Харрисом, британским послом при дворе Екатерины II. Харрис был приятелем Потемкина, и можно предположить, что знакомством с Потемкиным и последующим поступлением на службу Сэмпл Лайл обязан своему покровителю. Кристина Бэкманн в статье «Майор Джеймс Джордж Сэмпл Лайл и его жены» (Major James George Semple Lisle and his wives) сообщает дополнительные подробности его биографии, в том числе его сомнительные подвиги в Париже, и отмечает, что он «был известен своими путешествиями и, похоже, не приходится сомневаться, что на самом деле он был тайным агентом, фактически шпионом». Цит. по: http://www.tufftuff.net/majorsemple.htm.
[Закрыть]. По прибытии он встретился «со своим старым другом адмиралом Маккензи, командовавшим маленьким флотом». Впечатленный тем, сколько было сделано за такое короткое время, Сэмпл писал, что «укрепления и прочие работы ведутся с великим рвением, и во всем видны признаки усовершенствования»[154]154
Semple. P. 37.
[Закрыть].
Адмирал с гостем сели в лодку, чтобы «посетить старинное здание», которое Сэмпл Лайл называет «древним Херсонесом», лежащим в «почти недоступной бухте». Не сумев добраться туда морем, они перебрались через скалы «со стороны суши». Там они увидели здание «если его можно так назвать… почти вырезанное из скалы, необитаемое, если не считать одного человека». Из этого краткого описания невозможно с уверенностью сделать вывод, что Маккензи и его гость действительно добрались до главной части древнего Херсонеса. Человек, которого они встретили, мог быть отшельником или праведником. Как вспоминал Сэмпл Лайл, «не могу сказать, что заставило его поселиться здесь, религия или желание скрыться. Немногие из оставшихся местных жителей оказывали ему уважение и снабжали всем необходимым». Адмирал Маккензи, которым Сэмпл Лайл явно восхищался, «дал строгое указание не досаждать этому человеку»[155]155
Ibid. P. 37–38.
[Закрыть].
Рассказ Сэмпла Лайла напоминает нам, что, хотя в то время в Ахтиаре почти никто не жил, а древний Херсонес был заброшен, остальной Крым оставался густонаселенным краем. Во время пребывания Лайла в Ахтиаре к ним с Маккензи приходили «местные» татарские лидеры, пытаясь умаслить новых «русских» хозяев. Каждому подарили коня. Тот, который предназначался Маккензи, был с роскошным кожаным седлом и серебряными стременами. Сэмпл Лайл вспоминает странную и даже неловкую сцену: «Маккензи с видимым удовольствием рассмотрел пугливое животное, в присутствии всей компании толкнул меня локтем и, указывая на стремя в своей руке, сказал: “Бери лошадь, а я возьму стремена – из каждого выйдет пара подсвечников”. “Если бы он сказал, две пары, – прибавил затем Сэмпл Лайл, – я не счел бы такую оценку преувеличенной”»[156]156
Ibid. P. 38.
[Закрыть]. Несмотря на некоторые сомнения в достоверности автобиографии Сэмпла Лайла или по меньшей мере некоторых ее частей, описание крымского хозяина и его владений выглядит вполне правдоподобно:
«Адмирал Маккензи, чье имя… украсило первую часть этого рассказа, направился в бухту Ахтиар, которую теперь называют Севастополем; здесь он со стремительностью, которая отличала все его действия, начал строить дом для себя, казармы для моряков, госпиталь, склады и возводить батареи, и привел бухту во вполне защищенное состояние»[157]157
Ibid. P. 25.
[Закрыть].
В Ахтиаре Сэмпл Лайл заболел, но, еще не до конца оправившись, направился в Карасубазар на Крымском полуострове, чтобы снова присоединиться к своему начальнику князю Потемкину, который сам страдал от сильной лихорадки (по всей видимости, это была малярия). Сам шотландец заболел, скорее всего, чумой, которая, как он отмечал, распространилась «среди нас». Эта болезнь стоила жизни многим русским морякам, солдатам и поселенцам в Крыму и на юге Украины, в том числе в портах Херсон и Таганрог.
Сэмплу Лайлу повезло: он выжил и смог рассказать нам о своей поездке. Клокачев докладывал в Адмиралтейств-коллегию, что за первые недели сентября в Ахтиаре умерли тридцать девять человек, а в Херсоне – еще семьдесят[158]158
Ogle MS. P. 10. Материалы, документ 44, без даты (вероятно, начало октября 1783 г.).
[Закрыть]. Вскоре после этого чумой заболел сам адмирал; он скончался в ноябре 1783 г. и был похоронен в общей могиле на окраине города. Суровая действительность военной и морской службы, не говоря уже о трудностях строительства в Ахтиаре, означала, что жизнь там была тяжелой, опасной и во многих случаях короткой. Травмы, болезни и смерть были постоянными спутниками людей, и в этом отношении ни должности, ни звания не давали никаких привилегий. В начале того же года скучавшая в разлуке с Потемкиным Екатерина переживала из-за опасностей для его здоровья на юге России. В письме от 9 июня 1783 г. (ст. ст.) она признавалась:
«Не токмо помню часто, но и жалею и часто тужу, что ты там, а не здесь, ибо без тебя я, как без рук. Прошу тебя всячески: не мешкай занятием Крыма. Пугает меня теперь зараза для тебя и для всех. Для Бога возьми и вели взять всевозможные меры»[159]159
Екатерина Вторая и Г. А. Потемкин. Личная переписка (1769–1791), письмо 661.
[Закрыть].
13 июля (ст. ст.) Потемкин (еще не получив письма императрицы) демонстрировал, что прекрасно осознает, насколько опасна свирепствовавшая на юге болезнь:
К сожалению, оптимистичное предположение Потемкина, что чуму удалось укротить, оказалось ошибочным, о чем свидетельствуют рапорты Клокачева и его смерть осенью того же года. Несмотря на практические меры, предпринимаемые для минимизации распространения болезни, медицинская наука тогда еще не знала причины смертельно опасного заболевания и не умела бороться с ним[161]161
«Черную смерть» – бубонную чуму – привезли в Западную Европу в 1347 г. генуэзцы из своего крымского порта Каффа (современная Феодосия). До Англии болезнь добралась в 1348 г.
[Закрыть]. До появления эффективных антибиотиков оставалось еще больше ста лет. В XVIII и XIX вв. вспышки чумы регулярно происходили в Стамбуле. Любая торговля с этим городом – или размещение там войск – несла с собой опасность заражения, в чем убедилась английская армия во время Крымской войны, когда многие ее солдаты умерли в госпитале знаменитой Флоренс Найтингейл в Скутари (ныне Ускюдар, район Стамбула).
Тем временем активные работы в Ахтиаре продолжались все лето, что отражено в восторженных рассказах Сенявина и Сэмпла Лайла. В рапорте Адмиралтейств-коллегии от 20 ноября 1783 г. (ст. ст.) Маккензи докладывал об успехах в Ахтиаре: «Строение для житья штаб и обер-офицерам светлиц, а нижним чинам казарм и к поклаже материалов, припасов и провиантов магазины некоторые приходят к окончанию»[162]162
Ogle MS. P. 10. Материалы, документ 46, 20 ноября 1783 г.
[Закрыть]. Он считал своим долгом умерить необоснованные ожидания, что за такой короткий срок можно было бы достичь большего, указывая на «крайний недостаток» материалов. Более того, объяснял Маккензи, с наступлением зимы транспортные суда не рисковали выходить в море, а послать в Херсон гребное судно он тоже не решался. Поэтому ему пришлось отправить фрегат, чтобы поддерживать связь со своим непосредственным начальством.