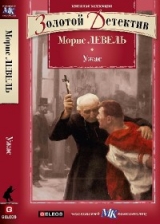
Текст книги "Ужас. Вдова Далила"
Автор книги: Морис Левель
Соавторы: Анри Ревель
Жанр:
Классические детективы
сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 16 страниц)
X
Ужас
Время, проведенное в тюрьме, сильно отразилось на самочувствии Коша. Нервное возбуждение первых дней сменилось унынием и апатией. Вначале он мог бы еще во всем сознаться, но теперь считал, что слишком много и долго лгал, чтобы это было возможно. Он ждал случая и надеялся, что он ему поможет. Но дни шли за днями, а случая не представлялось. Кроме того, репортера страшно злило, что ни в тюрьме, ни на допросах ему не удалось подметить ничего особенного. Он бы с удовольствием обнаружил факт несправедливости, грубости, нарушения закона, но все шло без каких бы то ни было эксцессов. Сторожа относились к нему гуманно, даже кротко, так что ему часто приходилось задавать себе вопрос: «О чем же я напишу, когда выйду?»
Порой к репортеру возвращалась уверенность в том, что какое-то таинственное существо заставило его впутаться в эту историю. Тогда им вновь овладевал страх перед непонятным, неизвестным роком, и он оставался лежать на койке целыми днями, уткнувшись в подушку, сотрясаемый таким сильным ознобом, что его даже несколько раз спрашивали, не болен ли он.
Однажды утром к Онэсиму пришел доктор, но Кош отказался отвечать на его расспросы и ограничился словами:
– Вы не можете ни помочь мне, ни вылечить меня. Я не сумасшедший, я только прошу, чтобы меня оставили в покое.
Мало-помалу он совсем перестал говорить и едва слушал своего адвоката, охваченный бесконечным унынием и сомнениями. Мысль, что он игрушка в руках сверхъестественных сил, столько раз приходила ему на ум, что в конечном итоге превратилась в уверенность.
Иногда Кош еще силился бороться с судьбой. Однажды, выбившись из сил, чувствуя, что теряет рассудок и что мысли его путаются, он решил покончить с этой ужасной комедией, признаться во всем, перенести какое угодно наказание, унижение, лишь бы только снова выйти на свободу и увидеть над собой небо, а главное – убедиться в том, что он все еще может управлять своей волей и своими поступками. Он бросился к двери и позвал сторожа. Но, как только тот вошел, Кош принялся бормотать бессвязные слова:
– Я вас позвал… я хотел вам сказать… нет… не стоит… мне кое-что пришло на ум…
Он внезапно осознал, что лишился дара речи, что кто-то приговорил его к молчанию. Одного слова было достаточно, чтобы спасти его: это слово он один мог произнести, но не произнесет, потому что кто-то не хочет этого.
Каким-то чудом репортер убедил себя в том, что он жертва, орудие в чужих руках. А ведь этим другим в действительности был он сам. С самого начала у Коша был один-единственный враг: его собственное воображение. Он был рабом своей болезненной слабости, и это последнее усилие, эта отчаянная попытка вырваться из-под власти того, что он считал дьявольским наваждением, привела его к убеждению, на этот раз неоспоримому, что только тайная сила, управляющая им, может заставить его принять какое-нибудь решение!
Самые несчастные сумасшедшие – это те, которые после припадка настолько приходят в себя, что понимают свое положение и со страхом ждут наступления нового припадка. Что может быть ужаснее и мучительнее мысли: «Сейчас мой рассудок помутится, и тогда, может быть, какие-то страшные инстинкты превратят меня в чудовище… и я перестану понимать, в какую ужасную пропасть толкает меня судьба!»
Подобно этим сумасшедшим, Кош был уверен, что не сможет выйти из-под власти таинственных сил. Как только он собрался признаться в содеянном, мысли останавливались в его уме, как слова иногда застревают в горле в минуту сильного волнения. На допросах он мысленно произносил слова, спасительные слова, которые положили бы конец ужасному кошмару, но сказать их вслух не мог. А между тем, оставшись один, бросившись на свою постель, закрыв лицо руками, он повторял их:
– В тот час, когда было совершено преступление, я находился у моего друга Леду, а когда я возвращался от него, мне пришла в голову мысль разыграть эту злосчастную комедию…
Он говорил это снова и снова, но стоило ему оказаться в чьем-либо присутствии, как его губы отказывались произнести слова, вертевшиеся в его голове, и он чувствовал, что воля его бессильна. Вот в каком состоянии духа Кош предстал пред уголовным судом.
В продолжение трех месяцев это таинственное дело волновало весь Париж, и Кош успел приобрести и убежденных сторонников, и ярых противников.
Так как следствие не могло установить мотивов преступления, то одни из его противников считали его сумасшедшим, а другие – обыкновенным убийцей. Всех психиатров Парижа по очереди вызывали на консультацию, но ни один не решился высказать категоричное мнение.
В день открытия суда и начала прений в зале царило необычайное оживление. Многие пришли туда как на спектакль, не только посмотреть на судебный процесс, но и показать себя во всей красе. Большая часть дам нарядилась для этого случая в новые туалеты. В местах, отведенных для публики, на скамьях адвокатов люди задыхались от жары и тесноты. Чтобы удовлетворить многочисленные просьбы, председатель приказал даже на своем возвышении поставить три ряда стульев. В душной атмосфере зала царил запах духов и разгоряченных тел. Резкий свет, падавший из высоких окон, бросал яркие пятна на лица присутствующих. Сдержанный шепот толпы вскоре перешел в гул, прерываемый плохо сдерживаемым смехом, восклицаниями и приветствиями. Но вот пристав провозгласил:
– Суд идет!
Послышался шум отодвигаемых стульев, топот ног, кашель, несколько восклицаний «тише, тише!», а затем водворилось глубокое и торжественное молчание. Председатель приказал ввести обвиняемого. В этот момент образовалась такая давка, что одна молодая женщина, взобравшаяся на барьер, потеряла равновесие и упала.
Онэсим Кош вошел… Он был страшно бледен, но держался спокойно и непринужденно. Когда дверь отворилась перед ним, он в последний раз сказал себе: «Я буду говорить, я хочу говорить!»
Он обвел толпу глазами и не увидел ни одного дружелюбного лица. Во всех устремленных на него взорах он прочитал лишь жестокое любопытство людей, пришедших сюда посмотреть, как мучают человека. Все выглядело так, словно люди пришли в зверинец в надежде, что звери разорвут на их глазах своего укротителя. Но Кош не почувствовал ни возмущения, ни ненависти.
Наступает момент, когда нравственные мучения и физическая усталость так велики, что человек утрачивает силу страдать. Каждое существо имеет способность ощущать боль только до известной степени; когда боль переходит границы, наступает бесчувственность. Кош подумал, что дошел до этого предела. Если бы в тот вечер, когда он протелефонировал «Свету» свою великую новость, кто-нибудь сказал ему: «Вот какое любопытство вы возбудите!» – он встрепенулся бы от радости. Теперь же он испытывал только беспредельную усталость и какое-то отупение. Он чувствовал, что над ним тяготеет судьба; ему оставалось только смириться и ждать.
Ясным и твердым голосом назвав свой возраст и род занятий, он сел в ожидании, когда прочтут текст обвинения. Этот акт с нагроможденными против него уликами казался ему страшнее, чем самый ужасный допрос. По мере того как читали обвинение, репортер понимал, что мнение судьи невозможно будет поколебать. Несмотря на это, он думал про себя: «Если я захочу говорить, то опровергну все их доводы. Но смогу ли я заговорить?»
Допрос прошел довольно невыразительно; все надеялись на сенсационные показания, поскольку некоторые газеты утверждали – «из верных источников» – что обвиняемый ждал суда, чтобы что-то сказать. Но на все вопросы Кош неизменно отвечал:
– Не знаю, не понимаю, я не виновен…
Когда председатель заметил ему, что он рискует, репортер только пожал плечами и прошептал:
– Что делать, господин председатель, я не могу сказать ничего другого…
И репортер снова погрузился в свое безучастное спокойствие. Когда стали вызывать свидетелей, он вышел из оцепенения, и его до сих пор равнодушный взгляд сделался более ясным. Опершись локтями на колени и положив подбородок на руки, Онэсим слушал показания.
Первым был вызван Авио, секретарь редакции «Свет». Он рассказал, каким образом Кош покинул редакцию, после того как взял на несколько часов расследование дела в свои руки. На вопрос председателя, не узнал ли Авио по голосу того, кто разговаривал с ним по телефону в ночь убийства, секретарь убежденно ответил: «Нет». Авио прибавил еще несколько подробностей: назвал сумму, которую репортер получил в кассе, час, когда он видел его в последний раз, и заметил, что Кош показался ему очень странным во время последнего разговора. Но все его показания имели второстепенное значение. Служанка Коша рассказала все, что знала, о привычках своего бывшего хозяина. Она сообщила, как нашла запачканную кровью рубашку, разорванную манжетку и золотую запонку с бирюзой. Все это показалось ей подозрительным, и если бы не скромность, требующая, чтобы прислуга не вмешивалась в дела господ, она гораздо раньше поделилась бы своими догадками с правосудием.
После нее вызвали мальчика, служащего в редакции; ювелира, у которого были куплены запонки, и почтальона, три или четыре раза носившего Кошу письма в дом номер двадцать два. Но все эти свидетели не сообщили ничего нового. Судебный эксперт сделал доклад, пересыпанный терминами и цифрами, из коих в конце концов можно было вывести, что причиной смерти старика был удар, нанесенный ножом, который, задев грудную кость, рассек сонную артерию и остановился у ключицы.
Оставался еще один свидетель – часовщик. Его вызвали, чтобы он осмотрел часы. Их нашли опрокинутыми на камине в комнате, где было совершено преступление. Его почти никто не слушал, кроме Коша, не пропустившего ни единого слова из краткого и точного показания мастера:
– Часы, данные мне для освидетельствования, очень старинного образца, но, несмотря на это, находятся в отличном состоянии. Скажу даже, что таких солидных часов теперь в продаже не найти. Стрелки стояли на двадцати минутах первого. Поскольку подобные часы заводятся раз в неделю, а эти имели еще завод на сорок восемь часов, то они, судя по всему, остановились вследствие того, что их опрокинули и маятник, лежа на боку, не мог больше двигаться. Достаточно было поставить их и слегка подтолкнуть маятник, чтобы они опять пошли. Из всего сказанного я делаю вывод, что час, указанный стрелками, указывает нам на время, когда часы были опрокинуты.
– Значит, преступление было совершено именно в это время, – рассеянно заметил председатель.
На этом закончился допрос свидетелей и был сделан небольшой перерыв. После перерыва слово было дано прокурору Республики.
Кош, несколько успокоенный точными показаниями часовщика, выслушал обвинительный акт без видимого волнения, хотя тот был просто ужасен в своей сухой, почти математической простоте.
Публика несколько раз прерывала слова прокурора одобрительным шепотом, а когда он закончил свою речь требованием, чтобы к журналисту, совершившему преступление, была применена высшая мера наказания, раздались многочисленные аплодисменты.
Кош вздрогнул, впился ногтями в ладони, но сохранил невозмутимый вид. Он сосредоточился на мысли: «Я должен говорить, я хочу говорить! Я буду говорить».
Все время, пока выступал его адвокат, репортер сидел с неподвижным взглядом, сжатыми кулаками, не видя и не слыша ничего, и только бормотал:
– Я хочу говорить, хочу, хочу!
Адвокат закончил свою речь среди гробового молчания. Из простой вежливости Кош наклонился к нему и поблагодарил его. Он ни слова не слышал из этой жалкой, решительно никому ненужной защиты.
Председатель обратился к обвиняемому и сказал:
– Хотите ли вы что-либо прибавить в свое оправдание?
Кош поднялся, делая над собой страшные усилия, чтобы заговорить. Он был так бледен, что сторожа бросились к нему, желая поддержать, но он жестом отстранил их и твердым голосом, заставившим вздрогнуть судей и всех присутствующих, произнес:
– Я не виновен, господин председатель, и докажу это. – Он глубоко вздохнул и на секунду остановился; в глазах его выразилось страшное напряжение воли, губы его раскрылись; людям, сидевшим ближе к нему, показалось, будто он шепчет: «Я хочу!» И вдруг, подняв руку, точно отгоняя какое-то грозное видение, Кош скорее прокричал, чем сказал: – В двадцать минут первого, когда было совершено преступление, я, невиновный, находился у моего друга Леду, в доме номер четырнадцать по улице генерала Аппера…
И, обессиленный, обрадованный победой, одержанной над таинственной силой, которая до сих пор парализовала его волю, он упал на скамью, рыдая от усталости, нервного потрясения и счастья.
Все присутствующие мгновенно поднялись со своих мест. Начался такой шум, что председатель вынужден был пригрозить, что велит освободить зал. Когда, наконец, удалось восстановить относительную тишину, он обратился к Кошу со следующими словами:
– Не пытайтесь лишний раз обмануть нас. Подумайте о последствиях вашего заявления, в случае если оно окажется ложным. Советую вам еще раз хорошенько подумать!
– Я все обдумал. Я говорю правду! Клянусь вам! Пусть спросят Леду…
– Господин председатель, – обратился адвокат, – я прошу, чтобы этот свидетель был немедленно вызван.
– Таково и мое намерение. В силу данной мне власти я приказываю, чтобы названный обвиняемым свидетель был немедленно приведен в суд. Пусть один из сторожей отправится к господину Леду и приведет его сюда. Объявляется перерыв.
Заявление Коша как громом поразило всех. Его немногочисленные сторонники торжествовали; остальные же, будучи не в состоянии отрицать решающее значение подобного алиби, все же сомневались в его достоверности. Больше всех были изумлены присяжные и судьи. Они уже составили свое заключение после речи прокурора и почти не слушали речь защитника; теперь же, если Кошу удастся доказать свою невиновность, все обвинение рухнет. Что же касается адвоката, то он только повторял своему клиенту: «Почему вы молчали столько времени, почему раньше этого не заявили?» На что Кош давал один и тот же кажущийся неправдоподобным, а между тем правдивый ответ: «Потому что я не мог говорить!»
В течение часа в зале суда и прилегающих к нему кулуарах царило необычайное оживление. Когда раздался звонок, все ринулись в зал. Невозможно было водворить порядок, и сторожа, не будучи в силах сдержать толпу, впустили всех желающих. Наконец, судья вошел, разговоры сразу прекратились, председатель приказал ввести обвиняемого. Тогда среди гробового молчания к решетке приблизился сторож, поклонился и произнес:
– В доме номер четырнадцать по улице генерала Аппера мне сообщили, что господин Леду, рантье, умер пятнадцатого марта текущего года.
Кош поднялся, бледный как смерть, схватился руками за голову, вскрикнул и упал как подкошенный.
Прокурор уже говорил:
– Господа присяжные, мне кажется, совершенно излишне указывать вам на всю важность подобного известия. Даже если бы господин Леду мог явиться сюда и дать свое показание, обвинение сохранило бы всю свою силу. Теперь же, я надеюсь, вы не позволите смутить себя этим смелым алиби, благодаря которому Онэсим Кош хотел заронить искру сомнения в ваши души. Я не нахожу нужным прибавить что-либо к моей обвинительной речи. Вы будете судить и, я уверен, без всякого снисхождения вынесете обвинительный приговор.
– Господин председатель, – попробовал было возразить адвокат, но Кош, очнувшись, схватил его за плечи, несвязно шепча: – Ради бога… ни слова больше… Все кончено… умоляю вас… все кончено… кончено… кончено…
Присяжные, еще до перерыва враждебно настроенные против репортера, теперь недолго совещались. Через десять минут они вернулись в зал. На все вопросы они единогласно ответили: «Да, виновен», а на смягчающие вину обстоятельства дали единогласный ответ: «Нет, не имеются».
В момент произнесения приговора Кош уже ничего не соображал и был близок к обмороку. Ужас охватил его. Он слишком поздно преодолел свой суеверный страх и только теперь понял, что три месяца боролся с призраком; теперь его могло спасти только чудо, но надеяться на это чудо было бы безумием. Он испытал весь ужас, какой только может выпасть на долю человека. Глаза его, жалкие глаза затравленного зверя, с завистью останавливались на лицах всех этих людей, которые выйдут сейчас на улицу, будут свободно вдыхать весенний чистый воздух, потом вернутся домой, к семейному очагу, у которого так отрадно отдохнуть от житейских невзгод и треволнений, подобно моряку, укрывающемуся от морских бурь в тихой бухточке, над которой мирно светят звезды.
Его мысли были внезапно прерваны чьим-то голосом, сначала доходившим до его слуха как неясный отдаленный шум, а потом прозвучавшим как удар грома:
– Онэсим Кош приговорен к смертной казни.
Затем до репортера донеслось:
– Дается три дня, чтобы подать кассацию…
Кош почувствовал, что его выводят, что кто-то пожимает ему руку… и он очутился в своей камере, на постели, не отдавая себе отчета в случившемся, и заснул мертвым сном.
Ночью ему снился кошмар. Он только что убил старика на бульваре Ланн. Теперь он ползком пробирается к двери, спускается с лестницы и выбирается на улицу. Холодный ветер режет ему лицо, он останавливается, точно пьяный, с дрожащими ногами и пустой головой; кругом тишина, ни шороха, ни звука. Дрожа, он поднимает воротник пальто, делает шаг, другой, останавливается на мгновение, чтобы сориентироваться в ночной темноте, и идет дальше.
Он идет медленно и постепенно осознает весь ужас совершенного им преступления. Он видит перед собой мертвеца, распростертого на постели, с перерезанным горлом и открытыми веками над мертвыми закатившимися зрачками.
Вот темный и пустынный переулок. Измученный, с дрожащими коленями, он прислоняется к стене. Вдруг среди полной тишины ему чудится звук шагов. Он прислушивается, затаив дыхание. Шаги становятся все громче и отчетливее. Он, крадучись, пробирается вдоль домов. Идущий направляется за ним. Перед ним открывается слабо освещенная улица, тихая и пустынная. Охваченный ужасом, он мчится по ней, как олень, преследуемый собаками. Он чувствует в груди боль, словно от раскаленных углей. Он все бежит, теряя представление о времени и только надеясь, что скоро наступит рассвет, проснутся люди и наполнят эту страшную окружающую его пустоту, наводящую на него ужас. Одержимый этой надеждой, он собирает последние силы и все бежит, бежит; пересекает одну улицу, другую, поворачивает в разные стороны, бежит неизвестно куда, потеряв дорогу, а вокруг него глубоким сном спит Париж. Он бежит, задыхаясь от усталости и страха, и наконец перед ним на горизонте занимается пасмурный, грустный дождливый день! Но все же день! День! Вновь раздается неясный шум: точно гул толпы. Там, впереди, волнуется какая-то темная масса, словно волны в океане… Что это! Неужели опять ночные призраки? О нет, нет! Перед ним люди… Наконец-то! Кончились ночные страхи, ночное одиночество. Он сейчас приблизится к живым существам и останется среди них… Он прислушался. Резкий голос покрыл рокот толпы. Краткий звук, подобный шуму ветра, шевелящего сухие листья. Светлая полоса прорезала прояснившееся небо. Конец ночной тревоге, ужасному одиночеству. В эту минуту толпа расступилась, будто для того, чтобы очистить ему дорогу. Он сделал шаг вперед и вдруг упал на колени: в своем слепом страхе он не видел, куда привело его бегство, и теперь перед ним, как страшный призрак, стоит с простертыми к бледному небу руками гильотина!
С криком ужаса Кош проснулся. На одну минуту его охватило радостное чувство пробуждения после приснившегося кошмара, но тотчас вернулась действительность, еще более ужасная, чем сон.
Гильотина! Блестящий нож, корзина, куда скатываются головы. Он все это увидит, переживет! Кош закусил подушку, чтобы не завыть от ужаса. Прощайте, спокойные ночи! Мирные дни! Между ним и всем тем, что он когда-то любил, желал, на что надеялся, теперь стоит это отвратительное чудовище, заслоняя от него саму жизнь.
На другой день к репортеру пришел адвокат, чтобы дать ему подписать кассационную жалобу и просьбу о помиловании. Кош только пробормотал: «К чему все это?» – но все же подписал. Положив перо, он устремил на защитника свои расширенные от ужаса и лихорадки глаза и сказал:
– Послушайте… Вы должны знать правду… Я должен вам сказать…
И, задыхаясь, прерывая свой рассказ беспорядочными жестами, он сообщил адвокату о том, как провел ночь убийства: рассказал про обед у Леду, встречу с бродягами, посещение дома, где было совершено убийство, и внезапную мысль, пришедшую ему на ум, – сбить с толку полицию и симулировать убийство, навлечь на себя подозрения.
Он замолчал. Адвокат взял его руку в свои и тихо сказал:
– Нет, право, не стоит. Председатель вас помилует. И тогда вы заново начнете вашу жизнь…
– Так, значит, – закричал несчастный, – вы думаете, что я лгу? Но я не лгу, слышите… я не лгу… Уходите!.. Уходите отсюда!
И, вне себя от отчаяния, он бросился на адвоката, взревев:
– Да уходите же! Разве вы не видите, что сводите меня с ума!
Когда Кош остался один, им овладело безумное отчаяние. Так, значит, даже тот, кто взялся защищать его, не мог поверить в его невиновность!
Страх перед смертью все усиливался, и Кош отчаянно цеплялся за жизнь, рвал на себе волосы, царапал лицо, рыдая:
– Я не хочу умирать! Я ничего не сделал!
Он сделался кротким, боязливым, как будто молил всех о пощаде, как будто самый незначительный из сторожей мог спасти его от эшафота. Когда репортера перевели в тюрьму Ла-Рокетт, состояние его ухудшилось. До тех пор он еще мог порой, на несколько секунд, забыться, но тут, в этих стенах, видевших только приговоренных к смерти, мысль о гильотине уже не покидала его, и еще яснее рисовались в его уме страшные картины: все великие преступники прошли через эту тюрьму, спали на этой постели и, опершись на этот стол, содрогались от ужаса при мысли о приближающейся каре. Кош уже не был подобен обычным людям, он принадлежал к отдельному классу, стоящему вне закона, на пороге смерти. Его остригли, обрили ему усы, и, проводя рукой по лицу, он сам себя не узнавал. Онэсим забыл почти все слова и помнил только те, которые имели отношение к его близкой смерти. Забившись в угол камеры, опершись локтями на колени и положив голову на руки, он рисовал себе картины казней, подобных той, которая ожидала его.
Он представлял себе последнюю ночь, пробуждение и серую площадь под серым небом, мокрые крыши домов, скользкую, блестящую мостовую, но яснее всего он видел гильотину с ее громадными красными руками и беззубым смехом ее жадной пасти.
Каждый день его посещал священник. Мало-помалу Кошем овладевал суеверный страх, потребность стать под чью-нибудь защиту, быть выслушанным, ободренным. Все это внушало ему что-то вроде боязливой набожности, наполненной таинственными видениями. Он ничего не говорил, только жадно слушал священника, машинальным жестом касаясь своей исхудалой шеи, точно нащупывая то место, где пройдет нож. Но даже со священником он избегал касаться вопроса о своей близкой смерти, ведь, когда ему говорили о раскаянии, об искушении, эти слова не имели для него никакого смысла… За какое преступление он должен был поплатиться? Какой проступок должен был искупить? Ведь если Бог действительно всеведущ, то он знает, что он, Кош, предстанет невиновным пред его судилищем!
Наступил сороковой день заключения; Кош знал, что его кассационную жалобу оставили без внимания, и мог надеяться только на милосердие председателя. Кош внезапно обратился к священнику со словами:
– Отец мой, скажите мне по совести и чести, если бы вы были на месте председателя, подписали бы вы мое помилование? Ответьте мне искренне, как честный человек. Мне необходимо это знать.
Священник посмотрел ему в глаза и ответил:
– Нет, дитя мое, я бы не подписал. Возмездие необходимо…
Странное дело, этот ответ почти успокоил Коша. Мучительнее всего для него было сомнение. Он не решался готовиться к смерти. Теперь все было кончено, он считал себя уже мертвым и думал, что, настроив себя таким образом, ему легче будет переносить ужас пробуждения. Но чем ближе был день казни, тем тяжелее становились кошмары по ночам. При малейшем шорохе он вскакивал с постели, прикладывал ухо к стене, пытаясь угадать, что происходит на улице, на площади. И когда наступал день, когда он убеждался, что еще не сегодня его казнят, он засыпал тревожным сном, прерываемым стонами и рыданиями.
В конце сорок третьей ночи ему послышались отдаленный шум, стук молотков по дереву, приглушенные шаги. У Коша застучали зубы. Он старался не слушать, боясь получить подтверждение своей догадки. Уставившись глазами на дверь, он с ужасом ждал, что вот-вот она откроется, и на пороге появится палач! И дверь открылась.
Онэсим Кош бессмысленным взглядом посмотрел на людей, окруживших его, и встал, не проронив ни слова, не сделав ни жеста. Его спросили:
– Не хотите ли вы прослушать обедню?
Он машинально кивнул. В течение всей службы он упорно смотрел на щель, разделявшую две плиты пола, и думал о том, что нож не оставит на его шее столь широкий след.
Затем пришел черед последнего туалета; Кош уже ничего не сознавал; он только чуть-чуть вздрогнул, когда ножницы коснулись его затылка и когда ему связывали руки и надевали оковы на ноги. Ему предложили папиросу и рюмку коньяку, он отказался. И вдруг раскрылись двери, и горизонт, в продолжение пяти месяцев ограничивавшийся для него стенами камеры, расширился перед ним; он почувствовал весеннюю свежесть, страшная тишина наполнила его уши, тишина такая глубокая, такая полная, что среди нее, как колокол, раздавались удары его измученного сердца. Кошмар становился действительностью. Из-за плеч священника он увидел гильотину.
Солнце начинало всходить, за домами порозовело небо. Глаза Онэсима, открывшиеся сегодня в последний раз, с нечеловеческой жадностью смотрели на мир. Он сделал шаг, споткнулся, его поддержали. Священник прошептал:
– Господь да простит вас!..
Прокурор обратился к Онэсиму дрогнувшим голосом:
– Не желаете ли сделать какое-нибудь заявление?..
Собрав последние силы, он открыл уже рот, чтобы закричать: «Я не виновен!» Его колени уже касались плахи, но вот Кош посмотрел в сторону и вдруг, несмотря на державших его людей, несмотря на кандалы, отскочил назад с нечеловеческим криком:
– Там! Там! Там!
Его пытались сдвинуть с места, заставить идти, но он точно прирос ногами к мостовой, сразу почувствовав какую-то исполинскую силу; он стоял подавшись вперед и продолжал отчаянно кричать:
– Там! Там!
В этом крике было что-то до того страшное и душераздирающее, что даже палачи на секунду смутились. Священник взглянул туда, куда показывал Кош, из толпы послышались крики ужаса.
Солдат, стоявший на карауле, упал навзничь; двое мужчин и женщина пытались пробиться через толпу, которая могучим натиском опрокинула заграждения и хлынула в пустое пространство, где приговоренный к смерти выбивался из рук державших его людей, не переставая реветь:
– Держите их! Вон убийцы! Там! Там!
Священник бросился вперед с криком:
– Двое мужчин!.. Женщина!.. Держите! Держите их…
Двадцать рук сразу схватили их. Один из мужчин вынул нож. Женщина отчаянно закричала. Священник бросился к Кошу, обвил его руками и с мольбой обратился к прокурору:
– Во имя всего святого! Не трогайте этого человека…
Приговоренный стоял неподвижно. Крупные слезы катились по его изможденному лицу. Прокурор и пристав стали совещаться между собой. Пристав сказал:
– Я снимаю с себя всякую ответственность, казнь в данную минуту немыслима. У меня нет стольких людей, чтобы сдержать эту толпу, будет побоище. Умоляю вас, подумайте об этом.
Прокурор был вынужден произнести:
– Уведите приговоренного обратно.
Странная психология толпы! Все эти люди, прибежавшие сюда, чтобы увидеть, как умирает человек, взревели от радости, когда его вырвали из рук палача.
А произошло, собственно говоря, вот что. В тот момент, когда Кош уже поднимался на эшафот, он увидел в первом ряду зрителей тех двух мужчин и женщину, которых встретил в ночь убийства. Этой секунды, показавшейся ему целой вечностью, было для него достаточно: черты их слишком хорошо врезались в его память. Он сразу узнал рыжие волосы женщины, искривленный рот одного из мужчин и обезображенное страшным шрамом лицо другого.
Что заставило их прийти сюда, чтобы увидеть казнь невинного человека, искупающего их вину? Говорят, что в дни смертных казней все те, кого в будущем ожидает такая же участь, приходят, чтобы научиться умирать. В данном случае к желанию посмотреть примешивалось зверское удовольствие при мысли о собственной безнаказанности.
Когда преступников схватили, они вначале пытались отрицать свою вину, но к Кошу уже вполне вернулись рассудок и самообладание. Его очные показания, рассказанные им подробности относительно встречи с этими людьми, описание раны одного из них – все это привело их в замешательство и выдало преступников. Женщина созналась первой, за ней мужчины. В их лачуге были найдены почти все украденные вещи и нож, которым был зарезан старик. Через несколько дней, когда странное поведение Коша сделалось всем понятным, его выпустили на свободу – не оправданного законом, но освобожденного в ожидании, пока кассационный суд пересмотрит его дело…
Когда Кош в первый раз очутился на улице, на свободе, у него закружилась голова, и он заплакал.
Была ранняя весна. Никогда еще жизнь не казалась ему такой легкой и прекрасной! Он содрогнулся при мысли об ужасной драме, пережитой им, о красоте, о прелести всего того, что он едва не потерял, о той пропасти безумия, в которую он погрузился, и, глядя на распускающиеся почки деревьев, на блестящую молодую траву и бездонное небо, по которому плыли легкие облака, он понял, что ему мало будет целой жизни, чтобы налюбоваться на все это. И Кош улыбнулся с бесконечной жалостью, подумав, что ничто – ни богатство, ни слава – не стоит того, чтобы из-за обладания ими рисковать простой радостью жить.






![Книга Доллары за убийство Долли [Сборник] автора Жорж Сименон](http://itexts.net/files/books/110/oblozhka-knigi-dollary-za-ubiystvo-dolli-sbornik-198558.jpg)

